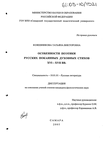Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Феномен бытовой повести в русской литературной традиции XVII в 20
1.1. История изучения бытовых повестей XVII в 20
1.2. Бытовая повесть и переводные новеллы (особенности сюжетосложения) 48
1.3. У истоков жанра 85
Глава 2. Бытовая повесть в контексте русской городской культуры XVII в 110
2.1. Город в российской культуре 110
2.2. Бытовая повесть как рефлексия городского самосознания 125
2.2.1. Городское сознание и массовая литература 125
2.2.2. Круг чтения городского населения Сибири XVII-XVIII вв 136
Заключение 157
Список сокращений 163
Список литературы 164
- История изучения бытовых повестей XVII в
- Бытовая повесть и переводные новеллы (особенности сюжетосложения)
- Город в российской культуре
- Городское сознание и массовая литература
Введение к работе
Изучению бытовых повестей XVII в. в отечественном литературоведении уделено немало внимания. Начиная с момента их открытия (в конце XIX в.) и до сегодняшнего дня интерес к этой проблеме не угасал и реализовался в разработках на текстологическом, поэтологическом, лингвистическом, феноменологическом уровнях1. Первооткрывателем повестей XVII в. был известный литературовед А.Н. Пыпин2, исследовавший их с позиций культурно-исторической школы. В аспекте сравнительно-исторического метода и культурно-мифологической школы над ними работал Ф.И. Буслаев , в свете теории заимствований сюжетов изучал повести А.Н. Веселовский4.
В XX в. была предложена текстологическая проработка памятников (Д.С. Лихаче», Н.С. Демкова, Р.Ф. Дмитриева, М.А. Салмина, Е.К. Ромо данов екая, О.Д. Журавель, М.Н. Климова), в поэтологическом аспекте - В.И. Ткша, И.В. Кузнецов. Продолжением традиции мифо-поэтического осмысления стали публикации И.П. Смирнова.
Сюжетная сторона повестей разработана в трудах мифологической школы, где они возводятся к фольклорным источникам (Ф.И. Буслаев), навеяны мотивами восточных сказок (М.О. Скрипиль), или бродячими мотивами европейской книжной культуры (А.Н. Веселовский). Часть сюжетов считается восходя-
' Например: Евстафиев П.В. Древняя русская литература. СПб., 1879. Вып. II. С. 163-165; Скрипиль М.О. Повесть о Савве Грудцыне //ИРЛ. М.;Л., 1948. Т. II. Ч. 2. С. 222-227; ДемковаН.С, Лихачев Д.С, Пан-чешео А.М. Основные направления в беллетристике XVII в. // Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 476-561; Лихачев Д.С. Иносказание "жизни человеческой" в Повести о Горе-Злочастии" // Вопросы изучения русской литературы ХІ-ХХ веков. С. 25-27; Адрианова-Перетц В.П. К вопросу об изображении "внутреннего человека" в русской литературе XI-XIV веков //Вопросы изучения русской литературы ХІ-ХХ веков. М.;Л., 1958. С. 15-24; Панченко A.M. Повесть о Фроле Скобееве // ТОДРЛ. Т. Т. XLI. Л.. 1988. С. 94-96; Покровская В.Ф. Повесть о Фроле Скобееве// ТОДРЛ. I. М.,Л., 1934. С. 149-197; ДемковаН.С, Дмитриева Р.П., Салмина М.А. Основные проблемы в текстологическом изучении оригинальных древнерусских повестей // ТОДРЛ. XX. М.,Л.: Наука, 1964. С. 139-179; Ромодановская Е.К. Западные сборники и оригинальная русская повесть. (К вопросу о русификации заимствованных сюжетов в литературе XVII - начале XVIII в.) // ТОДРЛ. Т. XXXIII. Л.. 1979. С. 164-174. С. 164; Журавель О.Д. Сюжет о дого-ворс человека с дьяволом в древнерусской литературе. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. - 234 с.; Демин А. С. Представление о переменчивости жизни в русской литературе XVII в. // ТОДРЛ. Т. XXX. Л., 1976. С. 149-164; Матхаузерова С. Две теории текста в русской литературе XVII в. // ТОДРЛ. Т. XXXI. Л., 1976. С. 271-284 и многие другие.
2 Пыпин А.Н. Для любителей книжной старины: Библиографический список рукописных романов, повестей, сказок, поэм и пр. - в особенности из первой половины XVIII в. Дополнения // Сб. Общества любителей Российской словесности на 1891 год. М., 1891. С. 556; Пыпин А.Н. Древняя повесть // Вестник Европы. С. 738-784.
1 Буслаев Ф.И. Повесть о Горе-Злочастии // Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. I. 643 с; Буслаев Ф.И. Повесть о Горе-Злочастии // Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861. Т. I. - 643. л Веселовский АН. Глава о повестях // А Галахов. История русской словесности, древней и новой. СПб., 1880. Т. 1. Отд. 1. С. 474-480; Веселовский А.Н. Из истории романа и повести. Материалы и исследования: в 2 тт. СПб., 1888.
щей к ранней патериковой традиции (повесть о Евладии, сказание о Месите чародее и др.)5.
Так, изучая текстологию древнерусских повестей Н.С. Демкова, Р.П. Дмитриева и М.А. Салмина обратили внимание на сложность понимания самого термина "повесть" в древнерусской литературе6. Согласно существующим определениям, древнерусская повесть, это - "повествовательные произведения разно-го характера" . В связи с такой формулировкой каждому произведению требуется уточняющая характеристика. В этом случае жанр получает функциональное толкование, за пределами которого оказывается генетическая связь культуры и литературы, т.е. культурной среды, сформировавшей и породившей интересующие нас произведения. Закономерно, что в отечественном литературоведении существует значительная разнородность жанрового определения и повестей XVII-XVIII вв., которые назывались первым русским романом8, типичной плутовской новеллой9, древнерусской новеллой10.
Проблема жанрового определения повести XVII в. состоит в том, чтобы исследовать этот феномен не как устоявшуюся канонизированную дефиницию (повести морально-дидактические / бытовые, или беллетристические / городские), а как становящийся литературный феномен переходного периода, как "случай литературы", не осознающий своей литературности, а потому открытый, с точки зрения жанра, влияниям как восточной, так и западной традиции.
Современное толкование понятия древнерусской бытовой или морально-дидактической повести не осознавалось в подобных формулировках носителями древнерусской культуры и не нуждалось в точных дефинициях. Отсюда и свободное оперирование жанровыми подзаголовками авторами средневековых произведений: "сказание и повесть", "сказание и страсть и похвала", "житие и повесть досточюдна и дивна", житие и деяние и хождение", "повесть и чюдеса" и т.д.
Если западная средневековая схоластика выработала свою поэтическую систему, опираясь на литературную традицию античности, то русское средневековье воспринимало западноевропейские культурное влияние на различных уровнях- композиционном, персонажном, иконологическом и др.
5 Журавель О.Д. Сюжет о договоре человека с дьяволом в древнерусской литературе. Новосибирск:
Сибирский хронограф, 1996.
6 Демкова Н.С, Дмитриева Р.П, Салмина М.А. Основные проблемы в текстологическом изучении ори
гинальных древнерусских повестей// ТОДРЛ. XX. М.,Л.: Наука, 1964. С. 139-179. С. 139.
7 Повесть древнерусская // Краткая литературная энциклопедия. М.: Сов. Энциклопедия, 1968. С. 817-
819.
8 Лихачев Д.С. Предпосылки возникновения... С. 39.
9КусковВ.В. История... С. 261.
10 КаганМ.Д. Повесть о Карпе Сутулове // ТОДРЛ. Т. XLI. Л.. 1988. С. 69-73.
Появление произведений нового типа в XVII в. свидетельствует о внутренней необходимости литературы этого периода к воспроизведению новых жанровых форм; которые воспроизводились нерефлексивно: используя традиционные религиозно-нравственные произведения, или адаптируя западноевропейские сборники новелл XIV-XV вв.
Проявившаяся актуализация авторского начала, появление нового "литературного" героя входит в средневековое сознание постепенно, преодолевая традиции анонимной, неличностной литературы, снимая социальные и культурные запреты. Этот процесс был длительным и литературные авторитеты обрели свой голос лишь в литературе XVIII в. Отдельные элементы авторского сознания начинают проявлять себя с именами Нестора, Афанасия Никитина, Федора Курицына, однако, это пока еще исключение из общего правила. Они еще не отделены от корпоративного хора религиозной, духовной литературной традиции. Авторское сознание в его современном представлении, начинает формироваться в культурной среде городского сообщества, т.е. среди массы, осознающей себя множеством индивидуумов вместе с возникновением посадской культуры -культуры "безмолвствующего большинства" (А.Я. Гуревич), неожиданно обретшего право на личностную жизненную позицию.
Свидетельством и первым проявлением такой позиции становится новый тип "эмансипированного" литературного героя - Саввы Грудцына, доброго молодца, Фрола Скобеева, Татьяны Сутуловой. Герой пока еще не выделен из коллектива, он типичен, является представителем своей среды, как и его анонимный автор, однако процесс индивидуализации начинается вместе с противопоставлением личности коллективному и традиционному сознанию. Разрыв героев повестей XVII в. с патриархальным укладом, конфликт "отцов и детей" в средневековой литературе является первым этапом освобождения личности, преодоления или желания преодолеть давление своих предшественников, которое становится возможным вместе с осознанием авторитета личности.
Книжное слово, чтобы стать значимым, нуждается в живой среде обитания. Поскольку бытовая повесть была порождением городской культуры, отсюда естественно обращение к книжной культуре, к социокультурному изучению города, где жила рукописная и старопечатная книга книга.
В таком контексте город исследовался в сочинениях М. Вебера11 и классиков отечественной урбанистики В.Л. Глазычева12, Н.П. Анциферова13 и др.
11 Вебер М. Город. 1923; Вебер А. Рост городов в 19 столетии СПб., 1903.
12 Глазьмев В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды М. 1984; Глазычев В.Л. Дух
места // Освобождение духа. М., 1991; Глазычев В.Л. Социально-экономическая интерпретация город
ской среды М., 1984;
Эти труды послужили теоретической основой нашего дискурса и позволили осмыслить сложный социокультурный материал. Личность горожанина опосредована городским бытом и городским образом жизни. С одной стороны, городской образ жизни существенно отличается от сельского уклада - горожанин не так зависим от природных ритмов жизни, как сельский житель, он подчиняется не природному, но в большей степени социальному механизму. Горожанин - недавний житель сельской общины, не до конца разорвавший с ней связь (родовую и социальную), хорошо помнит свою "сельскую" природу, и ощущает разрыв с ней как трагедию (в чем и заключается специфика городского сознания - с осознания своей выделенности, инаковости, "культурности"). Личность горожанина оказывается зависимой от двух противоположных стихий - природной и социальной, которая и определяет отныне модель его поведения - стремление к преодолению разрыва между социальным и природным.
Специфику городского сознания, менталитет средневекового горожанина вскрывает в своей работе А.Д. Михайлов. С его точки зрения, XIII век был веком городской литературы в Западной Европе, положившей начало развитию новых жанровых направлений, приведших к расцвету литературы и искусства Возрождения в странах Средиземноморья. Исследователь акцентирует важность "городского" этапа развития средневековой литературы, связывая между собой поэтику и социологию жанра. В этом отношении социокультурная ситуация, / сложившаяся в Западной Европе в ХІІ-ХІП вв., в какой-то мере сопоставима с культурными переменами, происходящими в российском государстве в конце XVII - начале XVIII вв.. В это время в Московской Руси, как ранее в Западной Европе, происходит формирование посадской культуры, образа жизни, менталитета "городского" сознания средневековья, который служил "заказчиком" и "исполнителем" новых литературных, и в частности жанровых форм, приведших к переустройству русской литературы и ее жанровой системы в целом.
Одной из главных задач исследования стало изучение природы жанра. Разность определений повестей XVII в. объясняются описательным характером определений, в то время как необходимо описать процесс формирования жанра. Общая культурологическая концепция помогает рассмотреть факторы развития городской культуры, литературы и шире - мировоззрения в России XVII в. в едином контексте сложных процессов взаимовлияния, антитетичности и слияния разнонаправленных тенденций в общем потоке культурного развития переломного века.
13 Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. Л. 1926; Анциферов Н.П. Город
как выразитель сменяющихся культур. Л. 1926.
14 Михайлов А.Д. Старофранцузская городская повесть (фаблио) и вопросы специфики средневековой
пародии и сатиры. М, 1986. С. 4.
Смешение стилей, сюжетов, мотивов происходит, по определению В.П. Адриановой-Перетц, на уровне генетического родства сатирической литературы и городских новелл XVII в. с сюжетами басен Эзопа, западноевропейских фацеций, жарт, фольклорного материала . Характерно и замечание исследовательницы о происхождении новых жанров древнерусской литературы в среде городского мещанства, ориентирующихся в фольклорном, сказочном материале, народных обычаях1 , и, кроме того, - нравственно-дидактической религиозной литературой. Литература постепенно выходила за рамки церковно-дидактической тематики, сюжетостроения, жанров религиозной традиции, однако, в основном сохраняя их поучительную тенденциозность, морализаторство и дидактизм. И.Н. Голенищев-Кутузов, говоря о заимствовании светской беллетристики из западноевропейских источников, отметил, что "заманчивый сюжет, авантюрные и любовные подвиги ... ценились, но при этом соблюдались рамки общепринятой морали и не допускались тенденции, которые могли бы обеспокоить или возму-
тить привычный уклад мышления" . Именно поэтому, с точки зрения исследователя, "приключенческая и любовная повесть западноевропейского Средневековья легче и быстрее усваивалась на Руси, чем ренессансная новелла. Пороки должны были подвергаться заслуженному наказанию, добродетель и невинность
1 Я
торжествовать" . Русская традиционная культура, основанная на устойчивом религиозном сознании, выраженном в застывших жанровых и сюжетных тропах, препятствовала развитию новых новеллистических и романических тенденций Возрождения.
Это противоречивое единство привело к созданию неустойчивых в жанровом отношении повестей XVII века, где, с одной стороны, герой стремится отвечать духу новоевропейского, гуманистического, ренессансного стиля мышления и поведения, а с другой стороны — заключен в традиционные формулы морально-назидательных поучений и соответствующих нравоучительных сюжетов. Савва Грудцын в "Повести о Савве Грудцыне" совершает поступки, достойные героя европейского авантюрного романа, тем не менее, он заключен в неизбежные коллизии нравоучительных традиционных форм, заставляющие его в конце повести совершить уход, в прямом и переносном смысле, за рамки произведения нового типа, оставляя сферу деятельности, жизни и повествовательного пространства окружающему традиционному укладу, выражающемуся в жанре "богородичных чудес". Молодец в "Повести о Горе-Злочастии" вынужден терпеть
15 Адрианова-ПеретцВ.П. Древнерусская литература и фольклор. Л.: Наука, 1974. - 171 с.
16 Там же. С. 165.
17 Голенищев-Кутузов И.Н. Указ.соч. С. 63-64.
18 Там же. С. 64.
поражение в канонизированном бытовом укладе, предписывающем "путь по отцу" и подавление проявления свободы воли "ренессансного" человека.
Современные литературоведы (М.И. Стеблин-Каменский19, Д. Лукач20, П. Рикер , X. Блум , И.П. Смирнов и др.) предлагают новые приемы прочитыва-ния текстов и изучения законов их функционирования. Согласно теории Блума, творчество изначально считается общекультурным непрерывным процессом, в котором каждый отдельный поэт или писатель (творец) вписывает свою страницу, реагируя на определенные импульсы, создаваемые творчеством поэтов-предшественников. Поэт испытывает влияние своих предшественников, и воздействует на поэтов-последователей, зачастую не осознавая этого взаимодействия. Страх влияния становится актуальным в эпоху возникновения авторской рефлексии, когда последующее поколение осознает свою запоздалость, т.е. актуализирует собственное существование путем переосмысления, переиначива-ния жизни, отталкиваясь от опыта предшествующего "золотого" века, лишенного необходимости оглядываться назад, ощущать свою антропоцентрическую замкнутость. Этот момент наступает на культурном уровне бытования человека с момента самоидентификации себя, своего эго и связывается в современной науке с эпохой Возрождения, переходного периода от средневековья к новому времени. Однако помимо исторической смены эпох, существует общее мировое поле культуры, которое имеет свои собственные хронологические границы, зачастую независимые от развития линейного времени. В этом переплетении культурных, философских, исторических иерархий, ценностных категорий, страх влияния проявляет себя в эпоху античности, раннего средневековья, реформации и т. д.
Так "новое" культурно-историческое явление древнерусской литературы может оказаться возвращением к старым культурным догмам, но, с точки зрения временной соотнесенности (переходного периода XVI-XVII вв., раскола русской церкви и т. п.), принадлежать к негативной или позитивной ценностной иерархии культурного феномена. Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский определяют модели, по которым выстраивается в средневековой Руси явление "новой культуры": "1) Сохраняется глубинная структура... однако она подвергается решительному переименованию при сохранении всех основных старых структурных контуров. В этом случае создаются новые тексты при сохранении архаического культурного каркаса. 2) Меняется самая глубинная структура культуры. Однако, меняясь, она
19 Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.
20 Лукач Д. Своеобразие эстетического. М., 1986. Т. 2.
21 Рикер П. Время и рассказ. Т. 1. Интрига и исторический рассказ. М.;СПб., 1998.
22 Блум X. Страх влияния. Карта перечитывания: пер.с англ. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 1998.
23 Смирнов И.П. От сказки к роману // ТОДРЛ. Т. XXVII. М.,Л., 1972. '
обнаруживает зависимость от существующей ранее культурной модели, по-скольку строится как выворачивание ее наизнанку . С этой точки зрения становится актуальным изучение переходного периода русской литературы второй половины XVII века как постоянного возвращения, с одной стороны, к архаике прошлого, берущего своей начало из ранневизантийских источников, восточного литературного материала, с другой стороны — переосмысление западноевропейского материала эпоху Возрождения как "нового" явления в традиционной культуре. Это своего рода поэтическое влияние предшествующей традиции, которую X. Блум называет частью "древнейшего явления интеллектуального ревизионизма",... аналогом которого становится в более ранние времена ересь, которая "начинается со смещения акцентов, тогда как ревизионизм следует усвоен-ному учению до определенной точки и затем отклоняется от него" . И ересь, а вместе с ней и такие социокультурные явления, как старообрядчество на Руси, и современный ревизионизм имеют общую природу исправления, отклонения, попытки переделать прошлое, путем возвращения в тот момент, с которого прошедшее начинает идти неверным (с точки зрения современника) путем. Ревизионизм становится своего рода аналогом возвращения, рефлексии, перечитывания предшествующего поэта и именно этот процесс, сопряженный с трагедией одиночки, непонятого своими современниками (предшественниками), становится предвестником того поэтического вдохновения, которое питает локус культурного бытия.
М.И. Стеблин-Каменский пишет о сложном характере прочитывания текста, который сам по себе становится переводом - в сознании пишущего, "переводящего" собственный текст на словесный, прочитываемый уровень, а также "перевод" смысловых уровней, заключенных в тексте на язык собственного понимания, осуществляемый читателем текста. "Слова - барьер, - пишет исследователь, - потому что слова древнего языка, или символы, приспособленные для выражения чего-то в сознании человека далекой от нас эпохи, сознании, совсем непохожем на наше... Даже тот, кто читает древний памятник в подлиннике, в сущности читает его в переводе: ведь он неизбежно ... подставляет в слова древнего языка привычные ему значения и, таким образом, как бы переводит слова древнего языка на современный язык. Но тем самым тот, кто читает древний памятник только в переводе, а не в подлиннике, в сущности, читает его в пе-реводе с перевода" . Литература средневековой Руси вплоть до XVIII века развивается путем переворачивания (перенацеливания) предшествующей культур-
ЛотманМ.Ю., Успенский Б.А.. Указ.соч. С. 9. БлумХ. Указ.соч. С. 30. Стеблин-Каменский М.И. Указ.соч. С. 14.
ной традиции, сменой акцентов, ценностей, до замены традиционных культурных составляющих новым (перевернутым) содержанием.
"Синкретическая правда, - пишет М.И. Стеблин-Каменский, - это то, что осознавалось как просто правда, т.е. нечто данное, а не созданное. Таким образом, синкретическая правда, или неразличение исторической и художественной правды, неизбежно подразумевает и неосознанность авторства. А неосознан-
ность авторства - это неосознанность границ человеческой личности" . Смещение современного отношения к вымыслу и правде по сравнению со средневековыми понятиями правды и вымысла обусловлены характером ментальности средневекового человека, осознающего написанный текст как нечто данное, неизменное, "правдивое" и устную, фольклорную традицию, два полюса, начинающих соединяться в XVII в. - времени возникновения городского жизненного уклада.
Правда и вымысел начинают сосуществовать в литературном произведении, совмещая позиции вымышленного и истинного рассказа, ложного и сакрального текста. В этом отношении понятна аналогия, которую П. Рикер провидит между понятиями "история" и "рассказ" — то и другое становится струк-туризацией определенных фактов, в той или иной логической схеме и в этом отношении его понимание текста соотносимо с концепцией X. Блума. Согласно Рикеру, "текст — это совокупность предписаний, которые выполняет - пассивно или творчески - индивидуальный или коллективный читатель. Текст становится
произведением только во взаимодействии с получателем" . В этом отношении, мы сталкиваемся с актом "перечитывания" не только на событийном уровне, но и на конструктирующем, поскольку данный подход к анализу текста предполагает процесс выстраивания модели прочитывания разных уровней текста - от стилистического, до событийного, сюжетообразующего. В соответствии с этим П. Рикер проводит аллюзии прочитываемого мира - текста: "...то, что сообщается, - это стоящий за смыслом произведения мир, который оно проецирует и который образует его горизонт. Слушатель или читатель обретают этот мир в соответствии с их собственной способностью восприятия, которая также определяется ситуацией, ограниченной горизонтом мира и одновременно открытой ему" . Открытый горизонт городского конгломерата, соединяющего в себе но-
27 Там же. С. 44-45.
28 "В этом отношении история делает то же, что и филология или литературоведение: когда прочтение
известного текста или общепринятой интерпретации кажется несоответствующим другим общеприня
тым фактам, филолог или литературовед заново упорядочивают детали, чтобы вновь придать целому
интеллигибельность. Писать значит переписывать заново. Для историка все загадочное становится вызо
вом по отношению к критериям того, что в его глазах делает историю приемлемой и прослеживаемой"
(Рикер П. Время и рассказ. С. 179-180).
29 Там же. С. 94.
30 Там же. С. 95.
сителей традиционного (сельского) типа сознания и переселенцев, не имеющих традиционного менталитета данного локуса, места, предполагает новый вид литературного творчества, вырабатывающего собственные предпочтения и литературные вкусы в соответствии с мировоззрением, характерным для общества городского типа.
В кратком обзоре исследований "Повести о Савве", И.П. Смирнов заключает, что при всей продуктивности сравнительно-исторического метода "миметический подход к "Повести о Савве Грудцыне" обусловил глубокий скепсис исследователей не только по отношению к ... предположениям об источниках текста, но и к правомерности применения... сравнительно-исторического мето-да..." . Возводя архетип повести к фольклорной сказке, исследователь выделяет, в соответствии с традицией В.Я. Проппа, следующие сказочные элементы, входящие в сюжетную ткань повести - "семейную ситуацию", "отлучку" - ситуации, служащие препозиции и началу развития сюжета, "падение блудных", изгнание (отправка) и выделяет 3 основных сюжетных блока - предварительное испытание, испытание основное и дополнительное. Все это становится наглядным подтверждением идеи о связи культуры с древнейшими обрядовыми традициями. Готовые миметические конструкции обрядовых игр накладываются на иную эстетическую субстанцию литературных текстов средневековья и фольк-лорно-архаического периода. Тот же самый механизм проявляется и на новом этапе развития - в XVII в.
Миметическое разнообразие, согласно концепции Д. Лукача, влечет за собой вариативность подражания, приводящая к усилению конкретного, "природного" явления, соединяя в некое целое разнообразные отражения реальности, что приводит к понятию единичности во многом или цельности в разнообразии. "Осколки" различных жанровых форм - от новеллистики до византийской легенды составляют полидиалогическое целое, кладывающееся в процессе формирования жанров древнерусских повестей XVII в. В этом отношении воспроизводящие механизмы культуры, исследуемые в статье Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского на новом этапе развития, открыты новому влиянию и тяготеют к древней византийской традиции, что становится возможным благодаря дуальному строению русской христианской культуры, которая исключает для себя возможность нейтрального, вне-полярного культурного локуса, в отличие от западноевропейской культуры, предоставляющей триаду ценностных категорий, выражающихся
31 Смирнов И.П. От сказки к роману //ТОДРЛ. Т. XXVII. М.Д, 1972. С. 290.
32 "новые исторические структуры в русской культуре,... неизменно включают в себя механизмы, вос
производящие заново культуру прошлого" (Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в ди
намике русской культуры (до конца XVIII века) // Учен. зап. Тартуского ун-та. XXVIII. Труды по русской
и славянской филологии. Тарту, 1977. Вып. 414. С. 3-36. С. 4.).
в католической иерархии "ада", "чистилища" и "рая", в контексте которой, отсутствие жесткой альтернативы предполагает для индивида свободу выбора нейтрального типа поведения и существования в культуре, в отличие от русского, предполагающего несовместимую строгую дуальную систему "добра" и "зла", "ада" и "рая", "высокого" и "низкого" и т. д. "Основные культурные ценности... в системе русского средневековья, — пишут исследователи, — располагаются в двуполюсном ценностном поле, разделенном резкой чертой и лишенном ней-тральной аксиологической зоны"".
Таким образом, если западноевропейский индивидуум способен выбирать для себя нейтральный тип поведения и создавать нейтральные социокультурные сферы, формирующие литературу будущего, то отсутствие нейтральной территории и замкнутая дуальная модель русской культуры способствовала тому, что "новое мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего"34. Русское средневековое культурное пространство мыслилось во временном отношении как повторяющее, циклическое взаимодействие двух противоположных начал - концептов дуальной парадигмы всего сущего. Развитие, динамика культуры - основа всякого существования, протекает между двух полюсов как отражение предыдущей традиции, в результате чего "новое... являлось результатом трансформации старого, так сказать выворачивания его наизнанку"33. Эта способность к циклизации культурного развития, выражалась в постоянной смене противоположных начал на бытовом и сакральном уровнях.
В работе Э.Р. Курциуса "Европейская литература и латинское средневековье" ставится проблема комплексного подхода к изучению литературных памятников: "Кто знает средние века и новое время, - пишет исследователь, - тот еще не понимает ни того, ни другого. <...> Видеть европейскую литературу как целое можно лишь тогда, когда обретешь права гражданства во всех ее эпохах от Гомера до Гете" . Литературные процессы XVII в. обусловлены воздействием мощной византийской традиции, значение которой велико и влияние которой ощущается и в наши дни, кроме того, изучая культуру письменную, необходимо принимать во внимание и устную традицию - как фольклорную, скоморошью, так и сакральную, обрядовую, выявляемую на глубинных уровнях изучения текста. Взаимовлияние устной и письменной традиций, на наш взгляд, также представляет особый интерес в связи с изучением вопроса о становлении русской литературы XVII в.
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Указ.соч. С. 4.
Там же. С. 5.
Там же. С. 5-6.
Цит.по: Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики немецкой культуры. М., 1989. С. 52.
Этот топос, пространственная иерархия которого отчасти определена предшествующей традицией. Противоположные направления влияния охватывают всевозможные лакуны культурного развития. В русской литературе XVII в. происходит выворачивание противоположных начал культурного заимствования, когда прошлое, т.е. традиционное в западноевропейском материале воспринимается как новое, в то же время, оно опознается как свое, уже известное из раннего, архаичного прошлого. (Можно вспомнить мотивы, появляющиеся в "новой" литературе второй половины XVII века, использующие сюжеты ранне-византийских, восточных сказаний, апокрифов и т. д.). "Живая культура не может представлять собой повторения прошлого, пишут исследователи, — она... рождает структурно и функционально новые системы и тексты. Но она не может не содержать в себе памяти о прошлом <...> Специфика русской культуры... проявлялась в том, что связь с прошлым объективно наиболее резко ощущалась тогда, когда субъективно господствовала ориентация на полный с ним разрыв, и, напротив, ориентация на прошлое связывалась с вычеркиванием из памяти ре-альной традиции и обращением к химерическим конструктам прошлого" . Это положение определяет связь циклического средневекового мировоззрения, опрокидывающегося на литературные формы древнерусских произведений, не противоречит работам современных исследователей, относящихся к тексту как к способу прочитывания, предполагающего отношения дуальной зависимости писателя и читателя, писателя-современника, и предшественника.
Устная и письменная традиция сосуществуют в одном времени культуры, отражая различные способы отношения к тексту. "Письменные отражения слов, - пишет М.И. Стеблин-Каменский, - это тоже барьер, потому что у исследователя естественно возникает представление, что цель исследования - сами эти отражения, т.е. рукописи, материальные памятники, в которых представлены древние литературные произведения или выраженный в этих произведениях духовный мир. Целью исследования становится расшифровка материального памятника, его прочтения, установление особенностей его письма, почерка, орфографии, определение времени и места написания и т.д. Таким образом, древние рукописи или списки с них - это материальные памятники совсем особого рода: они не только не делают представленные в них произведения непосредственно доступными органам чувств, но, наоборот, заслоняют эти произведения от ис-следователя" . В этом смысле мы опираемся на исследования новосибирских ученых, продолжающих традицию М.О. Скрипиля, A.M. Панченко, Д.С. Лихачева в исследовании древнерусских текстов и проделавших огромную текстоло-
37 Лотман М.Ю., Успенский Б.А. Указ.соч. С. 36.
38 Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. С. 14.
гическую работу, касающуюся исследования сюжетов и мотивов, послуживших основой возникновения повестей XVII в., в частности, "Повести о Савве Груд-цыне". Древнерусские повести требуют осмысления в качестве памятников городской культуры, формирующей собственные предпочтения и смыслы, отличающиеся от ментальности предшествующих литературных эпох и литературы, складывающейся в период нового времени - эпохи Петра I. Искусственное разделение литературы, текста на устную и письменную традицию приводит к тому, что памятники типа "Повесть о Горе-Злочастии", "Повесть о Карпе Сутуло-ве" и пр. рассматриваются как переплетение двух противоборствующих тенденций в жанровом значении. Тем не менее, нам необходимо учитывать тот факт, что понятие "жанра" не существовало в литературе древнерусского средневековья. Противопоставление двух жанровых направлений - книжности и фольклора, снималось за счет существования особого отношения к тексту, формируемого в среде средневекового города.
Традиция отношения к письменному слову предполагала развитие института письменного толкования, "перечитывания" текста, чего не знала традиция устная, основанная на прямой преемственности людей знания, сакральной культуры. По мнению X. Блума, "Устная Традиция зависит от памяти, от личных особенностей и от наличия прямой преемственности учителей, преподавателей < . > с началом записывания возникла опасность утраты диалектической природы Устной Традиции, поскольку письмо ограничивает диалектику..."39, имея в виду устную традицию, которая не соотносима с греческой философской традиции слова40. В этом контексте отношение древнерусских книжников к устной традиции, отношение к деянию и нравственной ситуации возведения письма в сферу целеполагания, осмысленного деяния характеризует такого рода трепетное отношение к слову, которое становится деянием в контексте устной традиции и, соответственно, требует особой осторожности в области письменной, т. е. изложения, передачи традиции — со-деяния. Поскольку устная форма выражения подразумевает некое общее культовое редуцированное действо, то письменная традиция не знает (наверняка) своего преемника, реципиента. По мнению X. Блума, период деконструктивизма "повергает сомнению эту "логоцентрическую преграду" и стремится показать, то устное слово не первичнее написанного.
39 Блум X. Страх влияния... С. 170.
40 Само по себе противоречие это лежит в отношении к понятиям речи и письма, по мнению Блума ев
рейское "давхар" противоположно греческому "логос": "Давхар" — одновременно "слово", "вещь" и "де
ло", а его первоначальное значение — обнаружение скрытого. Это — слово как нравственное дело, как
истинное слово, в одно и то же время предмет, или вещь, и деяние, или дело. Таким образом, слово, ко
торое не дело или не вещь, — это ложь, скрытое и ненайденное слово. В отличие от этого динамического
значения "логос" — интеллектуальное понятие, первоначальное значение которого подразумевает выве
дение, приспособление, приведение в порядок. Понятие "давхар" — говорить, действовать, быть. Поня
тие "логос" — говорить, полагать, думать" (Там же. С. 170).
Письменная традиция постоянно сталкивается с устной, внутренне сопротивляясь страху влияния или авторитету.
Поль Рикер выстраивает свою методологию отношения истории и рассказа, говоря о способности рассказа не ограничиваться "концептуальной сеткой действия", к которой добавляются "дискурсивные характеристики", "функция которых состоит в создании композиции модальностей дискурса" . Если действие, составляющее основу рассказа, должно быть основано на определенных правилах композиционного построения интриги, то следующая ступень создания рассказа — символическое опосредование событий в знаках, символах, т.е. своего рода нормативное артикулирование уже становится фактом символической интерпретации текста .
С точки зрения П. Рикера, план повествования (наррации, рассказа) предполагает сочетание хронологических и событийных планов. Любая история, по мнению исследователя, "несет ответственность" за своего рассказчика: "Уже случившаяся к предыдущем отрезке времени, история должна быть облечена в удобоваримую нарративную форму повествования" . В частности, композиционное построение рассказа, т. е. вычленение интриги, сюжета события, подразумевает интерпретацию происходящих событий, приведение хаотического сцепления случайностей, событий в единое, обусловливаемое рассказчиком единство. Таким образом, помимо рассказчика и слушающего, любой текст предполагает наличие схемы, обустраивающей хаотические, данностные событийные факты в некое целое, подчиняющееся логике рассказчика44. Рассказ, возникающий из тайны нашей жизни и остающийся до конца не поддающимся интерпретации, (поскольку любая интерпретация содержит изначальные ограничения, налагаемые культурным полем, опытом рассказчика и интерпретатора), возвращает нас к тайне "непрочитываемого" рассказа. Это то, что Рикер характеризует как "очевидный круговой характер всякого анализа рассказа, ... беспрерывно интерпретирующего... свойственную опыту форму времени и нарративную структуру, не является мертвой тавтологией" , становится своего рода кругом, целым, включающим в себя все способы градации противоположных полюсов рассказывающего - воспринимающего. Это естественный процесс прочтения — интерпретации, в котором неизменные составляющие рассказа могут менять
41 Там же. С. 70.
42 См. об этом: Рикер П. Время и рассказ. С. 68-74.
43 Там же. С. 313.
44 В этом контексте интересно рассуждение П. Рикера о том, что рассказ как интерпретация событий мо
жет служить не только раскрытию, но и сокрытию определенных фактов, смыслов, значений. См.: Рикер
П. Время и рассказ. С. 92.
45 Там же. С. 93.
свои репрезентирующие свойства, являясь сторонами двух полюсов рассказывания, прочитывания непрочитываемого, сокрытого текста.
В этом качестве мы и будем исследовать повести XVII в., как явления городской культуры средневековья, сочетающие в себе черты традиционной древнерусской книжности, византийской литературы, фольклора, которые в общем послужили основой возникновения литературных памятников типа "Повести о Савве Грудцыне", Карпе Сутулове, Горе-Злочастии, Фроле Скобееве и др. Теория поэтического влияния, таким образом, оказывается актуальной, поскольку прослеживается на генетическом уровне усвоения более древнего литературного материала (аскетико-мистических направлений, дохристианской культуры, цер-ковно-назидательных поучений, полемических трактатов античности, светской беллетристики и пр.), что позволяет нам выделить следующий фактор, послуживший основой для переломного в культурно-историческом смысле периода (Возрождения, реформации, ренессанса в Польше XVI в., "смутного времени" в России XVII в.) и связать эти литературные факторы с новым явлением социокультурной жизни — развитием новой городской прослойки посада в России46 XVII в., западной Европе ХІІ-ХІЇЇ в., Польше и Украине XV-XVI вв. Именно в период так называемого культурного перелома и становления нового культурно-образующего фактора ощущается потребность к восстановлению своей связи с предшествующей культурной традиции, утрата которой представляет собой угрозу для традиционного религиозно-догматического направления книжности древней Руси. Попытки воссоединения разнополярных жанровых, сюжетообра-зующих, текстологических тенденций, образующих ядро культурного сознания средневекового горожанина, формируют новое явление городской литературы XVII в. - а именно городской повести, к жанру которой мы относим "бытовые" и "нравоучительные" произведения этого периода.
Соединяя эпоху и ее читателя в пространстве городского самосознания, мы получаем возмоясность понимания источников формирования городского текста в русской литературе и самого литературного процесса. Осмысление феномена древнерусской литературы в рамках современных исследований, несомненно, важно для определения места и значения городской литературы XVII в. в контексте мировой литературы и в ходе общего развития культурно-исторических процессов России.
Общая характеристика работы
Державина О.А. Фацеции. Переводная новелла в русской литературе XVII века. М: Изд. АН СССР, 1962.
В настоящее время филологическая наука остро ощущает потребность в обновлении и углублении взгляда на процесс зарождения новой русской литературы в XVII в.
Исторически городская культура России складывалась в соответствии с общепринятыми традиционными формами градостроительства, унаследованными из Византии и усугубленными рядом специфических черт - замкнутостью городского сообщества, регулярностью русских городов, планированию и контролю не только за строительством городских зданий, но и за расселением жителей новых городов в соответствии с планом и росписью.
Однако несмотря на заранее заданные жесткие рамки регулярного городского образа жизни, русский посад XVII в. начинает развиваться по общим законам городской культуры. Город - живой, изменяющийся организм, отношения, складывающиеся между горожанами, формирование инфраструктуры, оппозиция вне-городскому пространству - само по себе ограничивание пространства становятся причинами складывающегося городского образа жизни, который не может быть регулируем до конца. Город вырабатывает собственные стереотипы поведения, собственную культуру, отличающуюся от культуры русского государства предшествующего периода.
В работе показано становление нового жанра городской повести, как порождения русской городской культуры XVII в.
Актуальность темы определяется
потребностью современного литературоведения в новых подходах, позволивших привлечь социокультурный контекст (жизнь русского города переходной эпохи), обусловивший полидиалогичность взаимодействия византийской традиции в древнерусской литературы с западноевропейской литературой и культурой, что проявлено через мифопоэтический анализ сюжетной структуры бытовых повестей XVII в;
обострившимся вниманием медиевистики нашего времени к проблемам массовой литературы и кругу чтения посадского населения русских городов XVII в. Массовая литература, вслед на Ю.М. Лотманом, рассмотрена в работе в качестве культурного резерва русской литературы, позволяющего увидеть процесс перехода к новому типу литературы;
интересом современной филологической науки к проблемам исторической поэтики и ее национальных основ, в частности, к проблеме жанра русских бытовых и морально-дидактических повестей XVII в.;
необходимостью уточнения генетических истоков формирования городского текста последующей русской литературы.
Объектом исследования являются сюжетно-композиционные особенности городских (бытовых, морально-дидактических) повестей, как формы бытования посадской литературы XVII-XVIII вв.
Материалом исследования являются древнерусские бытовые и нравственно-дидактические повести XVII в.: "Повесть о Горе-Злочастии", "Повесть о Савве Грудцыне", "Повесть о Карпе Сутулове", "Повесть о Фроле Скобееве", а также рукописная повесть XVIII в. "История о некоей купеческой дочери", хранящаяся в Отделе редких книг НБ ТГУ.
Целью работы является изучение развития посадской культуры в русском средневековом (в том числе сибирском) городе и появления бытовых повестей XVII в. (повести о Крапе Сутулове, Савве Грудцыне, Фроле Скобееве, Горе-Злочастии др.).
Главная задача - исследование сюжетно-жанрового своеобразия городских повестей XVII-XVIII вв.
Структура и объем работы: исследование состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Методика исследования. Исследование древнерусских повестей XVII-XVIII вв. осуществляется с помощью системы методов интерпретации художественного текста: мифопоэтического, историко-культурологического, а также феноменологического, что обусловлено сложным взаимодействием социокультурных и литературных факторов в становлении жанра.
Методологической основой диссертации послужили труды исследователей по литературоведению, урбанистике (В.Л. Глазьгчев, М. Вебер, Н.П. Анциферов и др.), поэтике (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Э. Ауэрбах, X. Блум и др.), истории культуры, текстологии (А.Н. Веселовский, П.М. Бицилли, А.Я. Гуревич, М.И. Стеблин-Каменский, О.А. Державина, Е.К.Ромодановская и др.).
Научная новизна исследования заключается в следующем:
впервые тексты русских городских повестей проанализированы на уровне мифопоэтики. При анализе текста акцентировано взаимодействие архетипи-ческих сюжетов византийской и западноевропейской традиций.
введен в научный оборот новый материал круга чтения посадского населения русского сибирского города, связанного с рукописными сборниками XVII-XVIII вв., бытовавшими в Томске и отложившимися в рукописных фондах ОРК НБ ТГУ и фонде рукописных книг областного краеведческого музея;
в контексте полидиалогической теории Блума выстроено взаимоотношение между литературой византийской, традиционной, с одной стороны, и западноевропейской - с другой. Переплетение традиций сказывается на уровне разрушения иерархического единства монументальной древнерусской жанровой
системы и возникновение оригинальных русских повестей - условно обозначаемых в данном исследовании городскими повестями XVII в.
Практическая значимость. Выводы и материалы диссертации можно использовать при чтении лекционных курсов по древнерусской литературе, западноевропейской литературе средних веков и Возрождения, сибириеведении, в спецкурсах по теории литературы, поэтике, в эдиционной практике.
Положения, выносимые на защиту.
русская бытовая, морально-дидактическая повесть XVII-XVIII вв. является феноменом городской культуры;
бытовая повесть - переходный жанр древнерусской литературы от средневековья к новому времени;
на рубеже XVII-XVIII вв. происходит процесс зарождения оригинальной русской литературной традиции.
Апробация работы. По материалам диссертации было опубликовано 4 работы, сделаны доклады на Духовно-исторических чтениях, г. Томск (1997, 1998, 1999), Международной конференции "Проблемы литературных жанров", г. Томск, 1998, ,2001.
История изучения бытовых повестей XVII в
Древнерусские повести XVII в.: "бытовые" и "нравственно-дидактические", к числу которых относятся такие хрестоматийные памятники, как повести о Савве Грудцыне, Фроле Скобееве, Горе-Злочастии, Карпе Сутуло-ве представляют собой текстологическое единство, на материале которого можно проследить формирование жанра древнерусской повести. Повести XVII в. складывались в течение длительного периода, на них оказали влияние нравственно-дидактические, бытовые, авантюрно-приключенческие и беллетристические произведения городской литературы XVII-XVIII вв.
Повесть о Савве Грудцыне привлекала внимание отечественных и зарубежных исследователей. Систематически бытовые повести стали изучаться с XIX в. в трудах культурно-исторической школы. К этой школе можно отнести таких исследователей, как В.В. Сиповский, Н.И. Костомаров, А.Н. Пыпин. Одним из первых исследователей, систематически занимавшихся изучением литературными древностями, был А.Н. Пыпин. Среди нравственно-дидактических и бытовых повестей XVII в. мы выделяем Повесть о Савве Грудцыне, поскольку именно это произведение соединяет черты западноевропейской новеллы и традиционной русской повести, и не так тяготеет к восточной сказке, как Повесть о Карпе Сутулове, и, с другой стороны, не так близка авантюрно-приключенческому роману, как Повесть о Фроле Скобееве.
А.Н. Пыпин называет попыткой романа Повесть о Савве Грудцыне47, (датируя ее периодом правления Алексея Федоровича и сохранившуюся в ряде списков XVII-XVIII вв.). М.О. Скрипиль называет 80 списков Повести о Савве Грудцыне, используя в своем анализе повести 68 списков и относит возникновение повести к 60-м годам XVII в4 . Вторично вопрос о датировке был поставлен в полемике Н.А. Баклановой50 и СВ. Калачевой51: Н.А. Бакланова, опираясь на источниковедческий и стилистический анализ Повести, датирует ее первыми десятилетиями XVIII века, СВ. Калачева придерживается гипотезы М.О. Скрипиля. Эта проблема, видимо, в настоящее время не моясет быть решена и потребует дополнительных историко-литературоведческих разысканий.
Изучая жанровый архетип повести, А.Н. Пыпин пришел к выводу о взаимодействии исторических, нравоучительных и телеологических интенций, благодаря которым Повесть о Савве еще не вышла из традиции стиля древнерусской литературы, но уже выстраивается согласно тенденциям новоевропейского романа, становясь его "зародышем"52. М.О. Скрипиль называет повесть первой попыткой романа и отмечает в связи с этим обилие действующих лиц повести, которые представляют собой разработанные художественно-литературные портреты53. О романной специфике пишет В.В. Кожинов, отводя повестям о Савве Грудцыне и Фроле Скобееве место у истоков русской романной традиции54. Е.К. Ромодановская говорит о разностороннем, широком охвате действительности в Повести о Савве, что позволяет называть ее "первым русским романом"55. Эта светскость, проявляющаяся в отходе от средневековой традиции образности и действия героев связана, по мнению исследовательницы, с процессом обмирщения, секуляризации русской литературы переходного периода. Переходность и неопределенность историко-бытовой повести отмечает и В.Е. Багно - по его мнению, произведение не вписывается в конкретное литературное направление, выходя за рамки как исторической, так и сугубо "бытовой" повести, сюжет которой "развивается ... по своим внутренним законам"56, И.В. Кузнецов, вслед за В.И. Тюпой, относит повесть о Савве к разновидностям апологов .
Соотнесенность с романной / новеллистической традицией обусловлена погружением повести в бытовую конкретику, что подчеркивалось еще М.О. Скрипилем, отмечавшим создание в ней "определенной исторической и социальной" обстановки: "ее действующие лица ...взяты из живой действительности Московского государства XVII в. Мелкие бытовые подробности вставляются в местные, топографически точные, хронологически очерченные рамки"58, а ее идейно-художественное содержание проецируется на общественное сознание России XVII века, в связи с чем М.О. Скрипиль называет повесть памятником "бытового реализма конца XVII века"5 , что оправдано ее погружением в социально-историческую обстановку России XVII в.
Н.К. Гудзий отмечает важную историко-бытовую канву произведения -"целый ряд бытовых и исторических подробностей ... [что] "представляет большой интерес как первая попытка в русской литературе изобразить жизнь частного человека на широком фоне исторических событий, в реальной исторической обстановке" . В.В. Кусков также отмечает ее историческую и сложную композиционную основу, замечая, что "главное место в повести занимают картины частной жизни"61. В вопросе жанрового определения бытовой повести, характерным становится мнение В.В. Кускова, который связывает "пробуждение сознания личности" в XVII веке, чье "появление связано с новым типом героя, заявившего о себе как в жизни, так и в литературе" . Это явление отражается в бытовой повести, сочетающей в себе черты переходной литературной эпохи на материале реалий окружающей действительности.
Проблема героя осмыслялась М.О. Скрипилем как проблема взаимоотношения между родителями и детьми, имеющая важное историко-культурное значение. По мнению исследователя, в произведении "отразились беспокойство духа молодого поколения, недовольство старым укладом жизни, небрежное отношение к родительскому авторитету и еще бессильное, но уже явное стремление строить жизнь по-своему, т.е. настроения, характерные для второй половины XVII в.", которые "глубоко волновали различные слои Русского государства"63. Эту точку зрения развивает В.В. Кусков, определяя новизну повести бытовой обстановкой, в которой совершаются события 4, что позволяет приблизить определение жанра к роману.
И.П. Смирнов 5 связывает конфликт отцов и детей с периодом Смуты -именно столкновение "смещающих друг друга укладов"66 превращает сказочный сюжет в идеологизированную мораль переходного времени. Путь трансформации от сказочного к романному, по мнению И.П. Смирнова, будет в дальнейшем развиваться в литературе XVIII-XIX вв. С точки зрения А.А. Назаревского, конкретика в повествовании о Савве Грудцыне становится следствием "воздействия исторических повестей начала XVII в." , порожденных эпохой Смуты и истори-ко-публицистическими произведениями начала XVII века. Здесь решение конфликта "отцов и детей" отталкивается не от обобщенно-символических понятий, наоборот, от конкретных фактов. В.И. Тюпа считает развитие сюжета следствием "божьего попустительства"6 , что позволяет В.И. Кузнецову возвести жанр бытовой повести к притче .
Бытовая повесть и переводные новеллы (особенности сюжетосложения)
Еще М.О. Скрипиль отметил деление Повести о Савве на отдельные, вполне самостоятельные эпизоды, тем не менее связанные "между собою единством авторского замысла" , стержнем которого становится история взаимоотношения отцов и детей, старинного, патриархального уклада Древней Руси и нового поколения, стремящегося жить согласно своим собственным стремлени 177 ЯМ .
Мы уже говорили о сопоставлениях бытовых повестей и, в частности, Повести о Савве Грудцьше с ранневизантиискими сказаниями, легендами, такими как "Повесть о Евладии", "Повесть о Месите-чародее" и др. Работа Демковой Н.С., Лихачева Д.С., Панченко A.M. "Основные направления в беллетристике XVII в." исследует связи повести с ранневизантиискими сказаниями, легендой "о прельщенном отроке". Немалое значение отведено исследованию жанра памятника; отмечая реалистические бытовые, исторические черты, сближающие Повесть с романом, плутовской новеллой . Двойственность, присущая, по мнению авторов, памятнику, заключается "во внутреннем противоречии между новизной способов воплощения старого сюжета о продаже души дьяволу и тради 1 R0 ционным повествовательным стилем" . В сравнении с легендарными мотивами ранневизантийской литературы, "Повесть" имеет более антитетический, синкретичный характер.
Борьба между телеологичным направлением, господствующим в древнерусской литературе до XVI в., и амбивалентным направлением, по мнению Я.С. Лурье, позволяет рассматривать древнерусскую беллетристику XVII в. как этап "в развитии мирового сюжетного повествования", являющий "ранние формы по 1 О] вествовательного искусства" . Исследование повести осложняется жанровой спецификой, вбирающей в себя традиционные легендарные, фольклорные мотивы, использующей особенности западноевропейской городской литературы, что позволяет исследователям называть древнерусские повести XVII в. примером средней формы эпического жанра, отличающиеся по структуре, но связанные между собой развернутым повествовательным характером . В литературоведении определения древнерусской повести носят незавершенный характер, и предполагают формалистическую и текстуальную открытость литературной формы, находящуюся в процессе становления и потому не имеющую определенного, генерального жанровообразующего признака. О.А. Державина отмечает, что "... к Повести о Савве Грудцыне ближе всего легенда о том, как бес служил некоему человеку (новелла № 52). Здесь с русской повестью совпадает целый ряд подробностей и деталей. В повести, как и в легенде "Зерцала", бес служит человеку, следуя за ним всюду, как верный оруженосец", помимо того "Рассказ в "Повести" как Савва и его названый брат возвращаются из Смоленска... очень близок к тому месту легенды "Зерцала", где воин и его слуга-дьявол переправляются через реку" . Этим сюжетом сопоставительный анализ Повести о Савве и новелл "ВЗ" исследовательница не завершает, отмечая близость некоторых мотивов в том и другом случае - например, мотив "рукописания" прослеживается в новелле "ВЗ" "о юноше-монахе, которому бес показал его грехи, написанные на хартии. После покаяния и в повести, и в легенде со слезами и глубоким раскаянием хартия возвращается "грешникам" чистой .
Отчасти влияние переводных произведений сказалось на композиции текстов литературных памятников. Это проявилось на уровне упрощения "тематики и образов" произведений, которые ведут "за собой и упрощение формы"185. Сюжет не отличается особой сложностью и проработкой поэтико-художественных деталей: в фацециях нет детализированного описания персонажей, действующих лиц, все это достаточно условно и носит номинативно-типологический характер. Этим фацеции во многом уступают оригинальным русским повестям XVII в., которые глубже разрабатывают сюжетные коллизии и противоречия человеческого характера. Однако, по нашему мнению, здесь играет роль фактор новизны нового литературного направления (более мобильного, а следовательно - более приспособленного к привлечению широкой читательской аудитории). Авторы древнерусских повестей стремятся выстраивать сюжет по старинному житийному образцу, благодаря чему повести становятся более традиционными и каноническими по сравнению с новеллами западноевропейской литературы.
Отсюда возникает феномен универсальности западной новеллы в русской устной и письменной традиции. В результате чего фольклорные источники перекликаются с сюжетами городских новелл западноевропейского средневековья и Возрождения, которые, вливаясь в письменную традицию, попадают и в сборники бытовых и волшебных сказок186. Процесс взаимообогащения устной и литературной традиции происходит не только благодаря сходным сюжетам, образам, мотивам, присутствующих в эпической и новеллистической формах, но так же и в том универсализме материала фацеций или жарт, который подразумевает и как бы провоцирует создание устных произведений, что вырастает в народной демократической среде средневекового города в феномен "народной книги" на Западе, а также народных сказок и лубочных листов в России. Трансформируясь, новеллистическая форма, постепенно усложнялась и выходила за рамки повествовательных оригинальных произведений (повестей), переходя не только в устно-поэтическую традицию (сказки, легенды), но обретая новые возможности ро-манно-повествовательного плана в XIX веке.
В жанрово-стилевом направлении плебейская городская литература Польши во многом перекликается с создаваемыми в XVII в. древнерусскими пародиями типа "Службы кабаку", "Праздника кабацких ярыжек" и пр., т.е. социальное противопоставление, осмеяние "высоких" ценностных ориентиров, выявление несостоятельности светской и духовной иерархической верхушки, пародийный, смеховой характер городской литературы способствует созданию такого явления, как литература посадского населения в России или "среднего" сословия Западной Европы. Смеховой мир, понимаемый на Руси как антимир, выстраивается по аналогии с упорядоченным социумом, но с точностью до наоборот. "Чтобы антимир стал смешным, - пишут Д. С. Лихачев и A.M. Панченко, -он должен быть еще и неупорядоченным миром, миром спутанных отношений... миром скитаний, неустойчивым миром всего бывшего... ушедшего благополу чия, миром со "спутанной знаковой системой" . Эти процессы сходны с типическими явлениями средневековой Европы, Польши XV-XVI вв., Украины, Белоруссии и России. Переходный период в средневековой Руси конца XVII в. можно назвать "спутанным", "перевернутым" миром, что позволяет нам провести параллель со средневековой западноевропейской традицией эпохи ренессанса и Возрождения . Эта спутанность проецирует дезориентацию культурного пространства Древней Руси: циклическое обрядовое время сменяется линейной перспективой, которая, в свою очередь, теряет свою устойчивую горизонтальную определенность.
Город в российской культуре
Определение понятия "город" до сих пор представляется сложным, хотя имеется множество его толкований в зависимости от контекста употребления -социологического, исторического, географического, экономического и т.д. Город как явление культурной жизни средневековой Руси складывался постепенно, в соответствии с внутренними процессами историко-культурного развития русского государства, и поэтому процесс формирования городов в России во многом стал предметом споров, источником возникновения научных гипотез.
Историей вопроса занимались такие исследователи, как Н.Н. Воронин, Б.А. Рыбаков, И.Я. Фроянов, А.В. Арциховский и многие другие. В этих исследованиях получил обоснование сам факт возникновения города в эпоху раннего феодализма. Методика исследования городообразовательных процессов получила новое направление в 40-50 гг. XX в., и было связано с новыми археологическими открытиями в местах возникновения средневековых русских городов, что дало новый толчок в развитии урбанистики.
Условно можно выделить три направления в урбанистике 60-80-х гг., объясняющих стремительный рост городов древней Руси: путем формирования "внутренних потребностей хозяйства Древней Руси"" , или путем оседания ремесленного населения под стенами укрепленных усадеб, и, наконец, как результат возникновения "торгово-ремесленных городов на базе бывших "племенных" центров Древней Руси" (концепция С.А. Тараканова" ). Особый интерес вызывают города, получившие название города -"эмбрионы" или "зародыши" промышленного города, возникающие в средние века на территории России. Эти города, появившись на ранней стадии развития торгово-промышленных отношений еще не успели вырасти, не оформились в "города в полном смысле этого слова", но на этапе формирования раннефеодального общества сослужили огромную службу образованию русского государства, которое в это время получает название "страны городов"). Города -"эмбрионы" становились форпостами на границах русской земли и имели сугубо функциональное значение - защита окружающей территории, населения от неприятеля. Города имели укрепления, обеспечивающие оборонную функцию, торгово-ремесленную прослойку населения. По такой модели возникли многие города России.
Функциональный подход в определении понятия "город" долгое время господствовал в исторической литературе. Согласно ему, для Древней Руси характерно возникновение городов-крепостей с ограниченным количеством функций. Города-крепости имели отличительные черты, которые позволяли определять само понятие "город" и отличать города от торгово-ремесленных поселений, общин, погостов и т.д. К этим определяющим признакам относится, прежде всего, наличие укреплений - "крепости, дворов феодалов, ремесленного посада, торговли, административного правления, церквей" . С самого начала образования древних и средневековых городов шло за счет притока сельского населения в города. Согласно Д.Я. Самоквасову, "в понятие "город" в допетровской Руси соединялись представления о его ограничении (т.е. крепости) и о той местности, которая лежала внутри ее и вне ее как заселенной, так и незаселенной, принадлежащей данному городу"326. Важной чертой города XVI-XVII вв. была крепость (детинец, кремль), представляющая горожанам и жителям близлежащих деревень надежное укрытие в случае нападения неприятеля . В ходе развития исторической науки представление о характере функций городского сообщества менялось. "Летописцы, первые историографы древнерусского города, его жители и созидатели его культуры, "градом" называли целый ряд поселений: и просто крепость, и населенное место под прикрытием крепости, и поселение торгово-ремесленного характера, и, наконец, целый уезд, тянущий к городу" . Каким образом происходит процесс идентификации и самоопределения человека в городской среде древней Руси - отправной момент в наших рассуждениях по этому поводу.
Исследователи в перечень функций города вносили: военную (города рассматривались как заставы против вторжения неприятеля), административную ("земские, княжеские, административные и военные центры" ), промышленную (разросшиеся рабочие поселения вокруг крупного промышленного производства, мануфактуры и т.п.). Функциональная определенность в характеристике города занимает важное место в историографии XIX - начала XX вв., и поныне широко распространена в урбанистике. Высокий статус города в древнерусской истории в особенности представлен в трудах М.Н. Тихомирова330. По его пред ставленням, развитая организация политико-экономических сил древнерусских городов определила направление развития древнерусской культуры, что отразилось в именовании Руси "страной городов".
В работах А.Л. Хорошкевича331 рассматривается история формирования городов с точки зрения владельческой принадлежности городской территории тому или иному земельному собственнику. По мнению П.П. Смирнов города разделяются на раннефеодальные (подчиняющиеся крупным земельным собственникам - церковь, бояре, князья) и вотчинные поселки, слободы, в которых концентрировалось ремесленное производство и из которых впоследствии выросли русские города, тип и структурная организация которых затем распространилась на всех территориях России в XVI-XVII вв. Кроме того, статусно города могли быть вольными и частновладельческими, различаясь друг от друга в зависимости от пребывания в них княжеских дружин, бояр и др" .
После работ в направлении изучения городской среды 60-70-х гг., оформ- ляются гипотезы города, основанные на энваиронменталистских , или экологических335 подходах. С этих позиций процессы формирования городской среды представляют собой своего рода плавильный котел культурных, этнических, социальных, политических, экологических факторов. Здесь главным является не столько характер изменений, происходящих в едином месте, самоорганизующемся пространстве, сколько возможность изменения, обусловленная качественно новым отношением между различными иерархизированными культурными составляющими. Этот процесс неоднозначен и находится вне зависимости от принятых приоритетов, норм и традиционных форм существования человека . В этом отношении важно подчеркнуть роль самоорганизованности городского пространства - единого организма, формирующего нормы общественной структуры.
Помимо функциональных, существенную роль в появлении и развитии русских городов играли идеологические процессы централизации государства. В XVI-XVII вв. в России было образовалось около 200 новых городов, обеспечивающих освоения и упрочения территориального, экономического и военного могущества огромной страны. Централизация всех сфер жизни средневековой Руси проявлялась и в формировании регулярных городов, происходивших по плану, при составлении которого существенную роль играл выбор места для строительства будущего города . Процесс возникновения города XIV в. можно условно разделить на 3 этапа - ревизионный осмотр выбранной территории, подходящей для строительства города, создание плана-росписи в Москве, наконец,
Городское сознание и массовая литература
"Ров и стены ограждают его [город] от остального мира. Внутри ограды ютятся дома с крутыми крышами, тесно прижавшись друг к другу. В высоту поднимаются своды величественных соборов. Через реку крытый мост. На замкнутых площадях фонтаны - статуи. Ратуша и на ее башне затейливые часы. ... На холме господствует над всем городом грозный замок - его страж и владыка"376. Таким представляется средневековый западноевропейский город взгляду современного исследователя. Средневековый западноевропейский город составляет единое целое, благодаря скученности городской застройки, многонаселен-ности городских домов, благодаря чему он выглядел единым организмом. "Средневековый город, - пишет И.Е. Данилова, - феномен закрытый, труднодоступный. Чтобы проникнуть в него, нужно протиснуться в узкие щели ворот, в них всегда тесно, персонажи толпятся, образуя пробки... даже открытые сюжетно, ворота закрыты композиционно - образное воплощение реальной средневековой ситуации, когда ворота служили трудно преодолимой преградой..." Ворота выполняли роль своеобразной границы, отделяющей внутреннее, закрытое пространство, от окружающего, открытого.
Пространство западноевропейского города выстроено по принципу тесного взаимодействия людей в условиях плотной городской застройки - здесь вся жизнь происходит открыто, среди людей, принцип уединенности и замкнутости жилища относителен. Жизнь открыта и происходит в постоянном взаимодействии с другими людьми. Это не просто возможность открытого существования, где можно слиться с толпой, но эта слитость обеспечивает личности анонимность, самостоятельность - в плотнонаселенном городе индивидуум не привлекает к себе внимания, не становится объектом изучения, он "незаметен", "невидим", растворен в толпе. Его голос сливается с хором и становится голосом народа, сословия, цеха, города. Поэтому П.М. Бицилли в своей работе "Элементы средневековой культуры"" пишет о специфике средневекового западноевропейского менталитета, согласно которому статус личности "всецело определялся ее местопребыванием" . "Стоило человеку выйти из ворот "освободившего" его города, - пишет исследователь, - как сейчас же он не только фактически делался беззащитным против покушений на его свободу, но попадал в опасность очутиться в среде, где "обычай места" обрекал его на порабощение"380. Своего рода магия места, очищающего человека, приписывается городу, освобождающему его.
На средневековом Западе "город неизменно предстает в виде саморегулирующейся общины, наделенной относительно высокой степенью автономии и обладающей особым правом и достаточно сложной структурой" . Разнообразные правовые отношения связывают средневекового человека с его вассалами, сеньорами, что становится своеобразной платой за "свободу", право быть личностью. Автономность городского сознания была обусловлена отношениями между "свободными" гражданами со своим сеньором, и эта правовая система, достаточно сложная, тем не менее устанавливала факт присутствия автономии именно ее рамками - привилегий, свобод, прав и т.д.
Город это не только определенный топос, характеризующийся рядом социокультурных норм, это также и иерархия взаимоотношения определенного места, конкретной "земли" и прикрепленных к ней людей, вассалов. Земля в западноевропейской культуре становится более чем топографическим объектом городской застройки. Она начинает цениться в силу своей малочисленности (в пространстве закрытого города, окруженного землями сеньоров, феодалов), кроме того, обладает собственным статусом эквивалента в развитии экономиче-ских, политических, юридических и пр. отношении
Городская община предполагала формальные отношения между условно-равноправными между собой лицами - жителями городского пространства. "В усадьбе земледельца заключалась модель вселенной" - продолжает мысль исследователя А.Я. Гуревич. Локус "срединной земли" (Мидгарда) у древних скандинавов противопоставлен враждебной территории (Утгарда)384. В этом отношении, нам кажется вполне допустимым сопоставление городского пространства средневековой Руси и Скандинавии еще по одному критерию - провинциальности, периферийности этих стран по отношению к центрально-европейским средневековым городам и государствам , что находит свое выражение и в картине мира средневековых руссов и скандинавов. Топография, вместе с принадлежностью корпорации играет важную роль в идентификации средневекового человека.
Прикрепленность к территории носит экономический, правовой характер, обусловливает социальные и экономические отношения между людьми, живущими на определенной территории и существующих за счет предметов материальной культуры, получаемых на этой территории. Личностная территориальность, определение человека через его статус горожанина отличают средневековый мир от других временных эпох, отличают городской образ жизни от сельского, общинного типа. Город - это организм, целое, которое существует в определенном территориально-временном локусе, проходит стадии зарождения, развития, распада и пр. Город становится в полном смысле слова социокультурным организмом, живущим по собственным, внутренне обусловленным законам, позволяющим сохранять статус города как феноменологической единицы и, в то же самое время, сопротивляющимся законам вне городского образа жизни - зачастую враждебного городскому целому.
Ситуация, когда каждое понятие охватывается теорией единения, приводит к тому, что каждый средневековый город существует как однородное, единое в правовом и статусном отношении тело . Замкнутость средневекового города происходит благодаря существованию дуального восприятия окружающего мира. Средневековая мысль не выдерживает возможности восприятия чужого, незнакомого пространства как равноценного, полноправного мира. Любая противоположность изгоняется из единого, замкнутого целого. Эта противоположность единого мира, его дуальная амбивалентность определяют и средневековое сознание, и типы взаимоотношения средневековых сообществ друг с другом. В средние века и эпоху Возрождения происходят новые географические открытия, основанные на том, что "другое" - не свое место, находящееся вдали от привычных границ бытия притягивают в силу своей "инаковости". Путешественники XIV-XVI вв. отправляются в дальние неведомые страны не как исследователи незнакомого, разнообразного в своих проявлениях мира, но как миссионеры, стремящиеся превратить незнакомое, "чужое", "не католическое" в подобие своего собственного мира, стереотипизировать "чужое" согласно своим представлениям о "своем" мировом устройстве, раз и навсегда определенном установленным порядком вещей. В этом проявляется дуализм средневековой ментальности, "резко расчленявший, - по мнению А.Я. Гуревича,