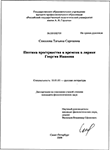Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Лирическая героиня м. цветаевой: модус бытия 12
1. Русская культура начала XX века и творчество М. Цветаевой: перестройка ценностной парадигмы и поиски «нового» бытия 12
1.1. Категория художественного пространства: основные референции и вопросы исторического «освоения» 12
1.2. Культурная ситуация начала XX века и лирика М. Цветаевой: негации, индифференции, пересечения 19
2. Вхождение М. Цветаевой в литературу: поиски лирического «я» 33
2.1. Лирическая героиня Цветаевой: обретение своего спациума . 33
2.2. Структура художественного пространства в ранней лирике Цветаевой (1910–1915 гг.) 39
3. Топология тела в лирике Цветаевой 46
3.1. Душа и тело: отрицания и детерминанты 46
3.2. Плоть и дух: соотношения и трансформации . 57
3.3. Микрокосм Цветаевой: мифопоэтические модели . 69
ГЛАВА 2. Дом и бездомье в лирике М. Цветаевой 88
1. Дом земной и дом небесный: типологические характеристики 88
1.1. Истинный дом 88
1.2. Альтернативный дом. Ложный дом. Казенный дом . 103
2. Пространство поэта: сакральный Spatium в земном мире 113
2.1. Путь поэта по «божественной лестнице» 113
2.2. Дорога в небеса на коне . 114
2.3. Поэтические спацио-«лакуны» . 119 3. Поиск пространства любви 134
3.1. Любовь – «юдоль плачевна» . 134
3.2. Топосы влюбленных: отсутствие общего пространства 146
ГЛАВА 3. Земля и небо в поэтическом мире М. Цветаевой 172
1. Топология земного мира . 172
2. Небесное пространство: иерархия уровней 195
3. Поэтический мир М. Цветаевой как движущаяся субстанция . 226
Заключение 235
Библиография
- Категория художественного пространства: основные референции и вопросы исторического «освоения»
- Структура художественного пространства в ранней лирике Цветаевой (1910–1915 гг.)
- Альтернативный дом. Ложный дом. Казенный дом
- Небесное пространство: иерархия уровней
Категория художественного пространства: основные референции и вопросы исторического «освоения»
Вопросы пространственной организации мира ученые разных областей науки относят к одним из самых фундаментальных. Это объясняется тем, что «одной из универсальных особенностей человеческой культуры, – как отмечает Ю.М. Лотман, – возможно связанной с антропологическими свойствами сознания человека, является то, что картина мира неизбежно получает признаки пространственной характеристики»12.
С помощью пространственных универсалий (верх/низ, правое/левое, внешнее/внутреннее) и вещественного наполнения пространства (согласно В.Н. Топорову, это «первотворец, боги, люди, животные, растения, элементы сакральной топографии, сакрализованные и мифологизированные объекты из сферы культуры и т.п.»13) бытие человека онтологизируется – он не просто получает возможность пространственного ориентирования, но бытийственного, что связано в первую очередь с «разнообразными содержательными интерпретациями (универсалий. – А.К.) (религиозными, социальными, политическими, моральными и т.д.)»14. Закономерно в этом смысле и утверждение Лотмана о том, что «культура организует себя в форме определенного пространства – времени и вне такой организации существовать не может»15.
Пространство не статично и видоизменяется параллельно происходящим культурным трансформациям. Изменения мировоззренческой парадигмы, антропологические «повороты», новые исторические обстоятельства существенно кор 13 ректируют представление о пространстве, сама пространственность16 вает порой колоссальные «превращения». П.А. Флоренский пишет о том, что «вся культура может быть истолкована как деятельность по организации про-ва»17. Эту же мысль высказывает В.Н. Топоров, утверждая: «Каждая литературная эпоха, каждое большое направление (школа), строят свое пространство»18.
Мифологическое пространство мифопоэтической архаической модели мира «оживотворено, одухотворено… это… пространство-космос, пространство-мир»19, – по определению Л.Г. Пановой. Это совершенно иной спациум, нежели геометрическое пространство, которое можно измерить. В древнегреческом языке, например, как отмечает исследовательница, «отсутствовало отдельное слово для пространства по той причине, что пространство не было абстрагировано от мира и от вещей (это произойдет только в Новое время, в философии Декарта)»20. Эквивалент пространства в древнегреческой философии – космос, пустота, воздух, вместилище, место. На заключительном этапе мифопоэтической эпохи, – как свидетельствует В.Н. Топоров, – … пространство предпочитают описывать не столько как гармоническое равновесие соподчиненных частей, имеющее эстетическую ценность… сколько как то, что измеряется… и в чем ориентируются»21. В Новое время появляется представление об абстрактном пространстве (после того, как было «освоено» конкретное). В XVII–XVIII вв. формируются абсолютное пространство Ньютона и относительное пространство Лейбница. Постепенное «осваивание» пространства реализует механизм его аккумуляции, и это процесс обязательно двусторонний: «человек, открывая-порождая пространство, познавая его, овладевает им…, – отмечает Топоров, – но и пространство открывает-порождает человека, познает его и овладевает им… Эта взаимопринадлежность человека и пространства, их взаимозависимость и взаимоотдача составляют самое суть этой структуры, держащейся на взаимной дополнительности и взаимной потребности одного в другом»22.
Одно из первых концептуальных описаний художественного пространства было осуществлено О. Шпенглером в работе «Закат Европы» (1918). Шпенглер в понимании категории пространства исходит из представления о том, что «в каждой душе… живет одно не знающее покоя стремление вполне себя осуществить, создать свой мир… подчинить его при помощи ограниченной и ставшей формы и присвоить его себе»23 (курсив автора. – А.К.). «Присваивая» таким образом мир, человек как бы создает его уникальным преломлением своего индивидуального видения, поэтому, утверждает Шпенглер, «существует столько же миров, сколько людей и культур»24. Нет одного, для всех одинакового мира, «есть вечно новое, однажды существующее и никогда не повторяющееся переживание (мира. – А.К.)»25. То же касается и пространства, оно «так же, как и мир, есть только непрерывное переживание бодрствующего человека»26, и значит, оно уникально и являет себя во множестве индивидуальных сознаний. Разводя геометрию и пространство, общий спациум и единичные, уникальные «миры», верифицируя категорию индивидуального образа пространства, Шпенглер выявляет закономерности художественного пространства.
Попытку проследить эволюционную «историю» художественного пространства осуществил Х. Ортега-и-Гассет в работе «О точке зрения в искусстве» (1924). «Равнобедренный треугольник можно вообразить где угодно, – пишет Ор-тега-и-Гассет, – он будет неизменен на Земле и на Сириусе. Напротив, над всяким чувственным образом тяготеет неотвратимая печать местоположения». Отсюда следует, согласно рассуждениям мыслителя, что «разнообразие образов и сти-лей» вызывается изменением точки зрения художника. Вообще, в индивидуализации изображаемого художником первостепенную роль играет особая «оптика» его глаза. То, как именно он видит, каково так называемое «оптическое качество» расстояния между художником и наблюдаемым им миром – это вопросы, составляющие основу концепции философа. Обращаясь к историческим эпохам и течениям – от Кватроченто до кубизма – Ортега-и-Гассет сосредотачивается на проблеме трансформации пространственных представлений художников от эпохи к эпохе, что позволяет ему обосновать дополнительно, во-первых, исключительность авторского художественного пространства, тем самым отделив уникальное от общего, во-вторых (что представляется и более неожиданным, и более существенным), независимость творения художника от самого художника: «Выдуманное нашим умом, вымышленное мыслью порой не имеет аналогов в реальности, но неверно говорить о чисто субъективном. Мир иллюзий не становится реальностью, однако не перестает быть миром, объективным универсумом, исполненным смысла и совершенства. Пусть воображаемый кентавр не скачет в действительности по настоящим лугам и хвост его не вьется по ветру, не мелькают копыта, но и он наделен своеобразной независимостью по отношению к вообразившему его субъекту»
Феномен художественного пространства – это прежде всего свидетельство эксклюзивного авторского постижения мира. Классической стала дефиниция пространства Ю.М. Лотмана, в которой оно определяется как «модель мира данного автора, выраженная на языке его пространственных представлений»30, «континуум, в котором размещаются персонажи и совершается действие»
Структура художественного пространства в ранней лирике Цветаевой (1910–1915 гг.)
Символистский субстрат обнаруживается, конечно, только в раннем творчестве Цветаевой и ее последующее развитие связано с осознанным отказом от символистской парадигмы.
Общим местом в цветаеведении стала тема романтической традиции в творчестве Цветаевой. Вопрос влияния немецких романтиков столь очевиден, что исследователи предпочитают не останавливаться на нем. В особой любви к романтикам Цветаева признавалась и в своей прозе, и в письмах, и в записных книжках, и в тетрадях. Например, разбирая свои книги, создавая каталог и выбирая что-то на продажу в 1920 году, Цветаева делает запись: «О, мои бедные книжки! Наполеоновская эпопея – и все любимые немецкие – Jean Paul, Kleist, Hoffmansthal…»99. Часто в письмах Цветаева цитирует свои особенно любимые отрывки из произведений романтиков, берет их в качестве эпиграфов к своим произведениям. В 1927 году на просьбу М. Горького рассказать о Гльдерлине, посвящает целое письмо описанию его судьбы и его поэзии100. Гльдерлин становится для нее примером трудоемкой работы поэтического гения – на него она ориентируется, им измеряет поэтическую высоту других поэтов: «Есть поэты без черновиков – сразу набело – имя им легион и цена им грош. Есть поэты – сплошные черновики. Гльдерлин, например, с четырьмя вариантами одного и того же стихотворения (абсолют, очевидно, им найден на небесах!)»101.
Среди авторов-романтиков, имеющих для Цветаевой особое значение, можно назвать Беттину фон Арним, Новалиса, Гльдерлина, Клейста. С их творчеством Цветаева была знакома очень подробно.
Конечно, в целом Цветаева углубляет и расширяет романтическую традицию, поэтому, особенно в зрелом творчестве, бывает сложно определить «родословную» того или иного «романтического» влияния. Тем не менее некоторые романтические «гены» проявились весьма отчетливо и дают о себе знать, даже будучи подвержены определенным трансформациям под влиянием цветаевской воли.
Например, душа в художественном мире Цветаевой есть мерило всего, она средоточие и центр. Не случайно Цветаева в иных случаях переходит на заглавную букву – превращает слово в символ, «уплотняет» его смысл, делает всеобъемлющей категорией. Н.Я. Берковский пишет о том, что для романтиков «душа есть движение, изменчивость, индивидуальность, душа есть жизнь как таковая. .. Романтики верили в революционизирующую роль человеческой души. Душа для них была первоисточником и хранительницей всего живого, неповторимого, всякой творящей силы»103. Все перечисленные коннотации вполне могут быть отнесены и к «цветаевской» душе. Согласно утверждению Цветаевой, «душа – без-гранична»104, «душа не может быть заполнена никем и ничем, ибо она не сосуд, а содержание… Ибо она – заполняющее, единственное заполняющее… ибо она беспредельна»105. От романтиков Цветаева восприняла идею жизни как творения, а идею творчества – как универсалию бытия. «Вслед за немецкими романтиками, – пишет Г.Ч. Павловская, – М. Цветаева провозгласила способность творить высшей, абсолютной ценностью, возносящей художника над миром, дающей личности сверхчеловеческие способности»106.
Чрезвычайно важное значение, как и романтики, Цветаева придавала слуху поэта. Для нее, как она пишет в «Искусстве при свете совести», «словотворчество, как всякое (творчество. – А.К.), только хождение … по слуху» [5, 363]. Поэт – тот, кто способен слышать неслышимое обычным слухом, улавливать «музыку» иного мира. Романтики саму жизнь именовали музыкой, считая, что «слуху дано то, что нам самим, по всей очевидности, никогда дано не бу-дет»107. Цветаева, развивая и углубляя эту мысль романтиков, мир – в восприятии поэта – уподобляет ушной раковине: «Час, когда ухо разъяв, как веко, / Больше не весим, не дышим: слышим. / Мир обернулся сплошной ушною / Раковиною: сосущей звуки / Раковиною, – сплошной душою!..» [2, 198].
Очень близка была Цветаевой идея романтиков о том, что слово относительно поэта первично. Слово «говорит» посредством поэта. Новалис, как пишет Н.Я. Берковский, считал, что «художник не более чем свидетель»108, он мечтал «о таком искусстве, где бы поэт от начала до конца оставался зрителем, сам бы не писал, а, собственно, читал написанное ему и для него силой свыше»109.
От романтиков, вероятно, в большей степени происходит пристрастие Цветаевой к античности, к мифу, ее революционный дух, ее, как сама она говорила, «безмерная свобода», обостренный субъективизм в восприятии мира, в его «присвоении», делании своим, ее «драма внутренней разъятости, распятости между противоположными мирами: материальным и духовным, земным и небесным, рациональным и иррациональным, вечным и злободневным»
«Моральный бунт» начала века, о котором пишут исследователи, сопровождался и высочайшей степенью увлеченности философией Ницше. Объясняется это, в первую очередь, конечно, поисками эпохи, о которых говорилось выше, но более существенным катализатором была «ключевая идея – утверждение самоценной личности»112. Антропологический кризис, обозначившийся на рубеже эпох, значительно пошатнул «прежнего человека», динамика нового века обнаруживала его несостоятельность, нежизнеспособность, что и обуславливало поиски «нового» человека. Однако, как пишет П.П. Гайденко, «аристократический индивидуализм немецкого философа неприемлем для русского сознания, тяготеющего к созданию новых форм коллективности»113. Поэтому неудивительно, что исследователи говорят о феномене «гуманизированного»114 Ницше, которому в таком варианте не чужд был и «дух русской соборности»115. Философия Ницше в России была воспринята на фоне острых духовных нужд, которые и повлияли на ее «приживаемость» и «обживаемость» в условиях неродственного ей русского менталитета. Эдит Клюс, например, считает, что именно «русское восприятие отличалось скоростью и глубиной проникновения в существенные темы ницшевской философии. В то время, – утверждает она, – как для многих во Франции и Германии Ницше представал приверженцем немецкого национализма и империализма…, ведущие русские читатели – как противники, так и сторонники – воспринимали Ницше как философа и психолога морали»116. Вероятно, расположенность к философии Ницше в какой-то степени была продиктована и наличием очень близких к ней поисков русских мыслителей, в частности, В.С. Соловьева. Н.К. Бонецкая, например, в своей небольшой статье «Андрогин против сверхчеловека», рассматривая учение Ницше и Соловьева, пишет об очевидной родственности их идей. «Мифы о Боге и человеке, основоположные для антропологии Соловьева и Ницше, в некотором смысле изоморфны, – отмечает она, – современники, оба эти мыслителя были подвержены одним и тем же тенденциям эпохи кризиса христианства»117. Согласно точке зрения исследовательницы «андрогин играет у Соловьева ту же роль, какая принадлежит сверхчеловеку у Ницше. И тот и другой мыслители ставят перед своими современниками иконы – первый андрогина, второй сверхчеловека. Разница же двух ситуаций… лежит в религиозной плоскости: миф
Альтернативный дом. Ложный дом. Казенный дом
Пожалуй, одно из самых устойчивых и сильных поэтических «переживаний» Цветаевой – это переживание своего собственного тела, приобретающее в поэтическом мире пространственные формы функционирования и осмысляемое спациально. Поэтому совсем не удивительно, что релевантными референциями, и в самой высокой степени, для лирической героини Цветаевой становятся телесные, во многом определяя ее «поведение» в пространстве поэтического мира, ее самоощущение в пространстве и большинство ее пространственных поисков.
Тема телесности (что касается мировой исследовательской практики) стала притягательна для изучения относительно недавно. Как пишут Г.И. Кабакова и Ф. Конт «Непримиримые антиномии тело – душа и плоть – дух… вплоть до XIX века не давали философской мысли сосредоточиться на теле как достойном предмете осмысления вне его связи с духовным началом. И лишь в XIX веке тело перестает быть только оболочкой души или ее низким заместителем, за ним начинают признавать право на наслаждение и страдание, и оно предстает во всей полноте своих физиологических функций»165. «Русскому телу, – как отмечают те же авторы, – до сих пор было уделено меньше внимания, чем, скажем, русской душе или тем более русскому духу»166. Это и понятно, и легко объяснимо – в русской модели мира дух и душа всегда занимали центральное место.
Кэтрин Хэйлис пишет о том, что «тело преимущественно, если не всецело, есть языковая и дискурсивная конструкция»167. Как культурный объект тело представляет собой специфический индикатор цивилизации, эпохи, отдельных периодов и локальных явлений в истории человечества.
Конец XIX – начало XX века в России – время напряженных телоориенти-рованных рефлексий: эпоха судорожно «ищет» тело и, найдя его, пытается понять, что с этим «новонайденным» телом делать. Этот вопрос первых десятилетий XX века – из списка самых главных, мучительных – «озвучивает», в частности, О.
Мандельштам в 1909 году: «Дано мне тело – что мне делать с ним, / Таким единым и таким моим?». Одна из ведущих тенденций Серебряного века в осмыслении тела – стремление вырваться из-под его оболочки, разрушить тесное «жилище» души или духа (в зависимости от индивидуальных представлений) и вырваться из тюрьмы тела в бытие, в духовную свободу.
Поиски способов обретения так называемой духовной свободы реализовались во множестве разнообразных учений, теорий, философских доктрин, цель которых состояла в том, чтобы примирить духовное начало и телесное. Для Блока, например, таким «способом» становится возвращение к человеку в его полноте, «ко всему человеку», как пишет А. Блок. В 1910 году в докладе «О современном состоянии русского символизма» Блок констатирует: «Я стою перед созданием своего искусства и не знаю, что делать. Иначе говоря, что мне делать с этими мирами, что мне делать и с собственной жизнью, которая отныне стала искусст-вом…»169; а в 1911 году в дневнике он записывает170: «нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек. … Назад к душе, не только к человеку, но и ко всему человеку – с духом, душой и телом, с житейским – трижды так»171 (курсив автора. – А.К.). О «целом человеке» говорит и Вяч. Иванов, подразумевая необходимость «изображать земное и сочетать в символическом творчестве кор-ни и звезды… песнь земли и песнь неба»172. Антиномичную категорию «духовной телесности» вводит В. Соловьев, «плоть воскресающую» – Д. Мережковский.
В этом смысле у Цветаевой был очень «личный» путь – религиозно-мистические поиски не были ей близки, так же как и поиски «целостного человека». Это объясняется в первую очередь ее исконным «литературным одиночест-вом»173, а если говорить о «целостном человеке», то его воплощение для Цветаевой – это душа, «оголенная», незащищенная телом, абсолютно бескожная, для которой доступны все пограничные состояния и глубочайшие погружения в бытийные просторы.
Переписываясь с Сергеем Эфроном на докладе Р. Штейнера, Цветаева делает следующую запись: «Если Штейнер не чувствует, что я (Психея!!!) в зале – он не ясновидящий»174 (жирный шрифт автора. – А.К.). Неоднократно называя себя Психеей, Душой175, Цветаева не только подчеркивала свою отчужденность, изолированность от человеческого мира, но также инаковость своей природы – стихийность и, главное, «бестелесность» и «бескожность», как симптомы «психейно-го» самоощущения176. В 1921 году в тетради Цветаева пишет: «С ужасом думаю о притуплении чувства за последние годы, – не любовного (брезгую!) – жалости»177. А в 1932 году к этой записи добавляет: «Просто Бог опомнился и дал первый слой кожи»178. Подобная «программа» отнюдь не означает избавления от телесных «обстоятельств» существования, а, наоборот, способствует гипертрофированному переживанию тела. Состояние потерявшего свои права тела приводит к тому, что оно стремится вернуть себе прежний статус, результатом чего становится тенденция напряженного противостояния души и тела, духовного и телесного. Поскольку участвует в жизни душа и все транслируется из души, переживается душой – даже то, что, казалось, является прерогативой тела179, превращает его в мертвый груз, от которого необходимо освободиться. Цветаева пишет о теле, как нефункциональном, лишнем компоненте: «Я не понимаю плоти, как таковой, не признаю за ней никаких прав» [6, 264]. Из цветаевской антропологии исключена возможность ассоциирования себя с телом: «… разве мое тело – я? Разве оно слушает музыку, пишет стихи и т.д.? Тело умеет только служить, слушаться. Тело – пла-тье»180 (курсив автора. – А.К.). Вопрос соотношения души и тела, если речь идет о конкретной мировоззренческой парадигме, интегрирует и особенности психологии личности, и определенные обстоятельства жизненного пути, и культурные детерминанты, связанные, в свою очередь, с эпохой, ее эстетическими и религиозными константами. Поэтому развести эти разнородные влияния не всегда представляется возможным, по крайней мере это непросто. Тем не менее размышления Цветаевой, зафиксированные ею в тетрадях и записных книжках, а также получившие поэтическую форму реализации, позволяют сделать некоторые предположения о возможных культурных кодах, оказавшихся особенно авторитетными в решении телесной проблематики.
В одной из тетрадей, в 1925 году, Цветаева пишет: «Если Христос и любил плоть, то как поэт: для подобий своих и притч – чтобы людям понятней – никогда в упор, никогда – как таковую»181. А в 1933 году завершает эту запись так: «Христос плоть не любил, а допускал»182. Цветаева тоже плоть именно допускала, но совсем не так, как Христос. Надо заметить, что, будучи всегда внимательна к предпочтению того или иного слова, Цветаева очень аккуратно и очень точно выбирает в данном случае глагол допускал. Отрицать плоть Христос не мог, и, хорошо понимая это, Цветаева чувствовала необходимость остаться в этом высказывании в рамках христианского учения о соотношении тела и души (а с ним она, несомненно, была в той или иной степени знакома), о чем и свидетельствует использованное допускал. Например, в цикле Цветаевой «Ученик» учитель отождествляется с Духом Святым, а ученик – с Сыном Божиим, то есть речь идет о двух Ипостасях Троицы.
Небесное пространство: иерархия уровней
Стихийное родословие героини связано и с ветром. Ее бесплотность позволяет быть на равных со стихиями мира, иными словами, быть посвященной, разговаривать с бытием на одном языке, что становится залогом получаемых ею поэтических откровений. Это с одной стороны. С другой стороны, поскольку в поэтическом мире Цветаевой действует так называемый закон мены, то это же родословие исключает из ее жизни земные чувства и страсти, связанные с проявлениями ее женской природы. Это и оказывается критерием инородности героини миру людей: «Другие – с очами и с личиком светлым, / А я-то ночами беседую с ветром. / Не с тем – италийским / Зефиром младым, – / С хорошим, с широким, / Российским, сквозным! / Другие всей плотью по плоти плутают, / Из уст пересохших – дыханье глотают… / А я – руки настежь! – застыла – столбняк! / Чтоб выдул мне душу – российский сквозняк!» [1, 557–558]. Интересно, что не сама героиня причисляет себя к стихии, но стихия видит ее соприродность себе: « – Небось, не растаешь! Одна – мол – семья! – / Как будто и вправду – не женщина я!» [1, 558].
Тем не менее близость к инобытию, «посвященность» героини и способность к восприятию поэтического откровения достигается ею за счет редуцирования физической природы человека, что реализуется в мотиве разрушения человеческого тела, минимального его присутствия – в пользу высвобождения души и встречи с духовным миром. «Тело – граница своего и чужого, внутреннего и внешнего миров»219, – пишет Тульчинский. Так разрушение тела выступает еще и как разрушение границы между внешним и внутренним пространством, что делает возможным высвобождение души и вместе с тем усиливает болевой синдром от «бескожного» соприкосновения с жизнью, от отсутствия естественной телесной «анестезии» души.
Чем меньше телесных, физических проявлений в человеке, тем доступнее для него иноприродное, то, что находится за гранью человеческого существования во плоти. Так мыслится Цветаевой путь поэта – от одушевленного, но все же телесного существа к бесплотному чистому духу. Постепенное «стирание» примет земной жизни становится свидетельством приближения к бессмертию, к духовному бытию. В стихотворении «Это пеплы сокровищ» таким свидетельством оказывается рано появившаяся седина. Старение тела, его постепенное разрушение ослабляет сопричастность человека жизни – он все менее укоренен в ней, и делает его все более сопричастным Богу. Человек как бы начинает расти корнями вверх. Учитывая, что волосы «символизируют духовные силы»220, а «в аспекте водной символики их можно сравнить с Верхним Океаном»221, седина волос может квалифицироваться здесь как метафора прорастания в духовный мир: «Беззакатного времени / Грозный мел. / Значит Бог в мои двери – / Раз дом сгорел! … Как отвесное пламя / Дух – из ранних седин! … Эта седость – победа / Бессмертных сил» [2, 153–154].
Седина делает очевидным «разлом» между земным и духовным миром: логика земного бытия обнаруживает свой крах перед законами духовного мира. Являясь в земной жизни напоминанием о смертной природе человека, о процессах старения, неизбежных для человеческого организма, в итоге превращающего его в прах, седина становится знаком истинной жизни, перед которой земной мир представляется прахом, особенно в своих самых, казалось бы, незыблемых проявлениях: «Это пеплы сокровищ: / Утрат, обид. / Это пеплы, пред коими / В прах – гранит. / Голубь голый и светлый, / Не живущий четой. / Соломоновы пеплы / Над великой тщетой» (подчеркнуто мной. – А.К.) [2, 153].
Стремление вырваться из оков тела приобретает в поэзии Цветаевой и форму обращенной к Богу просьбы, призыва помочь освободить душу, которая томится в тюрьме тела, задыхается в его душном пространстве: «Дай разок вздохнуть / Свежим воздухом. / Размахни мне в грудь – / Светлым посохом!» [1, 404]. В поэтическом мире Цветаевой находиться в инобытийном пространстве означ ает дышать полной грудью, что связано с обретением своей души, долгожданной встречей с ней. Возвращаясь в земной мир, поэт опять теряет свою душу, «испускает дух». Поэтому рассечение груди здесь – это желание встречи со своей душой, а если быть еще точнее, собственно, возвращение к себе, Психее, Душе, истинно-ному существу, не искаженному земным миром.
Не только стремление высвободить душу может быть импульсом, побуждающим «вскрывать», разрушать тело. В стихотворении «Леты подводный свет» основание «вмешательства» в тело – попытка понять сам принцип поэтического говорения, «найти» его материальные формы в теле поэта. Такой формой становится его «певчее горло». Внутри вскрытого ланцетом горла поэта оказывается перл, или жемчуг, который мешает ему и должен быть удален: «Леты подводный свет, / Красного сердца риф. / Застолбенел ланцет, / Певчее горло вскрыв. / Не раскаленность жрл, / Не распаленность скверн – / Нерастворенный перл / В горечи певчих горл» [2, 141]. Усилия поэта направлены на извлечение жемчужины из горла. Его поэтический труд понимается, как попытка раздробить жемчужину, что, в свою очередь, означает понять суть поэтического процесса «говорения», проникнуть в сущность слова, Логоса: «Железом в хрип, / Тысячей пил и сврл – / Неизвлеченный шип / В горечи певчих горл» [2, 141]. Однако назначение этой жемчужины и состоит в том, чтобы мешать поэту, побуждая его говорить в надежде на то, что вместе со словами жемчужина будет извлечена из горла. Но сколько бы поэт не трудился над извлечением жемчужины, она все равно останется цельной; единственное полномочие поэта – «переплавлять» ее в слова. До тех пор, пока жемчужина будет находиться в горле поэта, он сможет «петь»: боль, доставляемая перлом, является условием сохранения этой способности поэта. Правда, этим не ограничивается семантика образа. Труд поэта по переплавке и обработке перла объявляется напрасным: «…Граним, / Плавим и мрем – вотще. / Ибо нерастворим / В голосовом луче / Жемчуг…» [2, 141]. Жемчуг в стихотворении становится образом, посредством которого транслируется одна из самых фундаментальных аксиом в поэтическом мире Цветаевой: невыразимое не может быть выражено простым человеческим языком, даже если это поэтический язык. В процессе перевода с «серафического» языка на человеческий, поэтический язык (а поэт понимается Цветаевой как переводчик222) высказывание теряет свой первоначальный смысл, проходит своеобразную мутацию, обусловленную необходимостью приспособить его к возможностям словаря, ресурсы которого весьма ограничены.