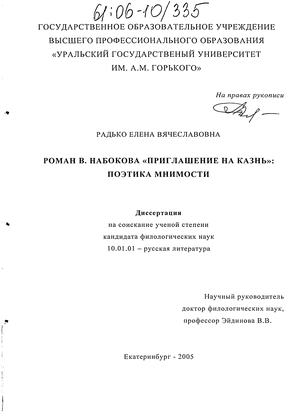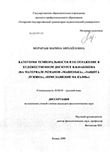Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Поэтика героя: экзистенциальное пробуждение
1.1. Путь экзистенциального героя: психологический и метафизический поиск с.24-53
1.2. Вербальная оппозиция "я" и "другие": проблема словесного самоопределения героя с.54- 71
1.3.Слово, выходящее за свои границы с.72-87
ГЛАВА 2. Словесная организация романа: принцип недоверия
2.1. Смысловая "многомерность" экзистенциального слова романа с. 88-106
2.2.Способы создания условной реальности с. 107-121
ГЛАВА 3. Поэтика сюжета: иллюзорные и подлинные ходы
3.1. Идея «предела» и «преодоления» в пространственной организации романа с. 122-137
3.2. Проблема изображения истинной и мнимой реальности в сюжете романа с. 138-170
3.3.Скрытые сюжетные ходы с. 171-190
Заключение с 181-199
Библиография
- Путь экзистенциального героя: психологический и метафизический поиск
- Смысловая "многомерность" экзистенциального слова романа
- Идея «предела» и «преодоления» в пространственной организации романа
- Проблема изображения истинной и мнимой реальности в сюжете романа
Введение к работе
"Существует ли в мнимой природе мнимых вещей, из которых сбит этот мнимый мир, хоть одна такая вещь, которая могла бы служить ручательством", • на этот вопрос стремится ответить не только Цинциннат Ц., герой набоковского романа "Приглашение на казнь", но и целый ряд исследователей творчества В. Набокова, для которых магия писателя все еще остается до конца не разгаданной. Набоков в то же время позволяет найти путь к своим произведениям - и в лекциях по русской и зарубежной литературе, и в автобиографической книге - ("Другие берега"), и в многочисленных размышлениях об искусстве. Так, в последней лекции, озаглавленной "Большая увертюра. Философия художественного творчества", Набоков выражает свои представления о способе художественного чтения. Как представляется автору, текст в самом себе содержит модель своего восприятия: "Материал художественного текста обязательно включает сознание читателя". В "Других берегах" - книге, ставшей автокомментарием к творчеству, писатель стремится обозначить образные формулы стиля, обнажая и структурные принципы своих романов. Так, Набоков пишет о строгой направленности своей поэтики, о необходимости поиска ее доминанты, смыслопорождающего закона: "Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон" . В "Других берегах" значимо индивидуальное, личное переживание времени. Субъективное вытесняет объективное. Исследование сознания и памяти замещает историческое повествование, рассказ о реальных событиях. Художественное, поэтическое, личное оказывается важнее и подлиннее реального, общего. В автобиографической книге оформляется ряд словесно-образных стилевых формул, в основе которых лежит представление о существовании единственного "точного" пути, прочерченной структурно-стилевой, концептуально наполненной "схемы" произведений писателя, обнаружить которую и предстоит читателю -"предельная точность", "полнозначные очертания", "путеводная нота", отчетливая память", "удивительная систематичность", "энергия", "собственный отпечаток", "правила равновесия взаимной гармонии", "Мнемозина соединяет разрозненные части основной мелодии, собирая и стягивая стебельки нот", "проясняя фокус", "отчетливость". Подобная стилевая направленность, отыскать которую позволяет сам Набоков, становится основой и для исследования поэтики романов писателя.
Набоков считает наиболее адекватным способом освоения художественных текстов, в том числе собственных, - исследование стиля: "Подлинный сюжет, заключается в стиле".3 Индивидуальная структура, по мнению писателя, оказывается "органическим и неотъемлемым свойством личности автора". Постичь "индивидуальную магию писателя" можно лишь, "исследуя особенности стиля". Именно тогда, когда исследователь входит в "механизм" произведения искусства, - возникает ощущение его красоты и "чистой радости от вдохновенного и чисто выверенного произведения искусства". И, наконец, может быть, особо принципиальным в выводах Набокова об искусстве и подходах к нему (здесь кроется ключ к поэтике) оказывается мысль о скрытом, непрозрачном существовании автора в произведении, о том, что "писатель в своей книге должен быть нигде и повсюду, невидим и вездесущ...". Но даже там, продолжает Набоков, где "автор идеально ненавязчив, он, тем не менее, развеян по всей книге и его отсутствие оборачивается неким лучезарным присутствием".
Размышляя о сущности (и тайне!) художественного творчества, о пути его постижения, Набоков тем самым прокладывает "дорогу" для "вхождения" в мир и его собственных творений - во многом "закрытых" и "скрывающих" себя, но ожидающих проникновения в их загадочную природу - через "перечитывание", то есть через пристальный, углубленный, но не лишенный воображения - диалої с ними. Диалог, как говорит Набоков, - через сплав "строгости, точности с инстинктом и интуицией".
В современном набоковедении возникла необходимость нового подхода к поэтике писателя, с целью избежать распространенных и расхожих о ней представлений. Привычные описательные и теоретические понятия оказываются недостаточными. Многие, уже изученные особенности художественного мира Набокова, требуют нового рассмотрения без обращения к готовым категориям. Проза Набокова охотней "открывается" метафорическим и отчасти иносказательным ее определениям. К осознанию этой актуальной проблемы подошли такие исследователи творчества В. Набокова, как С. Сендерович и Е.Шварц (статья "Поэтика и этология В. Набокова"), а также М. Шрайер в книге "Набоков: темы и вариации". Так, С. Сендерович и Е. Шварц считают справедливым изучать набоковскую поэтику с позиций "полного недоверия к впечатлению, что мы ее понимаем, когда читаем на общезначимом языке".5 Эти же авторы отмечают, что "поэтика Набокова не является ни модернистской, ни постмодернистской, ни пост-пост, ни эстетствующей, ни игровой" . По их мнению, поэтика Набокова может вырасти только "на почве непосредственного осмысления Набокова - в процессе попыток понять его язык и мир в их уникальном качестве, поэтика каждого значительного художника должна строиться без предпосылок и без предрассудков". М. Шрайер справедливо говорит о необходимости еще раз вернуться к принципам поэтики романов писателя, для изучения которых "скорее идеален эклектический подход, чем о стройная литературоведческая доктрина". Как точно замечает исследователь, "даже самые мощные теории культуры отступают после нескольких попыток взять тексты Набокова приступом. Тексты Набокова сами подсказывают теории своего восприятия".9 Возникают и попытки нового определения сущности поэтики Набокова, например "поэтика гиперреализма" (Б. Аверин), "поэтика скрытого модернизма" (М.Шрайер), "поэтика просачиваний и смешений" -"биспациальность" (Ю. Левин), "дуалистическая поэтика, сочетающая символистское и авангардное начало" (М. Медарич), "поэтика вещи" (В. Полищук), "визуальная поэтика" (М. Гришакова) и др. Мы - в рамках решения актуальной для набоковедения проблемы - предлагаем свою версию структурной организации текстов писателя. Априорно обозначим ее как "поэтика мнимости". Ее суть в общем виде можно представить как диалогическое движение автора и читателя по пути преодоления поверхностного и ложного, обнаружения скрытого, тайного, чтобы приблизиться к пониманию, что есть "реальность", подлинное и каков авторский идеал. Нам представляется, что это новый поворот, отвечающий набоковскому самосознанию, к которому постепенно подходят "набоковеды" в своих исследованиях, отчасти опираясь на понятия "реального-мнимого", "иллюзорного - подлинного" как в принципах построения текста (первоначально в самых общих чертах - специфика формы и стиля), так и в его проблематике (смысловой план был осознан критиками позднее).
Общее впечатление, которое сразу, в 20-х годах, вызвала проза Набокова-Сирина в критике, можно выразить чувством удивления и стремлением найти предшественников экстравагантной набоковской поэтики и ее пафоса. Причем это общее настроение критики не закрывало противоположных тенденций в отношении к первым произведениям художника, в частности к роману "Машенька". Представитель эмигрантской критики этих лет Г. Адамович10 сразу отметил странность прозы писателя, ее техническую выверенность, стилистическую точность, но вместе с тем - отсутствие в ней ясного смыслового плана. Критик воспринял сущность набоковского творчества лишь как "механическую", говоря о концептуально холодном, бездушном мире. Г. Струве11, другой представитель эмигрантской критики, сосредоточился на художественных истоках "шокирующей" прозы В. Набокова: он пишет об опоре набоковского письма на поэтику прозы А. Белого (особенно - на пародию как принцип повествования). Подобно Г. Адамовичу, Струве выводит творчество Набокова за переделы русской классической литературы, говоря об отсутствии любви автора к
человеку. Главным достоинством прозы Набокова Струве считает способность вольно и напряженно играть своими формами, сюжетами, типами героев, жанрами. Но вот В. Ходасевич говорит о необходимости через анализ набоковских приемов проникнуть в содержательный план текстов писателя, ибо "вне формы искусство не имеет бытия и, следовательно, смысла...С анализа формы должно начинаться всякое суждение об авторе".13 Концепция Ходасевича оказалась важным звеном, соединившим эмигрантскую критику 1920-х годов с более поздними европейскими исследованиями.
Мысль о том, что искусство Набокова метафизично, наиболее отчетливо выражает В. Варшавский в книге "Незамеченного поколение": "Временами жалеешь, что Набоков занимается литературой, а не метафизикой".14
Однако вслед за первой эмигрантской критикой набоковедение последующих лет (включая 1940-1960 гг.) пристально всматривается лишь в формостроительные интенции писателя, практически не затрагивая вопрос об их концептуальной наполненности. Так, например, Эндрю Филд 15 продолжает спор русской эмиграции о классичности и неклассичности прозы Сирина, выделяя свойственные писателю две манеры повествования - традиционную, условно-реалистическую ("Машенька", "Подвиг") и нетрадиционную, новаторскую ("Король, дама, валет", "Камера обскура", "Соглядатай", "Отчаяние"). Отметим, что критик не разъясняет, в чем состоит новаторство "второй манеры" писателя и почему ее можно считать главным принципом, определяющим специфику творчества Набокова. Роман "Приглашение на казнь" остается отчасти в стороне, исследователь обходит вопрос об определении специфичной манеры для этого романа.
В 1970-е гг. появляются монографии таких исследователей, как Ю.Бадер , Дж. Грейсон,17 Джеси Томас Локранц18, Дж. Мойнаган,19 Карл Проффер20, которые продолжают изучать формальную сторону набоковского письма, стилистические приемы и их функции в произведении, проводят параллели с Джойсом, Беккетом, Роб-Грийе. Метафизическая линия в работах этих исследователей остается в стороне.
В 1980-1990-е гг. работы Мориса Кутюрье,21 Пекки Тамми,22 а затем современные работы А.Люксембурга, В. Полищук, С. Сендерович, Е.Шварц продолжают обозначенную исследовательскую линию. Так, А. Люксембург в статьях "Лабиринт как категория набоковской игровой поэтики" и "Амбивалентность как свойство набоковской игровой поэтики" пишет об общей установке повествования на неоднозначность восприятия текста. Как мы можем видеть, исследователь отчасти выходит на проблему соотношения «подлинного» и «фиктивного». Амбивалентность, считает автор статьи, предполагает альтернативные версии, множественность и многовариантность прочтения, каждое из которых стремится стать единственно возможным, опровергая предыдущее как неподлинное - и так далее по кругу. Между представлением о «реальном» и «иллюзорном», как мы можем понять из статьи, нет противопоставления. Такая категория как лабиринт - постоянное блуждание в потемках текста (родственная нашей категории мнимости, иллюзорности, камуфляжности), по мнению A.M. Люксембурга, остается замкнутой, не предполагающей выхода.
Для раскрытия нашей проблемы значимой оказалась и статья Б. Аверина "Пародия ли он?" (о соотношении автора и героя). Б. Аверин решает вопрос о "взаимодействии" автора и героя: воспринимается ли персонаж как пародийный двойник автора или же происходит полное отождествление автора со своими героями. Б. Аверин приходит к выводу, что неистинное всегда раскрывается и уступает место настоящему: всякое отождествление тут же разоблачается. Для нашей работы опорным стало положение о структурной организации набоковских текстов как скрытом обмане и его обязательном разоблачении.
В. Полищук в статье "Жизнь приема у Набокова", анализируя типы и функции приемов в поэтике романов Набокова, пишет об их двойственной природе - они могут быть явными, демонстративными и скрытыми, развивая тему «мнимого - антимнимого» в поэтике текстов Набокова.
На становление нашей концепции повлияли и работы С. Сендерович и Е. Шварц - "Поэтика и этология В. Набокова", "Тропинка подвига", "Приглашение на казнь. Комментарий к мотиву". Авторы статей указывают на скрытый (что близко нашему представлению о неявном, запрятанном, закамуфлированном, но становящимся подлинным) аллюзивный план23.
Однин из крупнейших современных исследователей, соединивший в своих работах традиции формального направления с философским толкованием текстов - Д. Бартон Джонсон . Его книга "Бесконечно убывающие миры" - это попытка восстановить связь между "приемом" и мировоззрением художника, которое этот прием породило. Автор работы также подходит к принципиальной для набоковской поэтики идее приближения к подлинному, обнаружению "более реального". По мнению автора работы, главное в прозе Набокова то, что вымышленный мир внутри автора-персоны стремится к миру автора (реальному), стоящему в таком же соотношении со своим автором ad finum: миры в бесконечном убывании. Мир творчества, считает Д. Бартон Джонсон, состоит из двух или более миров, каждый из которых включает в себя предыдущий и обусловлен высшим, более реальным, миром. Первый мир - низший - это мир повествования, мир героя. Происходящее здесь - только отражение высшего, более "реального" мира автора-повествователя, который в свою очередь
обусловлен высшим, подлинным миром самого Набокова. Под термином мир исследователь понимает повествовательный голос, план выражения.
С идеей Д. Бартона Джонсона перекликается и книга Джонатана Бордена Сиссона "Космическая синхронизация и миры иные в произведениях В. Набокова" (1979), в которой в рамках метафизического направления автор показывает, как с помощью художественных приемов Набоков делится с читателем трансрациональным знанием об иных мирах, существующих по ту сторону обыденной реальности. Автор работы приближается к представлению о неистинности существующей, изображенной в набоковских романах действительности. Похожую идею высказала и Элен Пайфер , утверждая, что путь в иные миры, приближение к подлинному, потустороннему открыты в мире Набокова избранным персонажам, одаренным способностью любить. По мнению исследовательницы, писатель дарит избранным героям способность видеть подлинную потустороннюю красоту и любовь вопреки мнимости обыденного существования.
Продолжая исследование метафизических аспектов, Г. Барабтарло в статье "Бирюк в чепце" обнаруживает второй план ("потустороннее вмешательство"), который постоянно проникает в реальный мир в набоковских текстах. При этом автор статьи также считает важным то, что реальный мир оборачивается фиктивным, а "второй план произведения, тонко, едва ли не эфемерно вплетенный в текст" - более истинным.
В статье "Владимир Набоков и роман XX столетия" (1990) Магдалена Медарич в рамках структуралистской терминологии выявляет характерные особенности писательской манеры Набокова, связанные с двумя главными литературно-эстетическими течениями, модернизмом и авангардом. В отличие от "глобальной интерпретации" (представления о том, что все приемы, используемые в тексте, составляют единый, общий организационный принцип
онтологического характера) автор статьи предлагает "синтетический анализ". Исследовательница отмечает, что в прозе Набокова мирно сосуществуют несовместимые, казалось бы, стилистические особенности, которые и делают Набокова одновременно писателем - символистом и писателем-авангардистом. К авангарду, по ее мнению, следует отнести игровой аспект текста, интертекстуальность и автометатематизирование. От символизма унаследованы орнаментальность (в духе Белого и Шкловского) как организационный принцип поэтического текста и дуалистическое понимание действительности. Определяя место Набокова в истории русской литературы, Медарич относит его к "синтетическому этапу русского авангарда".
М. Липовецкий в книге "Русский постмодернизм" и в статье "Беззвучный взрыв любви" также объединил рассмотрение стиля писателя, его поэтики с основами мировоззрения Набокова. Особое внимание М. Липовецкий обращает на стилевую манеру, игру с языком и бытийную проблематику романов, которая отражает новый тип художественного сознания, разрушающего границу между жизнью и литературой, признающего "эстетические законы абсолютными ценностями человеческого бытия". Набоков, по мнению Липовецкого, художник, ориентированный на воспроизведение Хаоса, бытия с расшатанными основами: "И для Мандельштама, и для Набокова XX век - это эпоха онтологического бедствия. За реальностью "века-волкодава" они прозревают наступление первичного Хаоса - только в Хаосе возможен распад эволюционного порядка, расшатывание устойчивых категорий бытия, появляется образ наступающего на человека Хаоса".29 Идея хаоса отчасти находит отражение в нашей категории мнимости. В своей книге "Русский постмодернизм" М. Липовецкий, анализируя произведения Набокова, подробно останавливаясь на романе "Лолита", показывает движение от модернистских тенденций к постмодернизму в творчестве писателя как нарастание Хаоса и попытки диалога с ним. Однако, на наш взгляд, авторский стиль, пересоздающий реальность побеждает несуразность,
алогичность и пошлость жизни, описываемую героем-повествователем, в которую он погружен. Авторский гармонизирующий уровень поглощает «хаотичность» существования героя в "Лолите" (то же можно сказать и о романе "Приглашение на казнь"). Победа авторского стиля поднимается над творческим поражением героя "Лолиты", который попытался воплотить эстетические, художественные принципы в жизни. Происходит эстетическое, стилевое (своего рода катарсис) пересоздание и преодоление хаоса, "грубого и отталкивающего". Изображение Хаоса, как считает В. Набоков, художественно "выверено и уравновешенно", а значит и уничтожено. Для Набокова - "это и есть стиль. Это и есть искусство. Только это в книгах и важно". Подобным образом, на наш взгляд, снимаются трагизм, мнимость и дисгармоничность изображенной в набоковских романах жизни.
К значимости для набоковской поэтики соотношения истинного и неистинного обращается и М. Гришакова в статье "Визуальная поэтика В. Набокова". Благодаря игровым взаимопроникновениям текстового пространства и изображаемого мира, пересечению точек зрения героя и повествователя, в тексте нарушается привычный тип достоверного повествования, в основе которого лежит их разделенность. Исследовательница выделяет особый принцип чтения как результат эксцентричной поэтики писателя - "принцип напряженного зрения" (внимательно всматриваться в мелочи текста - смыслообразующее начало повествования). Это, по нашему мнению, и есть один из способов обхождения уловок в поэтике.
Э. Найман в статье "Литландия: аллегорическая поэтика "Защиты Лужина" рассматривает структурную организацию романа "Защита Лужина" как своего рода аллегорию, которая требует переворачиваний (в результате неистинного, ложного изображения вещей) как лексических значений, идиом, подтекста у слов, отступлений и дополнений, так и искажений сюжетной организации. Над аллегорическим (в нашем понимании - условным, неистинным) сюжетным уровнем, по мнению автора статьи, поднимается более истинный, "авторский смысловой уровень текста". Авторская позиция и читательская в результате чтения должны соединиться и подняться над поверхностным и неадекватным способом прочтения. (
К проблеме соотношения «реального-нереального» обращается и Ю. Левин в своей работе "Избранные труды. Поэтика. Семиотика", определяя сущность художественного мира Набокова как биспациальность (соотношение между миром реальным и миром воображения как их взаимопроникновение и отталкивание), а основу прозаической организации - как поэтику "просачиваний и смешений" (наложение или смешение различных планов произведения), соотношение рамки повествования (искусственного, т.е. псевдомира) и реального мира. Работа Ю. Левина подталкивает к более подробному изучению совмещения «подлинного» и «фантомного» в набоковских текстах и постановке проблемы их пересечений, замещений. Соотношение между «реальным» и «иллюзорным», «воображаемым» становится особо актуальным при новейших рассмотрениях поэтики писателя. Центральным произведением в рамках этого направления по праву может стать роман "Приглашение на казнь".
Первое прочтение романа "Приглашение на казнь" в эмигрантской критике было "социальным". Так, В. Варшавский в статье "О прозе "младших" эмигрантских писателей" и позднее в книге "Незамеченное поколение" о романе "Приглашение на казнь" пишет, что фантастический мир, окружающий Цинцинната не плод воображения героя, а бред, существующий вполне объективно. По мнению В. Варшавского, реальным всем представляется этот мир социального давления. Цинциннат ("внутренний эмигрант") единственный, кто не признает общий мир в качестве единственной реальности. В. Варшавский вписывает роман "Приглашение на казнь" в парадигму советских "реалистических" романов той поры, в которых создается фиктивный мир, лишенный и внутренней свободы, и реальности. Приглашение на казнь всего
свободного и творческого, как считает В. Варшавский, - это победа любой формы тоталитаризма. По мнению В. Варшавского, Набоков, в отличие от писателей Монпарнаса, внес в молодую эмигрантскую литературу, далекую от политики, сосредоточенную на внутренней жизни, тему защиты личности против тоталитаризма, любой формы угнетения свободы личности. На наш взгляд, фиктивность мира обусловлена не только сложившейся исторической ситуацией, но и миропонимаением Набокова.
П. Бицилли в статье "Сирин. "Приглашение на казнь" относил роман к аллегорическому жанру и интерпретировал его персонажей как вариацию центрального образа средневековых английских мистерий. Бицилли обозначил и важную для нас особенность романа - принцип перевернутого мира, нереальности: "Но если прочесть любую вещь Сирина, - в особенности "Приглашение на казнь", - до конца, все сразу выворачивается наизнанку. "Реальность" начинает восприниматься как бред, а бред как действительность. Прием "каламбура" выполняет, таким образом, функцию восстановления какой-то действительности, прикрываемой привычной "реальностью".31 Ходасевич также отметил, что "Приглашение на казнь" есть не что иное, как цепь арабесок, узоров, образов, подчиненных не идейному, а лишь стилистическому единству. Все прочее - только игра декораторов-эльфов, игра приемов и образов, заполняющих творческое сознание или, лучше сказать, творческий бред Цинцинната. Бицилли и Ходасевич увидели, что "бред" вместе с приемами словесного выражения, становится действительностью, что подводит нас к рассмотрению соотношения «реального» и «абсурдного» в романе, связанного с идеей мнимости и ее преодоления.
Роман "Приглашение на казнь" привлекает внимание и зарубежных исследователей набоковского творчества, таких, как А. Аппель, Д.Б. Джонсон, Ж. Бейдер, Э. Пайфер и др. А. Аппель пишет, что в этом произведении Набоков нелепую логику полицейского государства развивает до "прекрасной окончательной метафоры относительно отделившейся души и посредством этого
делает главной темой произведения не политику, а человеческое сознание"". Джонсон считает, что "Приглашение на казнь" - роман, описывающий "художественный язык и литературу". Пайфер отмечает, что с помощью умелых уловок, делая "реальность тюрьмы недостоверной, Набоков добился успеха, погрузил внутренний конфликт главного героя Цинцинната не в социальную реальность, а в духовные рамки".35 По мнению критиков, "Приглашение на казнь" - это роман, описывающий сознание творческой личности, или же роман, сделавший главной темой литературу и язык. Они рассматривают тюрьму и заключенного как метафору или как своеобразные механизмы, поддерживающие эти темы произведения.
Статья Дж. В. Конноли "Terra incognita" и "Приглашение на казнь" построена по принципу генетического сопоставления двух произведений Набокова: рассказ исследователь считает наброском будущего романа. Автор статьи обращает внимание на тематические, ситуационные параллели двух произведений. Как справедливо отмечает Дж. В. Конноли, Набоков в указанном рассказе стирает границы между иллюзией и реальностью, в результате чего у героя и читателя возникает ощущение запутанности, а в тексте формируется неоднозначность. Герой-рассказчик стремится сделать выбор между иллюзией и реальностью. Рассказчик запутывается в двух реальностях. Подобная возможность двоякого толкования произведения становится характерной чертой поэтики произведений раннего периода. В "Приглашении на казнь", по мнению автора статьи, герой также вынужден выбирать между реальностями.
С. Давыдов в статье "Гносеологическая гнусность В. Набокова", анализируя скрытый диалог между Цинциннатом, автором "гностической исповеди", прослеживает развитие темы познания истинного "я" и предлагает новую интерпретацию, указывая на философские источники произведения. Результаты исследования вскрывают онтологическую основу поэтики Набокова и позволяют обнаружить ее глубокую связь с русской символистской культурой начала века. С этой точки зрения в анализе романа "Приглашение на казнь" особенно существенными оказываются три момента: указание на аллегорический характер книги, на мистическую ее суть и на текст романа как поэтическое воплощение онтологического мифа.
Нам чрезвычайно близка идея Г. Барабтарло, изложенная в статье "Очерк особенностей устройства двигателя в "Приглашении на казнь", что "сюжет приводится в движение приливным действием повторяющихся сигнальных положений...каждое последующее звено отсылает к предыдущему, что важно не только для верного понимания всей сложности композиции романа и его внутреннего устройства, но и для понимания его существенного основания и теологии".3 Оперирование повторяющимися опорными словами и образами, действительно, становится основой набоковской поэтики.
Е. Лебедева в статье "Смерть Цинцинната Ц.", предлагая мифологическую интерпретацию романа "Приглашение на казнь," считает, что в произведении смерть выступает как текст, проявляясь на различных уровнях, что и составляет сюжет всего романа. Нам же представляется, что подобную сюжетную линию необходимо дополнить. В основе сюжета не только борьба Цинцинната со своей смертью, но и с ложным миром, отстаивание собственной уникальности, своего "Я", это и роман о победе творчества над пошлостью, о стойкости человеческого духа, о внутреннем человеческом долге и экзистенциальном пути - тема, требующая самостоятельного раскрытия и детального изучения.
В. Ерофеев в статье "В поисках утраченного рая" подчеркивает, что "концепция индивидуализма замечательно работает лишь в драматических условиях и не переживает своей победы. Иными словами, обретение рая в метаромане Набокова - лишь иллюзия, на самом же деле окончательная его утрата, но в бесплатных поисках потерянного рая страждущая душа обретает достоинство". В романе, действительно, видим победу человеческого духа, благодаря его постепенному "выговариванию", обретению себя в творчестве, что
и становится "раем" для героя, альтернативой его существованию в мире неистинного. В. Ерофеев приходит к пессимистичному финалу метаромана -"вместо томления духа и поисков "сладкого" рая в "Приглашении на казнь" проступает подлинное, не обузданное стилем страдание, настоящая боль".
Комментируя роман "Приглашение на казнь", Э. Филд39 отказывается от идеологически направленной интерпретации, которая ставит произведение Набокова в один ряд с романами Хаксли и Оруэлла. Главной темой "Приглашения на казнь" он считает тему "авторского самосознания" и на этом основании относит роман Набокова к "гоголевской традиции", - одному из двух главных направлений русской литературы, к которому принадлежат Достоевский, Салтыков-Щедрин, Сологуб и Белый и др. К "гоголевской линии", уточняет Филд, относятся те писатели, которые создали новые, оригинальные варианты гоголевской манеры повествования. По его мнению, главная гоголевская черта у Набокова - способность "превращать тени в субстанцию", отчасти унаследованная писателем благодаря и влиянию символистов, в частности А. Белого. Э. Филд анализирует сходство писателей уже более широко: на уровне стиля и принципа повествования, на основе некоего единого с Гоголем художественного взгляда на мир, - то сентиментального (пародийно-сентиментального), то гротескного, меняющего местами людей и вещи.
Ю. Левин в книге "Избранное. Поэтика. Семиотика", обобщив распространенные прочтения романа, выделил три основные возможные интерпретации: 1) все описанное в романе - сон, в конце произведения -пробуждение героя. Это объясняет и сбои речи в романе, раздваивающихся персонажей. 2) В центре романа гротескное описание "реального мира" по типу жанра утопии. 3) Третий вариант - интерпретация, вышедшая из версии прочтения Ходасевича: в романе описан мир художника в состоянии творчества, или творимый художником мир. Множественность прочтений возникает, по мнению исследователя, из-за особого нетрадиционного типа письма. Отказ от традиционного, реалистического повествования, по мнению Ю. Левина, может принимать различные формы. Первый путь и менее радикальный - отказ от жизнеподобия, от моделирования реального мира. Построенный в "Приглашении на казнь" мир предстает как фантастический. Этот путь ведет лишь к традиционным жанрам - сказке, утопии, фантастике. Более радикальный путь, представленный, как пишет Ю. Левин, в романе Набокова - вызов статусу fiction, нормативной нарративности.
Б. Носик в книге "Мир и Дар В. Набокова", опираясь на традиционную, "раннюю", трактовку романа как произведения о подавлении индивидуальности тоталитарным обществом лишь вскользь затрагивает важный для нас, требующий самостоятельного рассмотрения, структурно-семантический принцип "мнимости": "Общий мир, так называемая реальность вовсе не является подлинной. Набоков неоднократно подчеркивает ее мнимый, бредовый, бутафорский характер...В этом мнимом мире надо отстоять свое "я".40
В.Е. Александров в книге "Набоков и потусторонность" также выходит к проблеме двоемирия Набокова, существования "земного" неистинного мира и потусторонней действительности, лежащей за пределами "реальности". Потусторонность, как нам видится, становится обратной стороной мнимости. Дуалистической концепции мира подчинены, как считает исследователь, три аспекта набоковского творчества: его метафизика, этика и эстетика. Об образе иномирия в прозе Набокова пишет и М. Шраер в книге "Набоков: темы и вариации".
Как мы видим, большинство исследователей в той или иной мере обращаются к проблеме соотношения «истинного» и «ложного» в произведениях Набокова. Однако они рассматривают камуфляжность, уловки как отдельный принцип структурной организации произведений Набокова, а не как-самостоятельную, единую, сквозную линию поэтики писателя и сущность его мировоззрения, направленную на преодоление этой мнимости. Выделение
самостоятельной области исследования вокруг обозначенной проблемы в набоковедении можно считать актуальным и достаточно новым. Анализ отдельных "иллюзорных" компонентов прозы Набокова не складывается у многих исследователей в изучение поэтики мнимости как целого. На наш взгляд, эта тема остается одной из наиболее актуальных в современном набоковедении и определяет и научную новизну предлагаемой работы. Требуется постановка особой и самостоятельной исследовательской проблемы и задач ее более детального рассмотрения. Актуальность нашего исследования определяется пристальным вниманием литературной науки последних лет к поэтике Набокова в связи с метафизикой его произведений, и в частности, к роману В. Набокова "Приглашение на казнь" как к мнимо простому, вызывающему споры и разночтения, до сих пор "не разгаданному", но в полной мере проявляющему авторское видение мира, которое стремится эстетически преодолеть несуразность и трагичность жизни.
Нам представляется, что творчество Набокова созвучно идеям философов-экзистенциалистов начала века, в частности, Л. Шестова и Н. Бердяева. Экзистенциальная линия становится связующим звеном многих набоковских произведений, в частности романов "Защита Лужина", "Подвиг", "Приглашение на казнь", в них формируется особый набоковский тип экзистенциального героя. В этих романах акцент сделан на исследовании сознания героя, трагично находящегося в пограничной ситуации перед лицом смерти. С. Семенова справедливо определяет причины, побудившие авторов русского Зарубежья, и в частности В Набокова, акцентировать в своих произведениях экзистенциальную линию: "Для этого существовали свои причины, уходящие в самый тип бытования эмигрантского литератора, особенно чувствительно испытавшего на себе катастрофичность своего времени, его мировоззренческую шаткость, но главное - выброшенного в социальную пустоту, одиночество и безнадежность. Все они, так или иначе, прошли через пограничную ситуацию, через смерть себя прежних, в родной почве. Их выбросило в классическую экзистенциальную ситуацию заброшенности (по позднейшему определению), здесь буквальной
заброшенности в чужой, непонятный мир, посторонность, одиночество. История очертила вокруг них некий трансцендентно-непереходимый рубеж, за которым лежало то, что стало им абсолютно и навеки недоступно - Россия, их потерянный рай"41. С. Семенова подчеркивает, что показ экзистенциального сознания своего героя вписывает творчество Набокова в контекст русского Зарубежья первой волны: "Обозревая цельную панораму русского литературного развития в 1920-1930-е годы, видишь внедрение в личность, в самые глубокие ее извивы, самое сокровенное и скрытое, последние ее вопрошания, стенания и метафизическое отчаяние, те внутренние выходы, какие эта личность находила, - все это стало одним из реальных исполнений эмигрантского задания в своей литературе.42 Однако если большинство писателей экзистенциального толка, как отмечает та же С. Семенова, "настаивают на оборотной стороне, изнанке бытия; в своей экзистенциальной искренности, мужестве видеть и знать, они внедряются в безобразные и страшные, кричаще-трагические стороны жизни, не желая камуфлировать их, осенять эстетически надушенным опахалом, выходят на грань шока, не приемля меры, пристойности, на которых относительно держалась классическая литература, выставляя физиологию болезни, умирания, жизни тела в ее низовых, дурно пахнущих разрезах"43, то Набоков, на наш взгляд, идет не по прямому, открыто-вызывающему пути. Его путь боковой, "сторонний". Безобразный мир он не изображает прямо открыто, негативно, он его вписывает в сферу спутанного, болезненного сознания героя, находящегося перед лицом смерти, выстраивающего психологические защиты, чтобы "сгладить", не ощущать трагизм собственного существования. Отталкивающие стороны жизни писатель изображает отстраненно, холодно (но в "Приглашении на казнь" впервые прорываются авторские оценочные слова, обнажающие изнанку показного-кукольного мира). Ситуация ужаса, трагизма, казалось бы, постоянно стремится скрыться, закамуфлироваться в его произведениях, но именно эта скрытость и подчеркивает общее трагическое существование экзистенциального человека. В набоковском тексте формируется двойной, усиленный трагизм, который первоначально все персонажи пытаются "замолчать". Мнимость, прятки в его текстах акцентируют общее состояние абсурда и безысходности жизни человека.
Научная новизна предлагаемой работы определяется тем, что в ней осуществляется многоуровневый структурно-стилевой анализ романа "Приглашение на казнь", дается новый поворот поэтики писателя с целью выявить квинтэссенцию стиля русскоязычных романов, который балансирует на грани фантомного и истинного, сталкивает разнородные структурно-смысловые начала. Таким образом, предметом нашего научного исследования становится роман "Приглашение на казнь" в аспекте его стилевого изучения. Априорно мы обозначаем поэтику "Приглашения на казнь" как "поэтику мнимости". Основные цели настоящей диссертационной работы: выявить сущность, состав поэтики романа В. Набокова "Приглашение на казнь", репрезентирующую концепцию этого произведения, раскрыть особенности миропонимания писателя. Цели работы формируют основные задачи нашей диссертации:
- Исследовать поэтику романа "Приглашение на казнь"
- на всех уровнях (сюжетном, словесном, уровне построения образа героя);
- решить проблему соотношения подлинного и мнимого как в поэтике, так и в концепции романа "Приглашение на казнь", раскрывающих специфику художественного мышления В. Набокова, его представления о преодолении мирового хаоса;
- найти точки пересечения конструкутивно-смысловых планов "Приглашения на казнь" и ранних набоковских романов.
Материалом исследования является русская романная проза В. Набокова ("Машенька", "Король, дама, валет", "Камера обскура", "Защита Лужина", "Подвиг", "Отчаяние", "Дар"). В центре нашего исследования оказывается роман "Приглашение на казнь".
Объект нашего исследования - произведение В. Набокова "Приглашение на казнь", рассмотренное в контексте русскоязычной романной прозы писателя. Предметом работы является структурно-смысловая организация романа "Приглашение на казнь", обозначенная нами как поэтика мнимости.
Решение намеченных задач определяется системно-структурной методологией. Значимыми для нас стали работы по изучению стиля Ю.Лотмана, 44 А. Соколова,45 Б. Эйхенбаума46, М. Бахтина 47и В. Эйдиновой. 48Так, понятие стиль мы раскрываем с опорой на его современное содержание - как "основной организующий принцип" авторской формы (Б. Эйхенбаум), ее "художественное задание" (В. Жирмунский), "принцип видения и оформления" (М. Бахтин), "дает ключ к специфике творчества художника и литературы в целом" (В. Эйдинова). Методологическую основу диссертации также составляют труды М. Бахтина, Ю. Лотмана, А.Ф.Лосева, Б. Гаспарова, Ю. Левина, В.И. Тюпы, Е.В. Падучевой, М. Липовецкого, Ж. Женетта, Р. Барта, Ю. Кристевой, Ж. Деррида. Так, важными для нашего исследования оказались такие понятия, как "метатекст " - "т.е. такие куски текста, в которых упоминается или обсуждается тот или иной фрагмент текста самого романа, - именно как текста, как литературной структуры - подача событий, композиция, стиль, самый факт написания и т.д. Метатекст актуализирует проблему ситуации создания данного текста" ; "неклассическшї текст" - "в котором читатель все равно сознает, что читает про неправду... Это повествование лишено однозначного характера обычного, "прямого" повествования, внутренний статус которого расшатан за счет информационных характеристик внутреннего мира произведения, влекущих за собой эту неоднозначность или за счет размыкания этого внутреннего мира во внешний, реальный. Общий статус такого повествования - неуверенность читателя в статусе, способе существования такого мира, который создается в произведении" . "Фокализация" (в теории Ж. Женнета "Повествовательный дискурс") - ограничение "поля", отбор информации по отношении к тому, что традиционно называют всеведением (т.е. ограничение точки зрения, сумма ограничений, налагаемых на информацию, доступную рассказчику). Точка зрения - сумма ограничений по отношению к абсолютному всеведению. В понимании нарратива мы опираемся на работы В.И. Тюпы " Нарратология как аналитика повествовательного дискурса" и "Аналитика художественного". В. Тюпа отмечает, что нарратив «не есть само повествование (т.е. композиционная форма текста, отличная от описаний, рассуждений и диалоговых реплик); он являет собой текстопорождающую конфигурацию двух рядов событийности: референтного и коммуникативного... Повествование представляет собой нарративную форму высказывания, суть которой состоит в ее двоякой событийности: референтной и коммуникативной". В понимании "мотива" и "лейтмотива" мы отталкиваемся от работ Б.М. Гаспарова "Литературные лейтмотивы" и В.И. Тюпы "Аналитика художественного". В.И. Тюпа обращает внимание на то, что мотивная структура текста делает художественно значимым любой повтор семантически родственных или окказионально синонимичных подробностей внешней и внутренней жизни. Сюжет, в понимании В.И. Тюпы, представляет собой равнопротяженное тексту манифестирующее смысл авторское изложение фабулы. Это язык эпизодов со своей синтагматикой границ членения и парадигматикой соотнесенности с фабулой, последовательность эпизодов, участков текста, характеризующихся тройственным единством - места, времени, действия (т.е. состава актантов, действующих лиц).
В понимании "текста в тексте" мы опираемся на сборник статей Ю.М. Лотмана "Семиосфера": "Типичным случаем вторжения чужого текста является "текст в тексте": обломок текста, вырванный из своих естественных смысловых связей, механически вносится в другое смысловое пространство. Здесь он может выполнять целый ряд функций: играть роль смыслового катализатора, менять характер основного смысла, остаться незамеченным. Такое построение, прежде
всего, обостряет момент игры в тексте: с позиции другого способа кодирования, текст приобретает черты повышенной условности, подчеркивается его игровой характер - иронический, пародийный, театрализованный и т.п. смысл. Одновременно подчеркивается роль границ текста, как внешних, отделяющих его от не-текста, так и внутренних, разделяющих участки различной кодированности".51
Практическая значимость работы состоит в том, что собранный материал и результаты его обобщения могут быть использованы в дальнейшем научном освоении поэтики и стиля писателя, а также в вузовских курсах истории русской литературы XX века, при разработке спецкурса по теории литературы и по творчеству В. Набокова.
Апробация работы. Основные выводы и положения исследования изложены автором в докладах: на Международной конференции-круглом столе "В. Набоков и Серебряный век" (Санкт-Петербург, 2001); на Международной научной конференции молодых ученых "Русская литература XX века: Итоги столетия" (Санкт-Петербург, 2001); на "Дергачевских чтениях" (Екатеринбург, 2002; 2004); на Российской конференции "Литература в современном культурном пространстве" (Курган, 2004); на Международной научной конференции "Универсум Платоновской мысли. Наследие Плотина" (Санкт-Петербург, 2004); на Международной конференции "В. Набоков и писатели русского Зарубежья" (Санкт-Петербург, 2005).
Положения, выносимые на защиту:
1. Поэтика романа "Приглашение на казнь" определяется авторским "экзистенциальным" видением мира и особым типом изображения своего героя.
2. Принцип мнимости в романе «Приглашение на казнь» становится не частным приемом, а сквозной, структурной линией всего произведения.
3. Понятие «мнимость» оказывается не только концептуальной доминантой, но и основой поэтики романа «Приглашение на казнь». Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.
Путь экзистенциального героя: психологический и метафизический поиск
Набокову чрезвычайно близка проблематика "метафизического": представление о существовании иного, иррационального мира (отличного от реального), измеряемого не физически-материалистическими, но духовными параметрами. Восприятие мира действительного как достоверного, одно возможного и реального Набоков ставит под сомнение. Писатель релятивизирует картину реального мира, делает его непоколебимость и прочность сомнительными. Это обусловлено прежде всего спецификой художественного видения автора: усложнившаяся система ценностей в мире - ее неустойчивость и относительность, когда границы между добром и злом, культурой и бескультурьем стираются, когда отношения между людьми запутываются, а сам мир оказывается многоликим и многогранным, потребовала иного, отличного от реалистического, способа отражения этого мира. Логичное, позитив и стс ко материалистическое, разумное видение этого мира ставится под сомнение, однозначное толкование отрицается, а на их место встают ассоциативные, подсознательно-галлюцинативные, интуитивно-творческие связи. С одной стороны, в романе "Приглашение на казнь" лишь отчасти сохраняется реалистическая, психологическая мотивировка поступков и состояний героя, но с другой - проблема частной конкретной судьбы Цинцинната возводится до предельно обобщенной проблемы существования человека как такового. Внешнее существование героя описывается по законам "мнимого" реализма: реалистические связи постоянно нарушаются проникновением ирреальных мотивировок, галлюцинаций, алогизмов. Относительность существующей в романах Набокова действительности подчеркивается еще и тем, что творчество как результат активности сознания отождествляется с жизнью, приравнивается к ней. Мир, творимый сознанием, становится не менее "правдоподобным", достоверным, чем "правдивый" мир реальности. В понимании «мнимого» и «подлинного» мира В. Набоков сближается с экзистенциальными философами начала века (которые в свою очередь опираются на субъективистское направление философии). Н. Бердяев отмечает: "Реальность для меня совсем не тождественна бытию и еще менее тождественна объективности. Мир же субъективный и персоналистический есть единственно подлинно реальный".1 Человек в модернистском романе "Приглашение на казнь" оказывается на пересечении этих двух миров и в этой пограничной области находится в безостановочном поиске себя. Акцент в "Приглашении на казнь" сделан не на действии, а на показе жизни сознания и психологического состояния героя - именно поэтому в романе мало событий: не объективное, а "субъективное" действие. Мы согласны с С. Семеновой, что "типично экзистенциальное отношение ко всем живущим в man, действительное для всего творчества Набокова, в "Приглашении на казнь" лишь экспрессивно, гротесково сгустилось. Впрочем, в основе такого отношения к другим лежит первично романтическая схема, когда одна исключительная личность центрального героя, страдающего мировой скорбью, противопоставляет себя благополучному, пошлому, низменному миру остальных".
В романе "Приглашение на казнь" предельно обострена экзистенциальная ситуация - одиночество человека, находящегося в пограничной ситуации между жизнью и смертью. Акцент на трагизме жизни человека и его тотальном одиночестве сделан уже с первых страниц произведения: "Цинциннат был пока что единственным (курсив наш - Е.Р.) арестантом (на такую громадную крепость)".3(4;48). Подчеркивается исключительность Цинцинната и безысходность его существования: "На этой белизне лежал изумительно очинённый карандаш, длинный, как жизнь любого человека, кроме Цинцинната». (4;48). Центральной в "Приглашении на казнь" оказывается ситуация метафизического поиска (параллель идеям Л. Шестова и Н. Бердяева) как путь героя (Цинцинната), проявляющий себя в прятках от агрессивного, убивающего мира и в самоосуществлении личности как попытка реализовать онтологическое, коренное, сущностное человеческое свойство - тоску по гармоничному, нереальному, трансцендентному миру, стремление к свободе, воплощение своей творческой энергии, что уже становится "метафизической потребностью" (Л. Шестов). Все романное действие показано через сознание Цинцинната, что и становится отправной точкой в авторском изображении и оценке действительности. Однако сознание героя представлено особым образом. Предельное экзистенциальное одиночество находит выражение в многочисленных оттенках психологического состояния Цинцинната - его страхах, тревогах, неуверенности, уступках окружающему миру, что провоцирует обмороки и галлюцинации, на которых и строится сюжетное действие романа. В. Заманская справедливо называет подобный тип философии произведения "психологическим экзистенциализмом". Благодаря экзистенциальной направленности, на наш взгляд, роман теряет связи с реализмом, приближаясь к модернистскому искусству - все элементы в романе, переданные сквозь сознание главного героя, алогичны, нереальны, "нереалистичны", представляют собой галлюцинации, сон, обморочные состояния - как трагическое проявление психологического состояния человека, заброшенного в чуждый ему мир и вынужденного искать защиту, убежище не только физическое, но, в первую очередь, - психологическое. Путь Цинцинната показан Набоковым в двух измерениях - "горизонтальном" как события жизни конкретного человека (заключенного в крепости, отца семейства, сына и др.) и в "вертикальном" - путь Цинцинната осмысляется писателем как путь "экзистенциального человека", его духовные искания, существование (экзистенция) человека как такового.
Парадоксальные видения, фантазии Цинцинната становятся своего рода психологической защитой от угрожающего ему мира. Так, в сознании Цинцинната происходит "сглаживание" трагизма ситуации - он начинает представлять танцы с тюремщиком ( нивелируя угрожающую действительность, пытаясь обрести "расположенное" к человеку существование): "Спустя некоторое время тюремщик Родион вошел и предложил ему тур вальса. Цинциннат согласился. Они закружились". (4;48). Однако психологические убежища героя оказываются временными, фиктивными, обморочные состояния прекращаются, и он вновь попадает в трагическую, безвыходную реальную ситуацию: "Описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока" (4;48). Обмороки, галлюцинации и сон становятся временным спасением, убежищем для героя, как и его творчество, дневниковые записи, дарующие ему свободу: "Теперь мнилось ему, что он различает тот цветущий куст, ту птицу, ту уводящую под навес плюща тропинку" (4;69). Ситуация подготовки к смертной казни усугубляется еще и трагическим незнанием, неведением дня казни: "Я хотел бы все-таки знать, долго ли теперь...Я хочу знать когда - вот почему: смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Меня же оставляют в том неведении, которое могут выносить только живущие на воле" (4;51). Воображение Цинцанната наряду с его галлюцинациями даруют герою временное освобождение. Цинциннат пытается преодолеть безысходность своего положения, "перейти" в иное, пригодное для него существование. Воображение и творчество и в представлении философов экзистенциалистов, в частности Н. Бердяева, сопоставляются с понятием свободы. Так, Цинциннат выходит из крепости и покидает ее: "Оставив за собой туманную громаду крепости, он заскользил вниз по крутому дер ну.... Цинциннат вошел в город... Изредка наплыв благоухания говорил о близости Тамар иных Садов... Цинциннат узнал свой дом... Цинциннат вбежал на крыльцо, толкнул дверь и вошел в свою освещенную камеру" (4;53). Действительность безжалостна, агрессивна, вынуждает человека искать укрытия, жить в придуманном, мнимом мире.
Смысловая "многомерность" экзистенциального слова романа
В "Приглашении на казнь" Набоков играет с читательским представлением о реальности, меняет читательскую точку зрения. В романе сталкиваются, сопрягаются две тенденции - формируется условность, вымысел разоблачается, но тут же Набоков изображает мир "обостренно" реальный, грозящий смертью экзистенциальному человеку, подчеркивает и проводит на протяжении всего произведения мысль о предельной трагичности существования общечеловека в мире как таковом. Но игровыми способами Набоков стремится преодолеть безысходностш человеческого существования, аннулировать эту трагическую реальность. Он разрушает миметическое восприятие действительности. В романе создается условная реальность. Используя игровое "обнажение приема" Набоков разоблачает вымысел. Набоков не подражает реальности, а творит ее заново. Подобная путаница формирует в романе представление о том, что все - либо отражение кризисного сознания Цинцинната, либо сама действительность дефектна, абсурдна. Акцентируется условность мира художественного произведения, его сделанность. Условность в тексте возникает и как результат экзистенциального неприятия существующего мира, в который человек заброшен и трагически вынужден существовать. Изображенный мир отторгается героем и читателем. Возникает "бытие безымянное, существенность беспредметная". К. Сугимото отмечает, что "выставление вымышленного напоказ читателю - одна из особенностей "Приглашения на казнь". Более того, еще одной особенностью романа является то, что главный герой осознает искусственность мира, в котором он существует".1 Реальность оказывается "запротоколированной" - документом, набором стереотипных фраз, бланком - акцентируется ее искусственность, это не живая жизнь, а протокол. Обнажается ее абсурдность, парадоксальность, дикость: "Сообразно с законом, Цинциннату объявили смертный приговор шепотом" (4;47). Слово-клише становится реальностью. Начиная с первой фразы романа, мы входим в мир абсурда с его сбоями и несоответствиями, отраженными в сознании главного героя, нагнетающими атмосферу аномальной жизни, заявленной в названии романа "Приглашение на казнь". Судья сообщает приговор "подышав", "припав к уху", что можно воспринять как сочувствие к осужденному. Однако тут же - "медленно отодвинулся, как будто отлипал". "Отлипал" - слово сниженного ряда перечеркивает якобы выраженное ранее сочувствие. Как мы видим, роман начинается канцелярским словом повествователя, описывающего окружающую действительность, формируя окостенелый образ пространства. Создается представление об аномальном мире, лишенном нормальных человеческих отношений. Усиление ряда канцелярских слов, их градация актуализирует прием гиперболы ( и шире - гротеска) как один из способов подчеркнуть нереальность, неправдоподобность - мир становится чрезмерно механистическим, "заштампованным", что ставит под сомнение его подлинность, он становится условным. Штампы и фразы нарастают (прием гиперболы), формируя мир ужаса, смерти. В изображении мира сопрягаются «подлинность» и «псевдореальность» -это экзистенциальная линия романа - это мир, убивающий человека, грозящий смертью, катастрофический, он вынуждает человека идти на смерть. С другой стороны, Набоков игровыми способами подчеркивает и формируем псевдореальность, вымышленность этого мира, обнажая способы создания самой этой художественной реальности. Автор делает акцент на процессе создания произведения, подчеркивает, что реальность художественного текста - это вымышленная действительность. Нарастают "механические" обороты - " часы вели себя подобающим образом" (здесь и далее выделено нами - Е.Р.) (4;48); "паук - официальный друг заключенных" (4;48); правила для заключенных" (4;49); "против правил" (4;51); "выработанная законом подставная фраза" (4;54); "законом предписанные опыты" (4;60); "его (Цинцинната) глаза совершали беззаконнейшие прогулки" (4;69). Словесные ряды складываются в одну застывшую цепочку трафаретности: "многочисленными удобствами, которые дозволяет закон"; "к тем непроизвольным телодвижениям, которые непосредственно следуют за отсечением головы"; "счастлив буду уделить всевозможное внимание всякому изъявлению твоей благодарности"; "в виде предположения высказывалась мысль об основной нелегальности Цинцинната"; "заодно с этим меморандумом были отцами города рассмотрены и старые жалобы".
Романтические штампы и слово-пародия отсылают к сказочным историям, акцентируя сделанность произведения. Вновь подчеркивается условность изображенного мира. Примеров такого рода немало. В речи Родрига Ивановича: "Вы, вероятно, не раз чувствовали, как расширяется грудь в чудесный весенний день, когда наливаются почки, и пернатые певцы оглашают рощи, одетые первой клейкой листвой. Первые скромные цветки кокетливо выглядывают из-под травы и как будто хотят завлечь страстного любителя природы, боязливо шепча: "ах не надо, не рви нас, наша жизнь коротка...Мастерское описание апреля, - сказал директор" (4; 139-140). В тексте вновь формируется двусмысленность - или мир предстает кукольным, театральным, абсурдным, бутафорским исключительно в спутанном, кризисном сознании Цинцинната, или он таковым является по своей сути. Романтические уловки, как бы разыгрывая пьесу, претендующую на роль искусства (в действительности псевдотеатральную), использует большинство героев "Приглашения на казнь", создавая общую театральность происходящего (что вновь оказывается в тексте двусмысленным, поскольку все события, изображаются через сознание и восприятие Цинцинната). Так, например, сентиментально-романтические шаблоны проникли в речь Родиона: "Оченно жалко стало их мне, - вхожу, гляжу, - на столе-стуле стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, словно мартышка кволая. А небо-то синехонько, касаточки летают, опять же облачка, - благодать, радость! Сымаю их это, как дите малое, со стола-то, - а сам реву...Оченно, значит, меня эта жалость разобрала" (4; 66). Цецилия Ц., мать Цинцинната, исполняя роль в псевдоромантической пьесе, также обращается в своей речи к искусственному слову: "Сейчас васильки во ржи, - быстро заговорила она, - и все так чудно, облака бегут, все так беспокойно и светло" (4; 127).
Идея «предела» и «преодоления» в пространственной организации романа
Пространство романа "Приглашение на казнь" формируется по законам нереалистического, модернистского искусства. Галлюцинации, изображение "сквозь сон", алогичные метаморфозы становятся приметами абсурдного мира. Сам хронотопический образ отражает основную, экзистенциальную проблематику произведения, связанную с трагически случайным попаданием человека в мир, чуждый ему, враждебный, и стремлением выйти, преодолеть мнимость этой действительности.
Сюжетное действие "Приглашения на казнь" развивается в хронотопе обнажено искусственном, игровом, поддельном - это мир кукол-персонажей, переданный через сознание, восприятие Цинцинната. В основе этой пространственной модели лежит принцип подмен, неопределенностей, метаморфоз, она становится не такой, какой кажется на первый взгляд. Все пространственные образы двойственные, обладают неустойчивым, двоящимся смыслом. Рядом же возникает психологическое пространство героя - как стремление преодолеть трагизм неистинного существования в чуждом, объективном мире (подлинные, искренние чувства героя, его переживания, тоска по Тамариным Садам как воплощение его прошлого счастья) и художественное пространство как реальность, создаваемая Цинциннатом, его самореализация в творчестве. Этот мир постоянен, неизменчив, без притворств, игр, маскарада и показного участия.
Пространственная модель в сознании героя совмещает позиции тут-там -идеального, подлинного мира и искаженного мира, "корявой копии": " Не тут! Тупое "тут", подпертое и запертое четою "твердо", темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам, какое...Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия...Там - неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки, там время складывается по желанию, как узорчатый ковер...Там, там -оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались" (4;101). Цинциннат сознает и несовершенство творимого им мира, стремясь к идеалу ( в этом контексте описание Цинциннатом своего заключения и окружающего мира он воспринимает как искаженное, стремясь к идеальному художественному описанию мира Тамариных Садов, пространству, воплощающему его представление об идеале).
Кукольная действительность притворна, "травестируется" под иной мир, пытается замаскироваться под Тамарины Сады - тюрьма превращается в место идиллии. Цинциннат, пытаясь найти убежище от враждебного мира, в воображении представляет действительность, пригодную для существования. Временами крепость и близ расположенные территории герой мнит собственным домом. Реальность вокруг Цинцинната нередко стремится стать не той, какой кажется. Крепость описывается то как реально существующий предмет ( т.е. крепость, в которой заключен Циницннат), то в тексте возникают намеки, что эта крепость нереальна, всего лишь рисунок. Таким образом в романе возникает двусмысленность и неопределенность: "То же самое, но в виде плана, а именно: квадрат камеры, кривая коридора, с пунктиром маршрута и гармоникой лестницы в конце. Наконец эпилог: темная башня, и над ней довольная луна - уголки рта кверху" (4;80). Нередко видим лишь акварельное изображение крепости на календаре (что лейтмотивом проходит через все повествование): "Аккуратно выставил малиновую цифру стенной календарь с акварельным изображением крепости при заходящем солнце" (4; 145); "директор перестал обмахивать себя картонной частью календаря (крепость на закате, акварель") (4;85); "а миленький календарь, правда? Художественная работа" (4;85).
Пространственные фантазмы отражают трагическое сознание человека, существующего в чуждом и враждебном ему мире и вынужденного искать укрытия и защиту в собственных иллюзиях, спасаясь воображением. Цинциннату кажется, что он выходит из крепости, приближается к своему дому, реальность обрывает его фантазии и он оказывается заточен в темнице: "Цинциннат узнал свой дом. В верхнем этаже окно Марфиньки было темно, но открыто...Цинциннат вбежал на крыльцо, толкнул дверь и вошел в свою освещенную камеру. Обернулся, но был уже заперт" (4;53). Тамарины сады - первоначально место идиллии и свободы ("начались упоительные блуждания в очень, очень просторных ...Тамариных Садах, где в три ручья плачут без причин ивы, и тремя каскадами, с небольшой радугой над каждым, ручьи свергаются в озеро, по которому плывут лебедь рука об руку со своим отражением" (44;58)) оборачиваются местом казни, где в честь представления с Цинциннатом отцы города устраивают циничное празднование. Но Тамарины Сады становятся не географическим, а психологическим пространством Цинцинната, именно они воплощают мир внутренней, психологической свободы, покоя, счастья, подлинного существования, спасение и укрытие от мира неподлинного. Тамарины Сады чаще появляются не объективно, а субъективно, преломляясь в воспоминаниях Цинцинната, его воображении: "Вот они были каковы, эти сады! Там, там - лепет Марфиньки...розовые поцелуи со вкусом лесной земляники" (4;58)...Цинциннат, приложив ладонь к щеке, в неподвижном, невыразимо-смутном состоянии и, пожалуй, даже блаженном отчаянии, глядел на блеск и туман Тамариных Садов, на сизые, тающие холмы за ними, - ах, долго не мог оторваться" (4;68) Вдруг с резким движение души Цинциннат понял, что находится в самой гуще Тамариных Садов, столь памятных ему и казавшихся столь недостижимыми" (4; 163). Так, психологическое пространство Тамариных Садов оказывается спасением, укрытием героя от жестокости и трагизма его объективного существования.
Пространственные образы романа также становятся отражением смутного, спутанного видения героя. Пространство кукол, где происходит внешнее действие, Цинциннату представляется постановкой на сцене: регулярно меняются декорации: "На свидание явилась вся семья Марфиньки, со всею мебелью" (4; 104).
Проблема изображения истинной и мнимой реальности в сюжете романа
Правдоподобное изображение мира, к чему стремились писатели-реалисты, для Набокова невозможно без изображения соприкосновения человека с таинственным, иррациональным, непознанным, недоступным. Однако в русскоязычных ранних романах Набоков не стремится однозначно ответить на последний вопрос бытия, лишь к нему подступая. Начиная с "Машеньки", практически каждый роман Набокова формируется как движение от хаоса и неразличенности к стройности и порядку, благодаря особой выстроенности создаваемого им текста в ориентации на читательское восприятие. Так, уже с "Машеньки" формируется сюжетная неопределенность - встречи прошлого с настоящим, к чему вел роман, не происходит. Остается неразрешенным вопрос -что реально, а что иллюзорно. "Реальный" роман с Машенькой становится иллюзией, в то время как подлинная история - это четыре дня воспоминаний Ганина о прошедшей любви. Более подлинной Машенька становится в переживаниях героя, нежели ее земной образ, так и не возникший в произведении. В раннем набоковском романе уже начинает доминировать тема "нереального", что вступает в противоречие с вещественностью мира, изображенного в произведении. Нереализованное, предвосхищения и воспоминания оказываются не менее значимыми, а может даже, ценнее и важнее "реального". "Стройность" набоковского текста русских романов видна далеко не сразу. Первоначально кажется, что набоковский сюжет неподвижен, повествование топчется на месте, большинство романов начинается затянутыми описаниями (например, "Король, дама, валет" как утомительно длинное движение в поезде). Поверхностный сюжет, связанный с именами Драйера, Марты и Франца, долгое время адинамичен - полусонный вагон, медлительные разговоры, затянутое описание пассажиров. Однако уже здесь вводится скрытая завязка действия, остающаяся незамеченной. Это рассказ Марты о приезде родственника, который поступит на службу к Драйеру - Франце). Сюжетное действие увлекательно для "посвященного", напряжено и захватывает читательское внимание. Изобилие деталей и подробностей (оказывающиеся затем аллюзиями) на первый взгляд кажется неуместным, они не содержат никакого смысла, ассоциативного потенциала (например, сломанные очки и мотив плохого зрения в романе "Король, дама, валет" становятся сюжетообразующими - герои не видят истинных событий, происходящих с ними. Франц не замечает, что становится куклой в руках Марты, Драйер уверен в верности своей жены, Марта убеждена, что ее план убийства мужа успешно осуществится, а в результате умирает сама).
Однако главное сюжетное русло может быть и подводным течением (например, двойное развитие сюжета и привлечение аллюзивного плана), не магистральным, а факультативным, скрытым, отвлекающими поверхностным действием. Кажется, что автор вроде бы совсем не заботится о пробуждении читательского интереса и затрудняет восприятие текста. Повествование и сюжетосложение в романах Набокова алогично и выстроено одновременно, представляет отход от норм русской классической литературы и возврат к ним. Традиционный сюжет русской классической литературы (в частности, Толстого, Гончарова, Чехова) развивался неторопливо, он сохраняет смысловую логику сцепления эпизодов. Набоков же подталкивает и своих героев, и читателя на неверное толкование фактов (так, в "Отчаянии" Герман ошибочно принимает Феликса за своего двойника, в "Камере обскуре" Кречмар верит в любовь Магды, обернувшуюся предательством). Подобно тому, как герой ложно толкует мнимые элементы действительности, читатель также постоянно вынужден отыскивать «мнимое» и «подлинное» в набоковском тексте. Набоковское повествование накапливает массу деталей (экономически насыщенный смысловой избыточностью текст), значимость которых не всегда маркирована (иногда их роль позволяют уяснить многочисленные повторы, багаж читательской эрудиции), связь между деталями также не прочерчена, требует "заполнения" смысловых пустот текста. Кульминационные моменты текста затушевываются, центральная сюжетная линия скрывается, уходит на дно, опутывается сетью скрывающих ее сюжетных нитей (например, в "Подвиге" - внешним неподлинным сюжетом становится подготовка и переход Мартына Эдельвейса в Россию, внутренний же, истинный сюжет связан с духовным подвигом, обретением собственной индивидуальности и отстаиванием своего "я"; эта главная сюжетная линия окружена многочисленными другими - измены, героический поступок на гражданской войне, революционная борьба в России и др.) По Набокову никакая очевидность не является достоверной. На уровне сюжета происходит вторжение иррационального начала, чуда, непредсказуемого. Сюжет построен таким образом, что случайное сочетание фактов герои ошибочно интерпретируют как закономерность своей судьбы (Лужин из "Защиты Лужина" находит ранее спрятанную шахматную доску и из привычной размеренной жизни попадает в мир шахмат и своей болезни).
В хаосе набоковского сюжета затерян тайный узор, который необходимо распознать среди множества линий. Построение набоковских сюжетов повторяет многогранную картину действительности (например, многоликость образа Смурова из "Соглядатая"). По мере чтения сюжет начинает проясняться - этому "самораскрытию" служат повторы знаковых ситуаций, элементов, образов. Они заставляют вспомнить ранее прочитанный участок текста, вернуться к уже пройденному и сопоставить разрозненные элементы, составив единую картину. Системой глубоко скрытых повторов или неявных соответствий Набоков вынуждает читателя погрузиться в воспоминания о тексте (например, в "Камере обскура" ключевой сюжетной ситуацией становится фраза "любовь слепа," случайно произнесенная доктором, а сам образ камеры обскура становится структурным принципом романа, намекающим на необходимость переворачивания всего действия - каждый из героев живет в воображаемом мире, который становится иллюзорным: Марта мнит себя великой актрисой, а снятый фильм обличает ее бездарность. Слепой Кречмар существует в мире, который для него создает Горн, придумывая ложные цвета и формы. Горн, считавшийся талантом, оборачивается пошлым циником).
"Приглашение на казнь , усложняя, синтезирует поэтику ранних романов Набокова, к тому же воплощает и многие их сюжетные ходы, смысловые линии. Корпус ранних набоковских произведений становится призмой, через которую можно понять и сюжетное действие "Приглашения на казнь". Первоначально остановимся на сюжетных перекличках русскоязычных набоковских текстов. Так, например, двойственность миров романа "Машенька", чередование то реальной действительности, то воспоминаний Ганина, размывание между ними противопоставления, смысловое балансирование между истинной и неистинной реальностью преобразуются в "Приглашении на казнь", во-первых, в колебания между сознательным, бессознательным, рациональным, иррациональным, между реальностью, дневником, который пишет Цинциннат Ц. и сомнительным действительным миром - нереальность происходящего усиливается театрализацией: в галлюцинациях Цинцинната персонажи предстают актерами в париках и костюмах, а окружающее пространство видится героем как декорации. В "Приглашении на казнь" одной из центральных становится проблема двойничества автора и героя, жизни и текста, проблема, еще незаметно обозначенная в "Машеньке". Понятие реальности в "Приглашении на казнь" заметно усложняется по сравнению с первым набоковским романом. С одной стороны, - это реальность Цинцинната-героя, о котором ведется повествование. С другой - это реальность Цинцинната-автора, ведущего дневник. И в третьих, - это высший, авторский уровень, роман о Цинциннате - творце. В "Машеньке" существовали постоянные переходы между воспоминаниями и реальной жизнью Ганина, явной антитезы между ними нет. В "Приглашении на казнь" также все показано как смесь состояний - рациональное и галлюциногенное, настоящее и мнимое, пространство мира, в котором существует Цинциннат или пространство текста, который он создает.