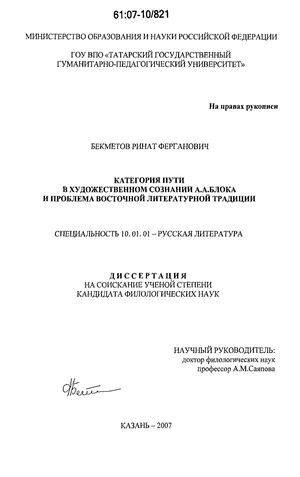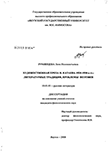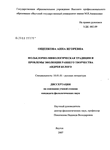Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Путь как инвариант символического мышления А.А.Блока в аспекте средневекового поэтического сознания . С. 40-141.
1.1. Путь как комплекс лирического сознания в теоретическом ракурсе: онтологический смысл, извлеченный из художественной формы С. 42-82.
1.2. Эстетический идеал как «золотое» сияние Божества: духовный путь раннего блоковского героя к сакральной «Звезде» в контексте средневекового миропонимания С.82-117.
1.3. Средневековая ценностная позиция, ее статус в лирическом сознании поэта: к интенциональной природе смыслов блоковского художественного слова С.117-141.
Глава II. Символический образ Вечной Женственности как восточный архетип в системе мифопоэтического мышления А.А.Блока С.142-236.
2.1. Средневековый арабо-персидский литературный канон «маани» в лирическом описании блоковской Возлюбленной С. 144-184.
2.2. Историко-культурная и психологическая топология блоковского пути в свете средневековой традиционалистской поэтики: к истокам трагического мироощущения «влюбленного» поэта С. 184-200.
2.3. «Океанический субстрат» в составе интенциональных переживаний поэта: эстетика поли генетического диалогизма и значение потаенного культурного кода в становлении символической образности С.200-23 6.
Заключение С.237-244.
Библиографический список С.245-262.
- Путь как комплекс лирического сознания в теоретическом ракурсе: онтологический смысл, извлеченный из художественной формы
- Эстетический идеал как «золотое» сияние Божества: духовный путь раннего блоковского героя к сакральной «Звезде» в контексте средневекового миропонимания
- Средневековый арабо-персидский литературный канон «маани» в лирическом описании блоковской Возлюбленной
- Историко-культурная и психологическая топология блоковского пути в свете средневековой традиционалистской поэтики: к истокам трагического мироощущения «влюбленного» поэта
Введение к работе
Предлагаемая диссертационная работа посвящена подробному осмыслению символического «пути» как важной философско-эстетической составляющей творчества А.А.Блока в аспекте словесно-художественного наследия Востока эпохи Средневековья. Эта проблема, истолкованная в несколько новом теоретико-методологическом ключе, по сути, еще не была предметом тщательного внимания и потому представляет собой достаточно серьезный научный интерес.
Актуальность настоящей работы объясняется необходимостью более глубокого осмысления феноменологии блоковского духовного опыта в его поэтической и философской сущности с тем, чтобы, опираясь на фундаментальные труды Д.Е.Максимова и З.Г.Минц, посвященные раскрытию авторского сознания А.А.Блока в структурах лирического текста, полнее представить творческий путь поэта «Серебряного века». Этим и вызван наш интерес к средневековому типу художественного мышления, который, как показали попытки рассмотреть материал этой эпохи, стал одним из истоков формирования поэтического голоса лирика «рубежной» поры. Констатация этого факта способствовала поиску интертекстуальных связей блоковской символической поэзии со средневековой литературной лирикой (в первую очередь, арабо- и персоязычной). Еще В.М.Жирмунский в работе «Гете в русской литературе» [Жирмунский 1981] отмечал влияние немецкого автора на русских символистов. Самым, пожалуй, цитируемым и переводимым в символистской среде (А.Белый, Вяч.Иванов, Э.Метнер) произведением был гетевский «Западно-восточный диван», привлекавший внимание «восточной» составляющей литературно-философского смысла.
Понятие «пути» извлекается нами как образ из блоковской лирики. Последовательно принимая концептуальные посылы Д.Е.Максимова и развивая их, мы делаем это понятие философско-эстетической единицей. Она позволяет нам моделировать исследовательскую тему в интересующем проблемном ракурсе, ибо образ, как свидетельствуют работы А.Ф.Лосева, это всегда (в проекциях мышления) и символ, и аллегория, и идея, и предмет, и представление, и - что важно - комплекс как инвариантная смысловая структура. Отсюда символический путь А.А.Блока, вслед за многими исследователями творчества поэта (Д.Е.Максимовым, З.Г.Минц, Н.Венгровым и др.), понимается нами не только в качестве вполне определенного содержательного образа, но и в более отвлеченном (хотя производном) качестве творческого принципа, упорядочивающего как конкретный образ-символ «пути», так и всю художественную систему поэта по некоему внутреннему закону. Этот закон духовного становления, а также скрытые основы его образной экспликации, требуют внимательного осмысления в контексте средневекового восточного поэтического сознания (по традиционной хронологической классификации, V-XV вв. н.э.), являясь предметом нашего исследования. В нем сосредоточено представление о философско-эстетической сущности творческого самопознания, вне которого «словесный поступок» (М.М.Бахтин) теряет исконно ценностный смысл, превращаясь в обыкновенное («профанное») словоупотребление. «Путь» как важная составляющая блоковского творчества дает нам возможность глубже понять тип творческой рефлексии автора, специфику его образно-философского мировосприятия в русле художественно-стилевых и мировоззренческих традиций средневекового Востока, поскольку именно Востоку принадлежит важная роль в формировании названной категории. «Путь» для восточного сознания средневековой эпохи был основным образно-символическим конструктом, полноценно выразившим себя как в философской системе антропологического толка, так и в поэтической практике. Изучение этого принципа организации лирического сознания у А.А.Блока нуждается в нетрадиционном аналитическом подходе. Вопрос о средневековом генезисе символических мифопредставлений, а также их типологическом сходстве со средневековым мировидением в блоковедческой науке поднимался не однажды. Проблема эта корнями уходит в русскую философско-мистическую и религиозную традицию, связанную в начале XX века с именами В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева, П.А.Флоренского, С.Н.Булгакова и др. творцов духовного Возрождения, интеллектуально развивавшихся в тесном взаимодействии с литературным наследием XIX столетия. Именно эти мыслители последовательно обращались к историческому и культурному Средневековью в поисках тех устойчивых теоцентрических ориентиров, которые были растрачены новым европейским временем с его культом крайнего индивидуализма и позитивистской механистичности. Отсюда подъем рефлектирующего сознания, выход из напряженного психологического кризиса «рубежной» эпохи виделся им возможным на путях новейшего приобщения к средневековому мистическому гнозису, унаследовавшему одухотворенное учение от архаической культуры. Не случайно Н.А.Бердяев, внимательно всматривавшийся в религиозно-философские искания эпохи, лаконично подчеркивал, что спасение современного ему человека целиком зависит от того, сможет ли он принять многочисленные теософские доктрины в активной форме, осмыслить их и возвратиться к той тайне благодатной любви, которая составляла стержень средневекового миропонимания в цветущую пору [Бердяев 1991: 109-125]. Классическое Средневековье для философов было, таким образом, синонимом свободной, не понуждаемой извне религиозности, благодаря которой, в частности, идеалы христианского гуманизма не казались понятиями совершенно отвлеченной природы. Применительно к А.А.Блоку подобная установка реализовывала себя тем, что в поэте усматривали некую «тайну личности». Ядро этой тайны сосредотачивалось вокруг актов экстатически-творческого преображения действительности, поскольку только они по-настоящему определяли нетленность духовного лика поэта, сумевшего, с одной стороны, приобщиться к свету высокой божественной гармонии, а с другой почувствовавшего трагизм экзистенциальной «заброшенности в бытие» (М.Хайдеггер). Для посвященных современников А.А.Блок был личностью, в которой вечно неуспокоенная творческая сущность производила, говоря языком эллинистической философии, неизбывную эманацию теургической первопричины, созидая новый пласт реальности, преодолевающей человеческое качество в самом субъекте жизненных отношений, но и заставляя блуждать в путаных линиях «лиловых миров».
Глубинная сущность А.А.Блока, потому, виделась в архаично-средневековом, антиномичном плане. Как субъект творчества в актах художнической аскезы и откровения он как бы снимал с себя земные покровы, переживая интенсивный взлет чувств и соприкасаясь с миром мифологической Женственности; но как человек он был одновременно связан и с вещественно-осязаемой стихией земного бытия, вносившего хаос в стабильные структуры умопостигаемого порядка. Вместе с тем следует сказать, что четко просматривавшаяся в начале XX века «средневековая» тенденция в толковании блоковского слова в дальнейшем, за редким исключением, не получила серьезного развития. С течением времени произошел разлад научно-философских парадигм, усложнивший и без того далеко не полноценный диалог исторических поколений. Так, из понятийно-терминологического обихода были искусственно извлечены и преданы забвению такие категории блоковского символического мифомышления, как «мистицизм», «эзотерический подтекст слов», «посвятительный обряд сознания», «мистериальностъ пути», «просветленность» - словом, такие категории, принадлежность которых к языку идеалистического дискурса не вызывала сомнений. Ныне эти термины органично входят в область научных интерпретаций [Обатнин 2000]. Для современного блоковедения они составляют интерес, как правило, в контексте гностического учения раннехристианской поры (И-Ш вв. н.э.), оказавшего подспудное влияние на становление средневековых мистических орденов. Из работ последних лет на эту тему назовем труды И.С.Приходько [Приходько 1991, 2000а, 20006] и Д.М.Магомедовой [Магомедова 1997]. Однако при всей вдумчивой проработке давно назревшего вопроса средневековый пласт поэтического сознания А.А.Блока в его неоднородном интенциональном составе дан у них все-таки неполно, в частичном, хотя и, безусловно, глубоком разборе.
Много раньше названных исследователей к «Средневековью» в литературном наследии А.А.Блока обращался В.М.Жирмунский [Жирмунский 1977: 244-398]. Отдавая дань безусловной значимости и актуальной глубине высказываний ученого, подчеркнем, что Средние века (как они воплотились в европейской системе культурных ценностей) трактовались им в исключительно тематическом свете, как объект или обстановка поэтических описаний и рациональных суждений А.А.Блока, что несколько сужало круг внесознательных представлений о средневековой поэтике в недрах блоковского символического мышления. Для нас «Средневековье», в отличие от суждений В.М.Жирмунского, - совсем не тема блоковской лирики, не расхожий образ, мотив или даже стилистический прием, ориентированный на эффект подражательного воссоздания чуждой поэтической и культурной реальности, а способ универсально-эстетического самовыражения, тип активной рефлексии, благодаря которой художник имеет возможность глубже раскрыть предзаданное философское назначение в мире. В этой связи гораздо любопытнее было бы указать на статьи М.Ф.Мурьянова [Мурьянов 1972, 1999], в которых впервые была осуществлена попытка осветить некоторые аспекты мифологического сознания А.А.Блока не только в ракурсе гностической доктрины и средневекового европейского творчества, но и под углом эпохальной моды на средневековую восточную мистику. В настоящем исследовании мы оставляем в стороне разного рода исторические и социальные причины, породившие поэзию А.А.Блока в той ее форме, в которой она нам объективно дается. В блоковедческой литературе об этом писалось достаточно и даже с излишеством, если мы учтем социологический пафос многочисленных работ об А.А.Блоке и его времени (В.А.Кирпотин, Н.Венгров, М.Ф.Пьяных и др.). Первыми литературоведами, взявшими на себя труд по постепенному преодолению массы клишированных научных высказываний о А.А.Блоке, как известно, были представители Ленинградского кружка (Д.Е.Максимов, З.Г.Минц, А.Пайман), переросшего затем в Тартускую школу блоковедения (З.Г.Минц, Ю.М.Лотман, Б.М.Гаспаров, А.Д.Руднев, Ф.Я.Прийма, М.В.Безродный). В работах этих исследователей впервые вполне отчетливо была сформулирована проблема глубинных мифопоэтических и философских корней блоковского словесного творчества в контексте романтического миропонимания. Проблема средневекового пласта культурного сознания в составе символического мироощущения А.А.Блока в них не затрагивалась, хотя есть основания полагать, что она без труда могла бы вписаться в сам комплекс теоретических воззрений авторов. Мы впрямую ориентируемся на их металитературные позиции, поскольку в различных статьях и монографиях они ставили себе задачей описать наиболее объективные и общие закономерности блоковской поэтики. Лишь в этом смысле можно понять, что наша трактовка символического «пути» А.А.Блока в русле средневековой восточной парадигмы творческого мышления есть логическое продолжение сформулированного корпуса идей. Остановимся кратко на концептуальных посылах Ленинградской и Тартуской школ, выделив опорные взгляды, на которых вырастает наша проблема. 1. Д.Е.Максимову в свое время удалось нащупать глубинное основание творчества А.А.Блока - его единство, целостность, замкнутость, притом не только в границах поэзии, но и в пределах обширного литературного целого. Именно отсюда вытекал опыт выявления факторов тотального единства блоковского сознания. К ним исследователь относил: а) идею пути, объединяющую различные лирические темы; б) сквозные сюжеты, мотивы, символы и мифологемы, определяемые им в качестве тех интеграторов, посредством которых блоковское творчество превращалось в «непрерывную вязь» иерархически организованных семиотических структур; в) феномен циклизации как объединенность стихотворений в циклы и лирических циклов между собой; а также г) единство лирического героя, за которым всегда стоит сам автор. Все вместе это давало возможность считать, что каждое отдельное стихотворение поэта не может быть правильно истолковано вне целого, без учета смыслового контекста [Максимов 1981]. Развитие этих представлений привело к необходимости ввести понятие «автобиографического мифа о пути», под которым исследователь подразумевал мифопоэтическую связь биографии и творчества у А.А.Блока. Названные свойства поэтики писателя казались Д.Е.Максимову тем верным ключом, благодаря которому осуществлялась наиболее адекватная оценка блоковской лирики не только в объеме русской словесности, но и в охвате мирового литературного процесса. В трудах Д.Е.Максимова поэт обретал такой сущностный лик, что даже внешних, конструктивных аналогов его новаторства, по мнению исследователя, за редким исключением, весьма затруднительно было отыскать в мировой литературе. (Последний факт нельзя считать окончательным, и на примере символического «пути» как категории художественного философствования мы постараемся это показать).
2. Приблизительно в это же время З.Г.Минц, освещавшая блоковскую поэзию со структурально-семиотической точки зрения, формулирует положение, в соответствие с которым символическое мироощущение А.А.Блока базируется на концепции Текста как «мифа о мире» [Минц 1979]. Исходя в своих размышлениях из того взгляда, что символисты были склонны приписывать объективной реальности знаковые качества, она заключила, что всеобщий мир в символических глазах складывался из системы иерархически организованных текстовых форм. На вершине бытийного порядка пребывал у символистов универсальный Текст мистической природы, самый реальный из всего реального в природном и социальном космосе. Он имел не абстрактно-понятийное происхождение, а конкретно-образное, сенсорно воспринимаемое («Бог», «Душа Мира», «Хаос»), возвышаясь над «фактурой» низшего уровня («искусство» и «жизнь»). Последние «тексты» отличались своей множественностью, воплощая в непосредственно данных символических манифестациях Единый, Мировой, Универсальный Текст. При этом в изначальном замысле они являлись не только простым отображением частей главного Текста, но и цельными смысловыми структурами, в полной мере отражавшими значение такого Текста. В свернутом виде в них однозначно была заключена вся философская и мифологическая программа символистов. Реконструкция всеобщего инвариантного Текста позволяла всесторонне рассмотреть природу модернистского стиля мышления, а также наметить основные линии его развития. Теория Д.Е.Максимова о творческом «пути» А.А.Блока и З.Г.Минц о мировом символическом Тексте лежит в плоскости романтической картины мира, в разрезе усложненного ее толкования в новых социальных условиях. Вместе с тем содержание исследовательских размышлений таково, что при последовательном отношении к ним и расширении круга исторических эпох средневековая культурная система парадигматически может быть выдвинута на первый план. Тогда суждение о том, что блоковская поэтика оригинальна по конструктивным возможностям творческого стиля, по самому специфическому характеру организации лирического материала, потребует определенной корректировки. Корректировка эта для нас важна еще и потому, что вместе со средневековой типологической моделью бытия она заставляет рассмотреть проблему восточного лирико-философского комплекса художественной мысли поэта как той доминанты, которая потаенно, через сложные и не всегда понятные механизмы культурной рецепции могла определять как эксплицированный слой значений поэтического слова, так и существенные (имплицитные) грани словесной эстетики А.А.Блока. В свете сказанного кажется целесообразным вкратце уточнить вопрос о символико-романтическом типе блоковского мироощущения. Известно, что тезис о романтических истоках символизма был принципиальным не только для А.А.Блока, но и для круга его единомышленников. Нерасплывчатый ответ на этот вопрос позволял им провести точную литературную самоидентификацию. Нужно, однако, признать, что по отношению к поэту этот, в общем, верный тезис был абсолютизирован, несмотря на то, что эстетическое мышление символистов стремилось вобрать в себя мировое наследие во всем мыслимом объеме содержания. Получалось, с одной стороны, что идея универсального синтеза принималась историками литературы как несомненный факт символистской рефлексии. В этом смысле поэтический символизм А.А.Блока именовался системой, главным качеством которой являлась «полифония идей», диалог неких скрытых и укорененных в культурную традицию эстетических принципов чувственно-отвлеченной природы [Паперный 1979]. Но, с другой стороны, когда речь шла от деклараций к незаданному разбору творческого наследия, оказывалось, что поэт был либо символистом-неоромантиком, ожидавшим возможности обновления на путях объективного социально-психологического реализма (Д.Е.Максимов, З.Г.Минц и др.); либо последовательным символистом в строго очерченных рамках «между христианством и гностицизмом» (И.С.Приходько). Вся палитра генетических смыслов блоковской лирики в таком случае, вопреки глобальному синтезу, объявленному А.Белым в статье «Эмблематика смысла» (1909), оставалась как бы фоном, на котором выделялись отдельные аспекты общей проблемы словесно-эстетического освоения мира. Даже когда В.М.Жирмунский в связи с концепцией «Всеединства» ввел для описания поэзии А.А.Блока термин «полигенетичность», он фактически означал совсем не то, что мог под ним понимать сам символист. «Полигенетичность» в конкретном понятийном плане означала связанность лирического сознания А.А.Блока с различными сторонами литературно-духовного бытия, однако само оно ограничивалось либо русской классикой в романтическом оформлении по преимуществу, либо западноевропейским контекстом творчества. Подразумеваемый Восток, архаичный или средневековый, как глубинный элемент мирового культурного процесса из контекста научных построений, чаще всего, исключался как заведомо не логичный вопрос, хотя в общих работах по истории «Серебряного века» определенное место ему отводилось в оболочке «романтического ориентализма». Последнее обстоятельство предполагало, что Восток выступал в качестве темы, мотива, сюжета или подражательной стилистической формы, используемой автором с целью воссоздания экзотики далекого и чуждого европейской культуре топоса. Между тем проблема «восточного субстрата» средневековой мысли, задававшего европейскому самосознанию модель творческой активности, остается насущной задачей современных исследований, и было бы любопытно посмотреть, находит ли он, этот «субстрат», в осколочном и неявном виде инвариантное продолжение в «кризисных» типах сознания. Формы культурного мышления, как правило, меняются медленнее идей. Именно поэтому следует признать правоту тех исследователей, которые утверждают, что средневековый и, в частности, «восточный» духовный вектор развития европейской цивилизации не прекращался в продолжение всего исторического времени после Средневековья. Сохраняя основное ядро ценностей, он воплощался в разных эпохах, в том числе и в разных авторских сознаниях [Шабуров 1986: 99-100; Эко 1994; Гуревич 1984]. Более того, теперь стало общим местом мысль о том, что рубеж эпох для Европы всегда оборачивался «взрывом» (Ю.М.Лотман): в нем психологический кризис парадоксально преодолевался новым типом мироощущения. Стоит вспомнить в этой связи сформулированное еще Л.С.Выготским [Выготский 2000: 74, 84, 88, 114] общеметодологическое положение, согласно которому кризис мышления не есть стихийный выход в никуда, обыкновенное разрушение некогда слаженной интеллектуальной системы. Нередко кризис несет в себе массу непредсказуемых, благоприобретаемых идей, образование которых в иные времена и, следовательно, в ином мировоззренческом контексте было бы лишено всякого позитивного смысла. Если же задаться тем вопросом, какой ресурс энергии лежал в основе продуктивного преодоления европейским самосознанием крайних экзистенциальных состояний, нельзя не заметить того, что в спасительной роли нередко выступал здесь Восток. Эту роль нельзя абсолютизировать, поскольку зачастую мы имеем дело с таким многосоставным культурным феноменом, который в силу хаотичной и размытой динамики просто исключает однозначность в ответах на вопрос о своей причинной обусловленности. Однако роль Востока в полифоническом диалоге западноевропейских культур вполне замечаема. Находясь в поисках выхода из ситуационной смены ценностных ориентиров, они нередко готовили в себе такую литературную и философскую нишу, на которую опирался Восток, приходя извне (о теории «встречного движения / потока национальной литературной мысли», подготавливающего сознание для восприятия чуждых идей: [Дюришин 1979: 42,70]). Отметим сразу тот факт, что для А.А.Блока символический «путь» в восточном средневековом варианте опосредовался рядом исторических пластов в пределах одной (русской) культурной традиции. Не учитывать это мы не можем. Достаточно сказать, что идея «пути» весьма подробно разрабатывалась древнерусскими книжниками, для которых «путь» имел множество смысловых обертонов, начиная с простого географического «перемещения» в земном пространстве и заканчивая умозрительным «хожением» по «духовным тропам». Если выразителем первого полюса значений был здесь фольклор с устойчивой хронотопической символикой «дороги» (которая, к слову, получила письменное развитие и в «Слове о полку Игореве», и в «Хожении за три моря» А.Никитина, памятниках русско-восточного диалога), то второй полюс обуславливался длительным влиянием церковной византийской культуры. Так, ее мистический план с наглядностью проявился в жанре «хожений» Богородицы в аду, в котором, как известно, слезный крик справедливо наказуемых грешников обычно уравнивался человеческой жалостью к ним сострадательной «матери». Византию, вопреки авторитетному мнению Д.С.Лихачева [Лихачев 1987: 268], принято считать культурой «диалогического пограничья», плавно совместившего позднеэллинистические тенденции с собственно восточным мировоззрением [Аверинцев 2005]. В этом пункте древнерусское сознание несло в себе черты «восточной» картины мира, хотя по внутреннему составу оно тяготело к европейским формам творческой активности. «Путевые» представления восточного типа развивались в эпоху русского (шире - восточнославянского) Барокко. Барокко как переходная пора от Средневековья к Новому времени имеет некоторые типологические взаимосвязи с «Серебряным веком» как временем исторического «рубежа». Выяснение этих любопытных схождений - задача иных эмпирических исследований и концептуальных установок. Нам лишь важно подчеркнуть, что образ «пути» у представителей барочной литературы складывался в пределах религиозно-философской, или «медитативной», по словам Л.И.Сазоновой [Сазоновой 1991: 22], лирики, когда человек эпохи вдруг почувствовал полную эфемерность бытия перед лицом абсолютной, все превращающей в прах смерти (одна из тем блоковской поэзии) и попытался найти духовное утешение в вечных, непреходящих ценностях жизни. И хотя средневековая литература с не меньшей силой развивала эти мотивы, Барокко сумело как бы сущностно перенаправить их от отвлеченных и предзаданных отношений в область антропологических идей с конкретикой описательного факта [Черная 1999]. Идеи эти были близки Востоку (в архетипическом плане, вне этнических и религиозных различий), равно как и культуре «Серебряного века». В XVIII веке идея «пути» в русском самосознании претерпевает значительные изменения, связанные с тем, что эпоха Петровских реформ усилила социально-политический и просветительский аспект духовного развития личности. Однако «восточный» код «путевых» исканий человека в это время ничуть не ослабел, по-особенному выразив себя в литературе масонского толка. Подобному положению во многом способствовало то общеизвестное обстоятельство, что XVIII век не только в России, но, прежде всего, в Европе был ознаменован знакомством с восточной (персидской, индийской, китайской) философией и «медитирующей» лирикой и, как следствие, наличием разнообразных переводов с восточных языков. Так, например, в самом начале столетия по заказу царя молдавским господарем Д.Кантемиром был осуществлен первый перевод «Гюлистана» Саади с приложением основ «мухаметьянской веры» [Черная 1999: 122]. Затем число переводов было несколько увеличено. Для русской культуры сам факт «переходной открытости» обеспечивал возможность общения с чужим миром и чужим словом, пусть первоначально и через европейское литературное и интеллектуальное посредство. Этот динамичный культурный рывок привел в начале XIX века к моде на «ориентальный стиль»ь нашедший употребление в среде романтически настроенных художников слова. «Путевые» установки такого «ориентализма» использовались как в прямом смысле, для описания картин чуждой местности во время «странствий» (Кавказ, Крым, Бессарабия, Персия), так и в метафорико-символическом, для объяснения тайных «движений» утонченной писательской души. Второй пласт смыслов (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов и др.) был, к примеру, широко реализован в стихотворных переложениях из Корана, книге, в которой «путевая» семантика в связи с мотивом праведного выбора и ответственности за совершенный поступок явно преобладала. Заметим здесь, что в раннем творчестве А.А.Блока эксплицированные коранические образы - совсем не редкость, на что вскользь в научной литературе уже указывалось (в частности, З.Г.Минц) и объяснялось воздействием лирики А.А.Пушкина. Если внимательно присмотреться к ним, нельзя не заметить того, что зачастую они даются в «путевой» позиции («В часы вечернего тумана...», 1900, «На смерть деда», 1902), Это - во многом примечательный случай. В начале XX века категория «пути» в русской культурной системе прорабатывалась не менее интенсивно, о чем достаточно полно писал Д.Е.Максимов. При этом специфика «пути» на рубеже предопределялась и вполне оправданным интересом к Востоку, в том числе средневековому. Стоит вспомнить, что начало столетия - это время «восточного стиля» в живописи, выразившего себя как в изысканно-подражательных формах письма, так и в определенной ориентации на примитивизм в видении мира (Врубель, Серов). Более того, «восточные» мотивы нашли свое отражение в русской архитектуре, став частью вычурного стиля модерн. Музыка, опера, театральное искусство, философские концепции - все составные элементы тогдашней культуры были пронизаны увлечением «восточной» мистикой и «восточным» образом жизни. Многие серьезные достижения «Серебряного века» вызывались острой потребностью прикоснуться к «неге» Востока: гедонистический аспект поведения «над бездной» был тогда слишком глубок, чтобы теперь его можно было обойти стороной. Не случайно современные исследователи соотносят это время с эпохой «римского декаданса», когда угнетенное духовное состояние обуславливало, иногда не совсем умеренное, обращение людей к восточным культам и мистериям. Кроме того, начало XX века располагало к «странствиям» на Восток, реальным или воображаемым. С одной стороны, это, скажем, поездки Рерихов в Индию с настойчивым желанием обрести «святую землю»; с другой - это взлет символической фантазии ВЛ.Брюсова, К.Бальмонта, Н.С.Гумилева, охвативших бытие в его целостности ради того, чтобы уравнять в правах собственное «Я» с его непомерными запросами и разнообразие мира. Именно здесь лежит корень активной переводческой деятельности писателей. Многих современников поражало их знание «живых» и «мертвых» языков, среди которых восточные составляли едва ли не самую заметную часть. К художественным переводам обычно добавлялись «вольные» переложения, суть которых сводилась к тому, чтобы наиболее адекватно передать ауру подлинника, уподобиться ему в полете свободного творчества через систему штампов и клише. Это тотальное увлечение Востоком не могло не спровоцировать новые споры о старом историософском вопросе: месте российского социума в дихотомии «Запад-Восток». Мнения носили пестрый характер, но к 1920-м годам, как известно, выработались «евразийские» представления, отводившие России главную и преемственную роль в собирании разнородных этносов в одну большую сильную империю. (Подобные взгляды не были чужды А.А.Блоку («На поле Куликовом», 1908, «Скифы», 1918), однако «новое степное варварство», уничтожавшее инертные основы «старого мира», занимало поэта в поздний период творчества и к нашей проблеме не относимо). Одним словом, Восток в «путевом» оформлении темы скрыто и явно пропитывал эпоху рубежа, являясь той знаковой данностью, которая стимулировала поиск ответа на важные мировоззренческие вопросы («где я?» и «что я?») времени и человека в нем.
Описанный историко-культурный фон (в особенности - последний) является для нас, в блоковедческом исследовании, фактом бесспорной истины. Поэтому задача наша видится в том, чтобы, имея в виду этот контекст, рассмотреть творчество поэта в новом, комплементарном свете, через выявление более свернутых поэтико-философских, а не только очевидных духовных, связей блоковского слова с Востоком. Проблема восточного «Средневековья» в поэзии А.А.Блока и, тем более, в подробном анализе центральной категории его поэтики - «пути» - со всей серьезностью еще не ставилась. Из всего обилия общих и частных работ по творчеству поэта можно назвать, пожалуй, только две значимые статьи, в которых названный нами вопрос затрагивался с той или иной степенью проработки. Первая статья (заметка) принадлежит Н.Я.Грякаловой [Грякалова 1987]. В ней исследовательница, разбирая блоковские инскрипты на книгах и фотографиях, а также дневниковые записи поэта времен работы в издательстве «Всемирная литература», с убедительностью сумела провести ту мысль, что «выявление неизвестных ранее аспектов биографии Блока ... открывает новые ... возможности в изучении интереса Блока к Востоку и восточной литературе» [Там же: 235]. Так, например, ей удалось кратко показать, что в связи с многочисленными деловыми встречами в издательстве М.Горького А.А.Блок испытал увлечение средневековой китайской литературой, в некоторых сюжетах которой он явственно обнаруживал собственный творческий путь - драматическую судьбу, связанную с последствиями изменений «огненного лика» Возлюбленной. Вместе с тем более детального разбора блоковских высказываний о средневековом китайском Востоке (как и о Востоке, вообще, в «архетипическом» выражении) в сообщении Н.Я.Грякаловой нет. Вторая, более концептуальная статья написана Г.И.Дербеневым [Дербенев 1984]. В этой статье исследователь предпринял попытку аргументированно показать, что, хотя А.А.Блок и «европейский писатель», в некоторых его художественных творениях просматривается тенденция к неевропейским формам смыслотворчества: так, поэма «Соловьиный сад» возникала, по мнению Г.И.Дербенева, «без европейских влияний» [Там же: 94]. Обращает на себя внимание тот факт, что во всех суждениях автора проглядывает желание научно доказать само наличие архаичного и средневекового восточного начала в поэтическом мышлении А.А.Блока «эзотерическим» качеством лирической речи, когда для осведомленного в мировом историческом процессе человека сказанное поэтом слово кажется достаточным, чтобы его глубинно понять, а для неосведомленного достаточным, чтобы восхититься мнимой простотой, не затронув тайной сущности высказывания. Желание это составляет как бы подтекст статьи, поскольку в эксплицированном виде исследователь явно ориентируется на устоявшуюся сравнительно-сопоставительную теорию, утверждая, в частности, что сюжет «Соловьиного сада» неоригинален и относится к числу мигрирующих по литературному пространству Запада и Востока. Г.И.Дербенев, по сути, пробует выяснить в тонкостях механизм бессознательной символической рецепции инвариантной культурной идеи, однако новизна его подхода не находит методологической поддержки в современной ему литературоведческой практике. Отсюда - постоянные предположения, что сюжет поэмы мог быть взят А.А.Блоком из переводных символистских трудов в текущей журнальной периодике, что текст дальневосточных сказок, послуживший основой «соловьиному» сюжету, должен был наличествовать в богатой шахматовской библиотеке и что, наконец, если текст сказок в ней не найден, это ничуть не отменяет непосредственного характера блоковского заимствования. Подобные размышления не лишены смысла, однако в свете осторожных суждений автора относительно путей вызревания символической мысли все они имеют прикладное значение. Основополагающим становится имплицитный когнитивный опыт, интенциональная сторона творческой деятельности поэта, универсальная доминанта лирических рефлексий, т.е. такие категории символического мышления, которые по природе первичны, определяя «потаенный статус» блоковского слова, его возможную ориентацию на тип восточного средневекового мироощущения. Именно стихийная «предрасположенность» мысли могла способствовать тому, что поэт обратил свое внимание на архаичный восточный сказочный мотив в средневековой обработке, поскольку всякий напряженный интерес не возникает по простому желанию, но обязательно детерминируется разными формами внутреннего саморазвития. Эта грань блоковской литературной работы была намечена вскользь, не оказав в дальнейшем существенного влияния на теоретические изыскания. После выхода в свет названной статьи Г.И.Дербенева в разное время были опубликованы своего рода развернутые «ответы» И.С.Приходько, Д.Е.Максимова [Максимов 1987] и А.В.Лаврова [Лавров 2000] на нее. Закрепив, однако, за суждениями Г.И.Дербенева ореол экзотически привлекательной гипотезы, и только, исследователи все же, выписывая круг мифопоэтических ассоциаций, подчеркивали ведущую роль древних (античных), западноевропейских средневековых и русских литературных источников в формировании авторского замысла, что само по себе важно, но далеко не исчерпывает всего состава культурных текстов, скрыто воздействовавших на поэтический мир А.А.Блока. В такой позиции нетрудно увидеть проявление европоцентристских устремлений, которые ныне требуют комплементарного освещения, с углубленным архетипическим взглядом на средневековую восточную культуру. При этом сам выбор восточного «Средневековья» в качестве порождающей культурной модели для стилистики блоковского письма, а также для мифопоэтической картины мира при рассмотрении самих представлений писателя о символическом (жизненно-творческом) пути вполне закономерен. Во-первых, восточное средневековое мышление символично по природе, как символично и само отношение А.А.Блока к универсуму. Во-вторых, средневековое символическое мышление Востока по этой причине таит в оболочке словесной формы бездну невыразимых, потаенных смыслов, отражающих специфику антропологического сознания, занятого созерцательным освоением мироздания и - самое главное - сущностным вниканием в свое положение в нем. Эта специфика длительно складывалась еще в архаичные времена, но именно восточному «Средневековью» удалось сохранить подобную приметную черту архаичного человека и, выделив ее, возвести в ранг непреложных метафизических и онтологических ценностей. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться почти с любым серьезным высказыванием, пусть даже с сентенцией, восточного человека: в простоте словесного определения всегда скрывается недоступная область значений, которая нуждается в постоянном проживании, субъективном угадывании смысла, что на самом Востоке осознавалась как ситуация, настоятельно требующая навыка, каждодневной привычки вникания не в слово, а в намек, в вечно ускользающую, но содержательно насыщенную суть слова [Кришнамурти 1993; 202]. В-третьих, средневековое восточное мышление, как и художественное сознание А.А.Блока, мистично. Мистицизм здесь облекался в доктринальные формы, причем в некоторых случаях жесткая строгость религиозно-философской мысли на Востоке сопровождалась образно-символическим способом воплощения сакральной идеи. Трудный по мысли канонический трактат в Средние века на Востоке мог соседствовать с темным лирическим высказыванием, уравниваясь с ним в правах. Более того, иногда лирика брала на себя труд переложения мистической истины. Так произошло, к примеру, со средневековой персидской поэзией, унаследовавшей от арабской лирики форму выражения любовного недуга и наполнившей ее таким пластом подразумеваемых смыслов, что непосвященное лицо отказывалось верить в «новую» реальность, аккуратно спрятанную за обычным набором клишированных слов, а посвященное лицо - старательно изучало как учебник высшего блага, попутно составляя разъясняющие словари. Доктринальная мистическая лирика - явление исключительно восточное по духу. Отсюда своевременно в интенциональном аспекте найти ей особенное соответствие в словесном искусстве «Серебряного века». Ведь это было время, когда поэтическое творчество, проникнутое духом мистических чаяний, пребывало на кульминационном моменте становления, ритмически придя на смену прозе реалистического содержания, точно так же, как литературная лирика персидских авторов Средневековья пришла на смену внешне «грубоватой», нацеленной на прикладные бытийные задачи эпической и гимнографической речи их немусульманских предшественников. Глубинные и потаенные смысловые структуры обладают качеством стабильности, редко подвергаясь полному энтропийному распаду. В особенности этот закон справедлив по отношению к лирическому дискурсу, в котором содержательная сторона высказывания, связанная с субъективным переживанием действительности, разрабатывается много меньше формы. Поэт мыслит жанрами, а жанр представляет собой готовую «конфигурацию» мысли, допускающую некоторое своеобразие при формальном воплощении идеи. Это положение дает нам возможность предположить, что на основе общности мистического плана блоковская лирика, вся посвященная описанию любовной тоски и экзистенциальному разочарованию, в чем-то существенном скрыто, по сложным механизмам восприятия наследует «восточную» парадигму (вариант) средневекового мышления. Восточная художественная практика ей не столь чужда, как это может показаться на первый взгляд. Подобная изоморфность двух традиций способствует тому, что за их текстовой оформленностью исследователь в состоянии увидеть нечто вроде единой и инвариантной системы смыслов. Архаичный Восток начал ее разработку, средневековый - продолжил, отдав часть смыслового разнообразия европейской культуре, русский поэтический «Серебряный век» внесознательно получил закодированный сигнал, дал собственную версию «любовного» текста и завершил его в своем каноническом «изводе». В четвертых, средневековый Восток, как известно, был занят антропологической проблематикой не в меньшей степени, чем Запад, но под особым углом зрения на человеческую личность. Если на Западе мы можем с четкостью проследить тенденцию к разделению человека и космоса, к дифференциации субъекта и объекта, то Восток, напротив, тяготел к их гармоничному слиянию. Это, в свою очередь, приводило к тому, что человек как микромир для восточного типа мышления был глубже привязан к макромиру, это предопределяло более оптимистический пафос восточного жизнетворчества. Первичной силой человеческой жизни почиталась на Востоке само познавательная, медитативная деятельность, которая предполагала особенное отношение к путям сознательной просветленности субъекта в мире хаотического существования. Путь бесконечного самопознания и был на Востоке центром упорядочивающей системы бытия, противостоящей тому, что быстрее подвергалось распаду и расслоению. При этом сам он никогда не имел целью свести сознание к субъекту, но наоборот - охватить и вместить в себя всю напряженную полноту жизни, приобщить отдельную личность к мировой энергии, к ритмам ее воплощения. Только через такую позицию был возможен сам факт духовного преображения человека в космосе, факт «путевых» исканий сокровенного идеала. Однако именно подобная характеристика символического пути в значительной мере соответствует блоковским представлениям о корреляции частного и общего в жизни и творчестве, заслуживая более подробного разбора. И, наконец, в-пятых, стоит отметить, что средневековый Восток в пределах настоящего исследования трактуется в обобщенном плане, как глубинная мировоззренческая целостность, объединяющая самые различные, если не сказать - разнородные, философско-религиозные, этноконфессиональные, культурные стороны одного архетипа. Следует согласиться с мнением П.А.Гринцер, резонно полагавшего, что, к примеру, такое понятие, как «восточная поэтика», достаточно условно, чтобы вести о нем речь в расширительном контексте (в этом смысле понятие «западная поэтика» кажется менее условной величиной хотя бы потому, что в ее основе лежит более монолитное культурное явление - наследие европейской античности). Характер восточного мышления в разное время определялся спецификой трех цивилизаций (китайской, индийской и арабо-мусульманской), что, казалось бы, служит веской причиной для утверждения полной непроницаемости культурных и цивилизационных барьеров. И, тем не менее, «восточная поэтика» имеет право на признание, поскольку поэтологические концепции средневекового Востока не только разнятся, но и в существенном плане обнаруживают важную схожесть. П.А.Гринцер объясняет эту схожесть типологическими обстоятельствами, указывая на принадлежность восточных литератур к одному типу культурного сознания - традиционалистской словесности [Восточная поэтика 1996: 3]. По аналогии с поэтикой и «восточное мышление» имеет право употребляться как понятие в одном категориальном смысле. Восточных поэтик несколько, принципы же их экспликации архетипически едины, базируясь на типологическом родстве и проявляясь в виде общности принципов символического самопознания, мистического опыта и неисчерпаемости культурно детерминированных смыслов образного слова. Вместе с тем следовало бы сказать, что в нашей работе при надлежащем понимании архитипичности восточного миропредставления мы по необходимости акцентируем большее внимание на ближневосточной словесности и культурном опыте персидских авторов Средневековья как наследии, которое в лирической форме выражало постулаты философско-мистических исканий эпохи. (Было бы неверным заключить отсюда, что западное культурное мышление не оперировало набором таких ценностно окрашенных значений. Речь, однако, идет о четко выраженной линии представления художественной системы, благодаря которой оппозиция бинарных величин, «Запад-Восток», перестает быть нарочитой историографической мифологемой, превращаясь в полноценный механизм эстетического видения идеи). Средневековый Восток в этом случае являет собой своего рода культурный метаязык, выделяемый из художественного мира и одновременно его описывающий в более или менее адекватной системе координат. Он несет в себе черты универсального опыта человеческой личности, благодаря которому трансцендентная мысль способна объединять субъектов рефлексивной деятельности.
В таком аспекте уже не столь важен исторический фон эпохи, значение опорных литературно-эстетических программ, манифестов, лозунгов, историко-критических суждений, биографических справок, поскольку художником владеет «абсолютная», по словам Гегеля, идея, выговоренная многими поколениями поэтов и запечатленная в смысловой потенции «универсального» художественного языка. Подчеркнем еще раз ту мысль, что приведенными словами мы вовсе не ставим себе целью опровергнуть важное наличие в любом литературоведческом исследовании историко-культурного контекста. Напротив, он всячески нами учитывается. Между тем этот аспект проблемы уже являлся предметом достаточно глубоких научных разъяснений, поэтому его нам теперь приходится лишь постулирозать, чтобы продвинуться дальше в рассмотрении базисных особенностей творческого сознания А.А.Блока. Методологическая база диссертационной работы опирается на теоретические концепции самого А.А.Блока, А.Белого, Вяч.Иванова, П.А.Флоренского, а также на глубокие суждения отечественных и зарубежных историков и теоретиков литературы: С.С.Аверинцева, Л.М.Баткина, Р.Барта, М.М.Бахтина, Г.Башляра, С.Н.Бройтмана, М.Л.Гаспарова, Г.Д.Гачева, М.Я.Дымарского, Е.В.Ермиловой, Ю.М.Лотмана, Ю.Г.Нигматуллиной. Ценными оказались труды немецких мыслителей: Г.-Х.Гадамера, Ф.Гегеля, Э.Гуссерля, Э.Кассирера; работы исследователей символического феномена в культурном пространстве: А.Ф.Лосева, М.К.Мамардашвили, А.М.Пятигорского, К.А.Свасьяна. Существенной опорой стали для нас работы медиевистов-востоковедов: Е.Э.Бертельса, А.Е.Бертельса, Е.В.Завадской, И.Ю.Крачковского, А.Б.Куделина, П.Р.Менендаса, А.Меца, М.-Н.О.Османова, А.Н.Сагадеева, К.В.Сергеева, М.П.Степанянц, М.Л.Рейснер, А.Тора, Е.А.Торчинова, И.М.Филыытинского, БЛ.Шидфар, А.Шиммель, В.Эбермана, а также исследователей западноевропейского культурного Средневековья АЛ.Гуревича и М.Б.Мейлаха. К основным методам нашего исследования необходимо отнести: 1) Интертекстуальный разбор, «точечный» и «линейный» (с опорой на труды следующих авторов: Р.Барт, Л.М.Баткин, М.М.Бахтин, В.С.Библер, Г.В.Денисова, Ю.Кристева, Ю.М.Лотман, И.П.Смирнов и др.). «Точечный» интертекст представляет собой анализ словесно-образных структур по принципу их отдельного, выборочного син- и диахронического соотношения в пространстве национальной и мировой литературы. «Линейный» же интертекст основан на принципе сплошной, причинно-следственной корреляции подобных структур, когда обращение к одному образу («прототипу») порождает необходимость обращение к другим, соположенным к нему (в нашем случае это - образ символического «пути»). 2) Сравнительно-типологический метод. 3) Герменевтико феноменологический подход («интенция», «горизонт предмета / смысла», «сознание», «механизм порождения значений»). Представляется целесообразным кратко остановиться на последнем методе, поскольку, с одной стороны, он наиболее тесно связан с символом как явлением художественного типа [Кузнецов 1999], а с другой (на фоне других методов) - определяет теоретическую новизну исследования. Выразители герменевтической школы, как известно, развивали положение, согласно которому символ «заключает в себе обобщенный принцип дальнейшего развертывания свернутого в нем смыслового содержания» [ФЭ 1970: 10]. В этом отношении символ осуществлял взаимосвязь предметного образа с глубинной семой, его символическое значение «нельзя было дешифровать простым усилием рассудка» [КЭ 1971: 826; ФС 1983: 607]. Подытоживая эту особенность символического феномена, К.А.Свасьян писал: «Проблема символа есть проблема не формы как априорно положенного догмата, а формы в движении. Рассудочный синтез оказывается лишь частным случаем символа, допускающего бесконечные вариации синтеза в конечной комплексной фигуре» [Свасьян 1980: 132]. Для феноменолога работа по выявлению скрытых смыслов в символе не превращается в субъективный произвол, когда предвзятая позиция исследователя направляет всю сумму высказываний о тексте по строго заданному вектору рефлексии. Когда П.Рикер подчеркивал, что «интерпретация есть работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, спрятанного в очевидных словах» [Рикер 1993: 315], этим выражалась установка на естественную взаимозависимость интерпретации и символа. Там, где символ обнаруживает себя, - там всегда можно найти бесконечный рефлектирующий ответ [Фесенкова 2005: 122-137; Барт 2001: 33; Соболева 2000: 89, 100]. Постижение символа как знака феноменологическим способом протекает вне противоположных крайностей объективного рационализма и субъективного интуитивизма, когда диалог со смыслами утрачивает неизменную силу, оборачиваясь, по сути, научно-исследовательским монологом [ЛЭ 2003: 976]. В феноменологическом плане символ есть проекция «жизни сознания» (М.К.Мамардашвили), и главная задача исследователя здесь сводится к тому, чтобы понять символ не только со стороны идеи, но и со стороны того, что лежит за ней, в области «не выраженной в экзотерическом языке действительности человеческого сознания» [Мамардашвили 1999: 123]. Это дает основание некоторым теоретикам культурных систем правомерно считать, что «каждый исследователь всегда находится на том уровне понимания символов поэзии, который он сам избрал» [Бертельс 1997: 344].
В процессе герменевтического разбора в литературном тексте бывает несложно обнаружить комплекс невыразимых идей, созидающих такую тонкую реальность мысли, которая невидимым потоком «обволакивает» художественное сознание. Писатель спонтанно усваивает эту реальность, устанавливая за ней статус исключительно авторской принадлежности. Именно по этой причине Вяч.Иванов предпочитал смотреть на художника сквозь призму единства разных планов бытия, дающих возможность с предельной сосредоточенностью прислушаться к метафизическим голосам «вселенной» и ответить на них своеобразием собственного творческого принципа [Ермилова 1989: 16]. Отсюда проистекает положение, в соответствии с которым содержание символа необходимо трактовать не только с точки зрения готовых значений, но и в перспективе тех потаенных интуитивно-творческих процессов, которые их формируют. Сознание - это динамическая система, в которой жесткая форма смысла диалектически реализует себя в условиях одновременного существования конгломерата размытых «смысловых пятен» (Б.М.Гаспаров) - трудно вербализируемых смысловых сущностей. Э.Гуссерль именовал их «интенциями», обоснованно полагая, что только они могут лежать в основании «чистого» восприятия предметности. Вместе с тем интециональность, представляя собой базовую структуру сознания, характеризуется его усиленной направленностью на объект. «Сознание всегда есть сознание о чем-то» [Соболева 2005: 134]. Его глубинная телеологичность создает ситуацию, при которой «чистое» восприятие не может быть восприятием какого-либо отдельно взятого предмета: чтобы единичная вещь была схвачена сознанием, необходимо наличие специального, трансцендентального условия. Суть этого условия состоит в том, что внутреннее и общее знание о предмете должно быть изначально данным в сознании до всякого знакомства с частным предметом. Так, чтобы выразить собственное глубинное понимание символического «пути», А.А.Блок заведомо обязан был (в сфере бессознательного) обладать множеством разных историко-культурных представлений о нем, тяготея к той семиотической данности, которая возникала не в единичности случайного факта, но в объеме длительной традиции. Такое знание именовалось Э.Гуссерлем «горизонтом предмета». «Чистое» восприятие вещи является восприятием его «горизонтов», через которые субъект получает возможность видеть «бытийный смысл преданного мира» [Гуссерль 2004: 100]. Философ при этом различал два типа «горизонта»: внутренний и внешний. «Внутренний горизонт предмета, - по словам П.П.Гайденко, - это круг еще не раскрытых его определений. .„ Ни одно из определений не может рассматриваться как последнее. .., Внешний горизонт предмета - это горизонт, создаваемый другими предметами» [Гайденко 1966: 81]. Оба «горизонта» тесно связаны, составляя «тотальный» «всеобщий» «горизонт»: он всегда подразумевается, когда речь идет о «горизонте» частного предмета. Указание на единичную вещь автоматически обуславливает возникновение «тотального» «горизонта», как бы витающего перед сознанием в качестве предпосылки, благодаря которой само понимание единичности оказывается приемлемым. Интенциональность как подвижная смысловая часть опыта субъекта делает сознание открытым бытию, подлинно диалогичным. «Трансцендентальная субъективность - это интерсубъективность», писал Э.Гуссерль по этому поводу [Гуссерль 2004: 162]. Переводя это отвлеченное положение в плоскость «практического литературоведения», Г.Башляр отмечал: «Свойственная необычному образу способность передаваться - факт, имеющий фундаментальное значение». И далее, уточняя роль феноменологического знания в системе познавательных методов, указывал на то, что «рассматривая рождение образов в индивидуальном сознании, можно оценить масштаб, силу и смысл их транссубъективности. Создание цельного стихотворения требует во многом предварительной проектной работы духа» [Башляр 2004: 8, 9, 11]. Главным качеством интенций является их подвижность, вечное, беспрестанное движение. Это обстоятельство приводит к тому, что ядро интенциональности как способа о-сознавания предмета нельзя обнаружить с достаточной ясностью. Интенциональность не поддается точной и однозначной объективации, окончательному «опредмечиванию»: за ней располагаются новые «слои» и «горизонты» смыслов. Выразить себя до конца художнику или мыслителю, трудно, но не потому, учит философ, что так устроена конкретная человеческая психика, а потому, что такова объективная структура бытия трансцендентальной субъективности. Иными словами, в вопросе о причине невыразимого Э.Гуссерль склонен делать акцент не на психологической теории восприятия, а на онтологической проблематике: всеобъемлющее бытие в принципе неподвластно субъекту. Стремясь достичь того, что в корне недостижимо, но сознавая его в ипостаси того, что как будто достижимо, человек попутно творит вторую, знаковую реальность, воплощающую заданность человеческой природы. Чтобы попытаться вывести вовне хотя бы малую часть ускользающих интенций, нужен устроженный метод. Задача феноменологически ориентированного исследователя, как ее понимает Э.Гуссерль, состоит в том, чтобы увидеть и описать (т.е. передать в дискурсивном виде другому феноменологу), как представлена интенциональность в отдельном сознании. Такое описание («дескрипция») не имеет ничего общего с эмпирическим описанием предмета, поскольку описываемое для феноменолога впервые возникает лишь в процессе словесной экспликации «душевного события». Обычное (по традиции осуществляемое) описание предполагает противоположное: предмет уже существует и, его надо лишь отобразить в четких словесных формулировках. Создавать предмет вместе с его описанием в этом случае кажется излишним. Феноменология же предполагает, что дескрипции подвергается не столько предмет, сколько принцип его подвижного смыслообразования, хаос интенционального смешения, благодаря чему предмет возможен в мире как смысловая данность, которую можно увидеть и истолковать. В подобной ситуации нельзя избежать парадокса, когда то, что описывается, одновременно существует до описания (в противном случае его нельзя было бы увидеть) и не существует до него (интенциональность в оформленном виде появляется тогда, когда о ней говорят, что отнюдь не означает обратного, того, что когда о ней не говорят, она не существует). Дескрипция и есть способ приближения к сокровенному смыслу в предмете, его «конституирование», в отличие от «конструктирования», в котором вещь по субъективному произволу переосмысливается на чуждый лад. Э.Гуссерль призывал своих последователей осторожно конституировать смысл предмета, всякий раз контролируя себя и стараясь максимально выявить границы необъективированной мысли, вне которой невозможно говорить о действительной полноте уже выраженного. В итоге, обобщая сказанное и выделяя существенные для нашего исследования тезисы гуссерлианской концепции, отметим следующее: А) феноменологический метод основан на том представлении, что всякое сознание, в том числе и художественное, оперирует в своей деятельности набором свернутых трудноуловимых смысловых сущностей («интенций»). Именно они определяют свойство предмета или образа «быть собой», т.е. обладать таким смыслом, который отделял бы этот предмет или образ от окружающей предметной и семиотической реальности. Б) В совокупности все «интенции» в сознании образуют своего рода смысловой «горизонт», т.е. тот предел, или границу порождения смыслов, дальше которой художник объективно идти (развиваться) не может. В) Художник, как правило, следует за «интенцией»: это подсознательное стремление следовать за ней является одним из условий творческой активности субъекта. Г) «Горизонт» смыслов в человеческом сознании задается предшествующими историческими периодами развития культуры. Отсюда - смыслы, с точки зрения феноменологов, «не изобретаются» отдельным сознанием, а уже в совершенно готовом виде «перерабатываются» с учетом нового контекста употребления и тех ограничений, которые культура, «семиосфера» (Ю.М.Лотман) как область знаков, априорно накладывает на отдельно взятое художественное сознание.
В отечественном литературоведении метод Э.Гуссерля не получил широкого распространения, хотя до сих он продолжает считаться работающей теорией философского дискурса [Соболева 2005: 132]. Заметим, что этот метод не противоречит в нашей работе всем остальным, предложенным выше. Роль герменевтической феноменологии должна трактоваться в качестве взаимодополнительной, и только. Этот метод (на фоне других) позволяет вскрыть структуру творческого сознания А.А.Блока через ткань символического слова, понять принцип функционирования базисной универсалии в контексте мирового литературного процесса и, в частности, его «восточного» варианта.
Под феноменологическим углом зрения становится понятно, что «Средневековье» в анализе блоковской категории «пути» необходимо трактовать в качестве того «горизонта смыслов», который дается в сознании много раньше непосредственного эксплицированного обращения к образам дороги или странствий. Для Средних веков «путь» - основоположная характеристика мироздания. Сформированные здесь смыслы бытия, связанные с «путевым» освоением внутреннего (духовно-душевного) и внешнего (ландшафтного) пространства, инвариантно определяли специфику их функционирования в исторической протяженности. Всякий чуткий художник нового времени не чувствовал возможным каким-либо способом избежать интенционального влияния средневековой культуры, даже если он не отдавал отчета в том, что его слово парадигматически ориентируется на готовые образцы творческого письма столь далекой эпохи. Художник не выпадает из традиции. Чтобы преодолеть «Средневековье», ему понадобилось бы в корне изменить себя, выбрав иной стиль мышления, однако в подобном гипотетическом случае под сомнение подпадало бы само умение создавать тексты в актах творческого напряжения. Своим исследованием мы пытаемся обосновать правомерность использования восточных архетипов в разборе категории пути у А.А.Блока, понимая их, с одной стороны, как невыраженные подсмыслы слова, а с другой - как непременное условие жизнеспособности высвеченных лирических смыслов. «Средневековье» видится нам в роли «грамматической науки», оперирующей набором таких художественных ценностей, которые задают в дальнейшем для «чистого» сознания направление мысли на себя, в поле своего силового притяжения1. В контексте этих методологических положениях можно понять, что восточное средневековое сознание составляет для А.А.Блока априорно данный фон мыслительного опыта, вне которого выраженный смысл образа перестает существовать. По словам М.Мерло-Понти, «Гуссерль признавал, что любое мышление является составной частью исторического целого; но в принципе мышление - это видовое свойство человека» [Мерло-Понти 2001: 157]. Именно этот вывод позднего Э.Гуссерля о важности нивелирования культурных различий, когда речь заходит об объединительной сущности мышления, заставляет нас рассматривать классическое восточное «Средневековье» в аспекте его взаимосвязи с блоковским поэтическим мировидением. Феноменология, в итоге, оперирует тем предположением, что на всех этапах истории человек в главном качестве мышления способности объективировать «дух» в культурных формах - оставался неизменным [Гадамер 1988: 520]. Ход подобных размышлений подкрепляется корпусом семиотический идей, высказанных в наши дни У.Эко. Для итальянского исследователя всякая система, осмысленная как упорядоченная совокупность знаков, соотносится с понятием коммуникативности. В этом положении, казалось бы, нет ничего, что уже не становилось бы предметом рассмотрения структуральной поэтики, кроме одного обстоятельства У.Эко считает необходимым подчеркнуть, что анализ любой знаковой системы продуктивнее производить на основе выделения в ней неких «универсалий коммуникации», «константных механизмов мышления», благодаря которым само высказывание обретает устойчиво-глубинную перспективу. Функционирование «универсалий сознания» нельзя представить вне общего «семиозиса», под которым надо понимать те сопутствующие условия, которые обладают возможностью гибко сохранять инвариантную традицию мысли. «Константные» системы мышления описываются обычно в синхронном срезе, тогда как их развитие в качестве «коммуникативных моделей» наблюдаемо диахронически, по мере того, как меняется сообщение в зависимости от изменения культурного и идеологического кода эпоха. Центральное понятие концепции У.Эко - «код» - трактуется автором двояко: код - это то, что задает систему значений в тексте как факте объективации сознания, и код - это структурная величина. В последнем случае код выступает, то в роли метода структуралистского исследования, то в роли особой онтологической реальности, которая на современном этапе развития научной мысли не поддается точному описанию, что вовсе не означает ее отсутствия. Сам У.Эко не дает нам однозначного толкования того, что есть «культурный код»: удобный инструмент научного метаязыка или реальный объект мышления. Предлагаемое им терминологическое определение кода в равной мере отражает двоякость семиотической трактовки этого понятия [Эко 1998: 29, Розин 2001: 7-34]. В своем исследовании мы склонны полагать, что код есть та первичная смысловая интенция, главное свойство которой связано с направляющим движением мысли в «чистом» восприятии предмета, образа или отвлеченной категории. В литературной эпистемологии Г.Башляра культурному коду отдаленно соответствует понятие культурного комплекса, т.е. той нерефлективной проекции «смутных движений души, которая властвует над самой рефлексией» [Башляр 1998: 38-39]. Комплекс, в отличие от архетипа, объединяет авторские сознания исключительно на психологической и культурно-деятельностной почве, как бы надстраиваясь над «докультурным» психофизиологическим субстратом человеческой памяти. Он являет собой бытийную структуру мысли, которую нужно не столько понимать, сколько переживать. Если пророк или другой аналогичный психологический тип человека отличается, прежде всего, незаурядной чуткостью к архетипическим формам и, по словам С.С.Аверинцева, «с точностью их реализует» [Аверинцев 1972: 126], то, по мысли Г.Башляра, основным свидетелем и выразителем комплекса (в дополнении к архетипу) становится только поэт. «Поэт, - по словам французского феноменолога, - ... культивирует культурные комплексы, упорядочивает собственные впечатления, мысленно связывая их с какой-либо традицией» [Башляр 1998: 38, 39]. При этом природа культурного кода, как и комплекса, имеет символическое основание, поскольку именно универсальность и изменчивость во времени составляют атрибутивные качества всякого символа [Кассирер 2002: 24]. В таком плане любой художественный образ в диахронии символичен, даже если автор и не ставил себе задачей подвергнуть его процессу интенсивной символизации [Веселовский 1939, Веселовский 1989: 300]. Этот тезис тем показателен, что служит своего рода «скрепой», «общим знаменателем» для культурных сознаний разных исторических эпох. В конечном счете, обобщая изложенный материал, можно сказать, что интертекстуальный разбор с опорой на герменевтику и феноменологию дает возможность понять творческое сознание как процесс (с последующим выходом на такую категорию, как тип художественного мышления автора). По мысли ряда отечественных исследователей (Л.И.Тимофеев, Н.А.Гуляев, Ю.Г.Нигматуллина и др.), художественное мышление «представляет собой диалектическое единство «воссоздающего» и «пересоздающего» начала» [Нигматуллина 1997: 20], что может стать основой для типологического сближения разных культурных систем в исторической проекции. Типологические черты в художетвенном сознании образуют «общечеловеческий» («стадиально-родственный») фон мысли. И хотя, по замечанию того же исследователя, «в истории искусства не найти ни одного примера, который говорил бы о том, что тот или иной народ художник -Р.Б. способен только к реалистическому воссоздающему - Р.Б или романтическому пересоздающему - Р.Б. мышлению» [Там же: 22], позволительно вести речь о преобладающей тенденции творчества в сознании. Видные представители востоковедческой науки (А.Е.Бертельс, Е.А.Бертельс, М.-Н. Османов и др.), внеся герменевтику в число первейших методов постижения мистико-литературных и философско-религиозных смыслов восточной поэзии, пришли к тому выводу о том, что восточный тип художественности в значительной мере связан с «пересоздающим» началом. Однако точно такое начало мы обнаруживаем, по классификации В.М.Жирмунского, и в блоковском лирическом сознании. Отсюда -историко-типологический фундамент исследования позволяет возвести блоковские смыслы к восточной картине мира, т.е. усилить интертекстуальные словесно-образные связи диахронического толка в перспективе прояснения динамики интенциональности в актах словесно-творческого напряжения.
Цель диссертационной работы вытекает из понимания актуальности темы и сводится к тому, чтобы рассмотреть феноменологию авторского сознания А.А.Блока, истолкованную в качестве внутреннего движения, эволюции на своеобразном, жизненно-творческом, символическом «пути», в контексте восточного средневекового художественного мышления.
Поставленная цель предполагает решение следующих важных задач: 1. Изучить особенность символического мышления А.А.Блока сквозь призму философско-эстетической категории «пути» в интенциональной соотнесенности с основными творческими принципами средневековой культуры, прежде всего, в ее восточном архетипическом варианте.
Эта задача предполагает:
А) рассмотрение блоковского лирического сознания в ракурсе культурно-инвариантного, бытийного смысла (герменевтически извлеченного из художественной формы). Б) рассмотрение духовной эволюции блоковского героя ранней творческой поры в системе мировых символических соответствий, что выдвигает на первый план изучения контекст средневековой философской художественности. 2. Проанализировать интенциональную, архетипическую сущность символа Вечной Женственности в системе мифопоэтического сознания А.А.Блока в рамках восточной средневековой эстетики, ориентированной на раскрытие выразительных возможностей формы при заданном содержании философско-поэтической идей.
Эта задача предполагает: А) обращение к средневековому арабо-персидскому литературному канону с целью объяснения глубинных конструктивных основ представления образа Возлюбленной в поэзии А.А.Блока. Б) интерпретацию психологической топологии блоковского «пути» в контексте традиционалистского восточного «пути-восхооюдения» к Прекрасному, что выдвигает новые грани в пояснении интенциональных истоков трагического мироощущения А.А.Блока, его лирического героя.
Объектом диссертационной работы является материал литературно-критических высказываний поэта, его дневниковых записей и записных книжек, а также лирики периода раннего творчества (с 1898 по 1904 гг., 1-ая «каноническая» книга стихотворений, с выходом на те художественные тексты, которые так или иначе перекликаются с ранним этапом). На этом периоде блоковской поэзии мы останавливаемся, прежде всего, потому, что он представляет собой хорошо проработанную систему тех идей, тем, образов и мотивов, которые в дальнейшем, в иные периоды творческой эволюции, будут неоднократно воспроизводиться и переосмысляться А.А.Блоком. На этот факт в научной литературе (З.Г.Минц) уже указывалось.
Научная новизна и теоретическая значимость диссертационной работы определяется тем, что впервые в отечественном литературоведении поставлена проблема символического «пути» А.А.Блока в контексте средневековой восточной философии и словесной эстетики. Новым, кроме того, является сам опыт изучения блоковского мира, используя принципы феноменологического философствования. Вводятся понятия («интенция», «горизонт смыслов», «культурный комплекс»), метал итературная задача которых состоит в том, чтобы яснее представить возможный мыслительный опыт А.А.Блока, его становление «по ту сторону» словесной экспликации, в области бессознательного, «невидимого» и «неочевидного», по определению М.Мерло-Понти. Эти понятия, по сути, являются изоморфными духовно-художественной практике поэта, поскольку само их возникновение связано с теми сложными процессами изменения общей картины мира, которые интенсивно протекали на рубеже XIX - XX веков.
Научно-практическое значение диссертационной работы состоит в том, что основные ее выводы и материалы могут быть использованы в общих вузовских курсах по истории и теории русской классической литературы последней трети XIX - начала XX века, при разработке специальных курсов и семинарских занятий по творческому наследию А.А.Блока. Материалы диссертации, кроме того, имеют и собственно научную ценность, особенно -при изучении теоретических проблем, связанных с пониманием семиозиса художественных единиц в толще символического мифомышления и осмыслением процесса культурного диалога в пределах конкретного литературного текста.
Апробация диссертационной работы. Материалы и результаты работы обсуждались на заседаниях кафедры русской, зарубежной литературы и методики преподавания Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета (ТГТПУ), служили основой для докладов на научно-практических конференциях в Казанском государственном университете (КГУ): «Сопоставительная филология и полилингвизм» (Казань, 2002), «Русская и сопоставительная филология: состояния и перспективы» (Казань, 2004), в Казанском государственном педагогическом университете (КГПУ): «Литература: миф и реальность» (Казань, 2003), в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ): «Русская литература XX века. Типологический аспект изучения» (Москва, 2004, 2005), «Филологическая наука в XXI веке: взгляд молодых» (Москва 2004, 2005), в Вятском государственном педагогическом университете (ВГПУ): «Актуальные проблемы современной филологии» (Киров, 2003), в Тверском государственном университете (ТГУ): «Мир романтизма» (Тверь, 2004), для публикации статьи в журналах «Идель» (Казань, 2002), «Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» (Казань, 2006), «Вестник Чувашского университета» (Чебоксары, 2006). Основные положения диссертации нашли свое отражение в четырнадцати публикациях.
Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, примечаний в виде постраничных сносок и списка литературы. Главы содержат внутри себя разделы. Логика работы соответствует поставленной цели и задачам. В I главе выявляются онтологический, эстетический и аксиологический аспекты блоковского «пути», рассматриваемые с точки зрения средневекового восточного мышления. Во II главе - поэтологические эквиваленты категории «пути» в контексте восточного литературно-художественного канона. Каждая глава состоит из трех разделов. В I разделе I главы (теоретическом по необходимости) на основе герменевтического разбора материала поэтической формы проводится мысль о том, что лирический род словесно-эстетической деятельности глубинно связан с понятием «пути». Все рассудочные суждения А.А.Блока о значимости «пути» в творческой работе художника являются своего рода проективным переложением интуитивно понимаемой сущности поэтического слова. Символический «путь» по этой причине осмысляется нами в качестве объединительного для многих поэтов «комплекса», т.е. такой смысловой структуры, главными свойствами которой являются инвариантное наличие в сознании художника и частотное воплощение в пространстве литературных текстов. Во II разделе I главы нами рассматривается символика «пути» в ранней лирике А.А.Блока на основе понятия «эстетический идеал» (в I разделе постулировалась его обязательная объективация в лирическом дискурсе). Под «эстетическим идеалом» мы понимаем тот положительно окрашенный образ-символ, в сближении с которым герой стремится найти смысловую составляющую своего присутствия в противоречивом Бытии. В ранней поэзии А.А.Блока образно-эмблематическим выражением Идеала Вечной Женственности стала «золотая Звезда». Интертекстуально этот мотив, а также сопряженные с ним образы («небо», «сад», «книга», «страница»), содержат потаенные переклички с восточной стихотворной традицией. В III разделе I главы, пытаясь прояснить сложные механизмы генерирования ценностных смыслов в творческом сознании А.А.Блока и одновременно описывая их посредством «средневекового» метаязыка, мы устанавливаем факт отчужденности слова от мысли в блоковском мышлении. Именно отсюда «Средневековье» видится нам как феноменологический «горизонт»: чтобы уйти от его априорного притяжения, поэту надо отказаться от самой возможности помыслить предмет, что в нашем случае трудно представимо. В I разделе II главы, развивая вывод I главы о том, что русский лирик, как и восточные авторы, воспевал Красоту в мистически-возвышенном и экзистенциально-трагическом свете, мы осуществляем попытку показать, что само бессознательное стремление А.А.Блока использовать заданный набор образно-символических структур находит особенное соответствие в средневековой восточной теории «маани». Если в I главе исследовались типологические связи двух историко-культурных миров на основании образно-содержательного сходства, то во II главе, в целом, анализируются конструктивно-творческие способы представления идеи высокой Любви с дальнейшей разработкой образных взаимосвязей. Во II разделе главы мы пробуем показать, что канон блоковской лирики был представлен не только «кружением» одних и тех же формальных элементов при относительном постоянстве темы, но и (в объеме общего литературного наследия) обстоятельством трехчастной композиции «пути». Она восходит как к философской концепции В.С.Соловьева и Гегеля, так и, через дантовский смысловой код, к восточной духовной и лирической традиции. Предметом рефлексии III раздела главы становится «океанический субстрат» поэзии А.А.Блока. Используя введенное В.Н.Топоровым понятие «психофизиологического субстрата», мы определяем новый термин в качестве поэтического «кода», описывающего взаимоотношения героя с Возлюбленной как архетипом всеобъемлющего материнского лона. В этом плане трехчастный «путь» рассматривается нами по закону универсального эмбриологического роста, культурные варианты которого обнаруживаются в средневековой восточной литературе.
Итак, логику развития темы от одного раздела к другому можно представить следующим образом: 1) Общий обзор «путевого» феномена в поэтической форме: «комплекс» как историко-культурная надстройка над природным «архетипом». 2) Лирика как поиск устойчивой опоры в мире: Идеал Возлюбленной у А.А.Блока в виде «золотой Звезды», переклички с восточной традицией. 3) Связь слова и мысли в поэзии А.А.Блока: интенции сознания сквозь призму средневекового восточного ценностно окрашенного метаязыка. 4) Конструктивный способ реализации поэтической Любви к Идеалу: частотное повторение одних структур при строго заданном содержании. 5) Развитие этого способа в трехчастной композиции символического блоковского «пути»: взаимосвязь с восточным художественным опытом. 6) Архетипические основания «океанической» символики «пути» к Вечно-Женственному началу в блоковской лирике: от «золотой Звезды» к «морскому пейзажу» в изображении идеала, «восточный» диахронический интертекст.
В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования и намечаются некоторые обозримые перспективы.
Путь как комплекс лирического сознания в теоретическом ракурсе: онтологический смысл, извлеченный из художественной формы
Известно, что лирика как вид словесного искусства, исторически придя на смену патриархальному эпосу, носит в сравнении с ним более взволнованный и личностный характер. Слово тут как бы в убыстренном жесте выхватывается из потока жизни, чтобы сразу оформить мгновенное переживание в законченное высказывание и передать его затем в сферу чужого восприятия, в идеале построенного на схожей структуре чувств в текущий момент времени. Основополагающим пафосом лирического начала во все эпохи, начиная с затянувшейся архаики, являлось стремление выдать личное за всеобщее. Это утверждение для искусства фундаментально. Однако для лирики оно всегда по-особенному освещает характер «останавливать преходящего мига жизни» [Гачев 1972: 18]. Так, Г.Д.Гачев, производя разбор одного поэтического текста: - справедливо замечал, что, с логической точки зрения, приведенные в нем строки «нелепы». И «нелепость» их обусловлена не только тем, что метафорический перенос шелковой ткани на голубой небосвод при прямолинейном толковании выглядит неправдоподобным. Гораздо важнее понять, что логически несуразно в стихотворении задается сам переход от частного переживания пространства к всеобщему выводу о нем. «Свое мгновенное ощущение поэт измеряет масштабом вечности», И далее в качестве вывода исследователь отмечал: «Как логическое мышление опирается на принцип относительности всех вещей, так художественное сознание опирается на принцип их абсолютной ценности» [Там же 1972: 18- 19]. «Самый субъективный род литературы, поэзия устремлена .., к изображению душевной жизни как всеобщей», - писала по этому поводу Л.Я.Гинзбург [Гинзбург 1974: 8]. Много раньше этого высказывания В.С.Соловьев в статье об А.Фете подчеркивал, что «лирика останавливается на более единичных и вместе с тем более глубоких моментах созвучия художественной души с истинным смыслом мировых явлений» [Соловьев 1990: 210]. Лирическое, таким образом, складывается из востребованного индивидуального в человеке, устремленного в область типизированных значений. Но складывается оно именно в тот поворотный исторический промежуток, когда культурное сознание выделяет себя из природной стихии, противопоставляясь тому общественному целому, которое выражает принципы природного обживання многогранного бытия. Вместо созерцания вечных законов миропорядка лирик предлагает импрессионистично вглядеться в сущность неизбывно ускользающей жизненной системы и испытать «священное благоговение перед ее таинством» [Гачев 1968: 144]. Внешним воплощением этой установки и служит стихотворный текст - крохотная манифестация, «эманирующая (самоистекающая) сущность», «миниатюра», «бытийная песчинка» художественного сознания. Лирическое стихотворение, поэтому, в чем-то существенном - всегда заговор, заклинание, благодаря чему лирик производит впечатление того редкого субъекта чувств, который имеет возможность общаться с небесным и космическим. Не случайно в ранние этапы истории лирическое подразумевало быстрое создание текста, без дополнительной выделки и переработки стиха. Редактированием словесной ткани занимался эпический автор, и такой труд был соразмерен как величественному замыслу художника, так и полной его прикрепленности к коллективному «телу» рода. Все разумные основания жизни эпос отыскивал в том, что лежало за его границами, в объективном мире, в отличие от лирики, которая опиралась на свое активное, мечущееся в экзальтированном выражении возвышенно-субъективное слово. Если личность эпического творца должна была раствориться в непреходящих ценностях бытия, то личность поэта, напротив, старалась стать абсолютным источником всего сущего. Лирик в этом плане всегда жил напряженно, изнывая чувствительной душой от тяжести «темного» бытия, попиравшего умозрительные идеалы. Он состязался с этой грубостью, если дух экзистенциальной безысходности (энтропия как рассеивание сжатой концентрации энергии) из внешнего мира проникал в строго охраняемый внутренний «дом» поэта. В обстоятельствах заданных измерений ему вменялось в обязанность иметь имя и биографию, которая предполагала наличие судьбы. Судьба же, как категория идеалистического дискурса, фиксировала пройденный лириком «путь», в котором жизнь и искусство обычно срастались до мыслимого предела. Как свершившийся факт, она вносила в плохо организованную творческую грань личности элемент упорядоченности. То, что в текущий момент относилось к непрогнозируемому выводу, спустя некоторый срок превращалось в закономерность. Отсюда смерть лирика, например, лишалась естественности, замещаясь представлением о фатальной предрешенности его «пути». В ней нередко разрешался скрытый поиск мировой Красоты, изначально обреченный на трагическую неудачу в дисгармоничном мире. «С поэтом всегда должно что-то происходить», — писал Г.Д.Гачев [Гачев 1968: 152]. По этой причине, отметим, поэт выстраивал судьбу самолично, отказываясь от помощи родовой общины.
Эстетический идеал как «золотое» сияние Божества: духовный путь раннего блоковского героя к сакральной «Звезде» в контексте средневекового миропонимания
Прежде чем коснуться вопроса о блоковском восприятии эстетического идеала как «Звезды», правомерным кажется вкратце, на примере названного символа, осветить положение, согласно которому любой поэтический образ автора оказывается вписанным в различный смысловой контекст. Образ у А.А.Блока никогда не выглядит простым фактом мышления: во внутреннем мире поэта каждый семантический элемент структуры взаимосвязан. В этом отношении нельзя признать случайным то обстоятельство, что в 1919 году при подготовке издания стихов с характерным заголовком «За гранью прошлых дней» А.А.Блок назвал А.Фета «путеводной звездой», ярко сиявшей на туманном небосклоне старой литературной традиции [Блок 1999: 13]. Сам язык критической оценки прошлого здесь примечателен тем, что подспудно воскрешает образы духовных «странствий» человека. Этот парафраз трудно назвать обыкновенным знаком авторской учтивости. Надо помнить, что «путеводная звезда» - это не просто выразительное слово, задающее ностальгический тон в общении с былым. С выразительным началом в блоковской поэзии нам приходится сталкиваться повсеместно, это не мешает лирическому поэта слову быть семантически размытым. Важнее понять, что «путеводная звезда» в данном случае - это нечто большее, чем риторический оборот скрытого сравнения; это значимый символ, сжато выдающий на особом дискурсе потаенное существо межпоэтических отношений. Шаблонный образ у А.А.Блока имеет невидимую смысловую грань, всегда укорененную, по замечанию Д.Е.Максимова, в «плотной и текучей духовной плазме» [Максимов 1972: 51]. За простым знаком «ночной звезды», уводящей путника вдаль, у А.А.Блока скрыта гроздь субъективно-ассоциативных представлений, окрашенных «полифонией» пластической мысли [Паперный 1979: 88, Минц 1999: 182]. Поэтому в конкретном случае истолкование «путеводной звезды» не может ограничиться указанием на отчетливо выделяемую поэтом романтическую сущность лирической системы А.А.Фета, для которого «звезда» обычно - это зов неведомой, чаще всего, женской души в царстве земного своеволия и страсти9. Бесспорно, романтическое двоемирие наследуется блоковской лирикой всецело, но и осложняется новыми пластами смысловых нюансов. Внутренняя форма представленных слов с учетом общего поэтического контекста приближена к полумистическому взгляду на действительность и, возможно, в интенциональном поле единого символического сознания перекликается со следующим восточным средневековым стихотворным текстом, вскрывающим принцип творческой работы поэта: Сходная ситуация путеводности звезды воспроизведена в поэме А.Навои «Смятение праведных», в одном из разделов которой дается оценка заслуг предшествующих А.Навои тюрко-персидских поэтов, Низами и Джами. О последнем сказано так: Знаменательным выглядит проведенный З.Г.Минц количественный подсчет словарного объема ранней блоковской поэзии. Статистический метод позволяет говорить о том, что «путь» и «звезда» в числовых показателях у молодого А.А.Блока приблизительно равны друг другу, устанавливая определенный род пропорциональных отношений (1:1). Так, если частота употребления слова «звезда» в цикле «Стихов о Прекрасной Даме» составляет 17 раз (по 6 разделам цикла их распределение таково: 1, 8, 2, 4, 2, 0; производные лексемы «звездный» и «звезда-предвестница», соответственно, 4 и 1), то слово «путь» повторено 18 раз (на 6 разделов; 1, 12, 2, 2, 1, 0; производная лексема «путник» - 3) [Минц 1999: 583, 634, 644]. Частота же использования этих слов в пределах лирики I тома ничем не отличается от показателей в границах отдельно взятого сборника. Если «звезда» употреблена 77 раз, то «путь» повторен почти так же: 75 раз [Там же: 700]. В этом анализе нам важны не абсолютные показатели, а их соотношение между собой. Оно высвечивает гибкую взаимосвязь двух образных структур в едином потоке дискурсивного высказывания. Являясь вариантами устойчивой авторской схемы, воплощающей замысел осмысления «пути» и всего того, что в нем автоматически подразумевается, они соотносимы, кроме того, как целое и часть. «Путь» предполагает «звезду» как тайную цель «движения», как грезу по обретению «мировой неподвижности». Более того, «путь» в тесном переплетении с одиноко сияющей на небосклоне «звездой» обнаруживает бесконечную даль и широту пространства, подчеркивая его распахнутость и затерянность от того, что подает признаки живого участия в страдании лирического героя. Контекст «морской пейзажности» [Топоров 1983: 227-284; 1995: 575-622, 428- 445; 1998: 3-198] в таком случае задается сразу для воссоздания экзистенциальной растерянности субъекта поэтических переживаний. Отсюда для А.А.Блока не менее актуальной выглядит античная смысловая перспектива «пути». Вычленяя инвариантную типологическую конструкцию ее событийного ядра, можно говорить о том, что художественный сюжет складывается в нем из большого числа повествований о море и корабле после неожиданно разыгравшейся бури. В качестве логически вытекающих следствий сюда входят рассказы о чудом выживших людях, иногда об одиноком страннике, затерявшемся среди грозной стихии, готовой его поглотить. Вынужденный в процессе «движения» производить ориентацию по расположению звезд, такой странник отыскивал сушу и в относительном благополучии ее посещал, правда, чтобы вновь столкнуться с чем-либо неизбежным и таящим опасность. Пространственное освоение бытия в подобных текстах влекло за собой либо заведомое знание астрономических законов, либо опыт по их отчаянному приобретению с целью выжить и найти спасительную твердь для лучшего телесного и духовного самочувствия в космосе. С некоторыми несущественными исключениями такой тип «путевого» миропонимания воспроизводится в «Одиссее» Гомера, «Энеиде» Вергилия, «Плавании святого Брендана», поэмах, построенных на длительных странствиях героя по бесконечному и плохо обжитому пространству мира вне родного «дома- гнезда». Античный сюжет здесь нацелен на выявление внешнего «пути» в пространстве, как его преодоление и утверждение практичного самосознания в условиях нежданной катастрофы.
Средневековый арабо-персидский литературный канон «маани» в лирическом описании блоковской Возлюбленной
Блоковедами (Д.Е.Максимовым, З.Г.Минц, Л.В.Красновой) давно было замечено, что в литературных текстах А.А.Блок использует сравнительно малое количество символов, чрезвычайно часто повторяющихся. Основной чертой поэтики блоковского символа в связи с этим является то, что однажды вошедшие в круг поэтического употребления образы, оформленные по определенной словесно-выразительной конструкции, не пропадают, не выводятся из эмоционально-образного поля сознания, но, напротив, продолжают существовать, подвергаясь процессу переосмысления. Переосмысление это бывает настолько глубоким, что символы с прежним, «консервативным» (З.Г.Минц) планом выражения трактуются как символы нового содержательного уровня. Старая система образов не отвергается А.А.Блоком, к ней он постоянно возвращается, даже в процессе поиска новых путей символообразования. Если перефразировать одну дневниковую запись поэта, можно сказать, что все блоковское творчество - это «покрывало, растянутое на остриях нескольких десятков слов» [Блок 1965: 23]). Такое «кружение» (В.Я.Брюсов) устойчивыми символическими формами производится не только в пределах всей блоковской поэзии1, но и в рамках отдельно взятого цикла. Так, в цикле «Стихов о Прекрасной Даме» мы можем обнаружить, что символический образ «свечи» в нем представлен достаточно широко. При внимательном чтении нетрудно заметить, что чаще всего он отнесен к миру предметных реалий, воспринимаемых в мистически окрашенных тонах. В стихотворении «Вхожу я в темные храмы...» (1901) «свеча», включенная в пространство «темного храма», обладает свойством обрядовой святости. Образ вещен, но в то же время и связан с мистической красотой Прекрасной Дамы. Он своего рода живой свидетель «Ее» неслышного Явления. В стихотворении «Я, отрок, зажигаю свечи...» (1901) образ «свечи» теснее сопряжен с лирическим субъектом, и, вследствие того, что поэтическое пространство «храма» преодолевается в тексте, выходя за «церковную ограду», на «тот берег», «к лесу» с «зубчатыми вершинами», от которых «брезжит брачная заря», «свеча» начинает занимать низший статус по отношению к цельному свету «зари». В стихотворении «Она стройна и высока...» (1901) образ «свечи» вообще теряет силу чистой устремленности ввысь: храмовое поле поэтической пространственное здесь окончательно преодолено. Однако образ продолжает существовать, вступая в новые семантические отношения и увеличивая лексико-смысловую валентность, благодаря которой в образе неожиданно открываются связи с хаотичным миром действительности. «Свеча» названа А.А.Блоком «электрической», что создает эффект несоответствия с прежней системой ценностей. Часто, однако, «свеча» в блоковском цикле перестает быть сокровенной вещью, хранящей в себе мистическую правду мира. В стихотворении «Мы с тобой встречались на закате...» (1901) образ впрямую отождествляется с «вечерним закатом», что служит указанием на долгожданный приход Вечной Женственности. В стихотворении «Я знаю день моих проклятий...» (1901) образ, переставая быть атрибутом «Ее» явления миру, именуется местоименной формой - «Она». В итоге, какой бы символический образ в цикле мы ни взяли для рассмотрения - «весну», «ночь», «звезду», «розу», «свет», «море» - он всегда у А.А.Блока становится «сквозным». Явления литературного штампа, когда ни план выражения, ни план содержания не вносят в двуединый словесный знак важной новизны, найти у А.А.Блока, по-видимому, нельзя. Его творчество потому и производит впечатление цельной завершенности, что, умея брать старую систему символов в качестве исходной лирической «почвы», поэт находил в себе силы ее интенсивно перерабатывать, точнее определяя авторский замысел в символическом изображении мира. «Единство лирики Блока, - отмечала НА.Кожевникова, -коренится в устойчивости блоковского слова. ,., это устойчивость при внутренней изменчивости и подвижности» [Кожевникова 1999: 11].
Историко-культурная и психологическая топология блоковского пути в свете средневековой традиционалистской поэтики: к истокам трагического мироощущения «влюбленного» поэта
В I главе настоящей работы нам уже приходилось отмечать, что «путь» А.А.Блока как творческий принцип самовыражения, благодаря которому субъект деятельности обретает полноту мысли, по природе глубоко символичен, являя собой род «путевой мистерии». Здесь само указание на внешний тип пространства служит свернутым отсылом к неким напряженно метафизическим «странствиям» духа, пытающегося найти свое исконное место в мире и почувствовать мистическое просветление среди хаоса текучего и безрадостного существования. Следует при этом иметь в виду, что структура, или конструктивный вариант этого движения у А.А.Блока длительное время рассматривались с точки зрения гностико-христианских представлений, пропущенных сквозь призму мифопоэтических взглядов Вл.Соловьева, что несколько сужало круг иных версий «пути». Этот концептуальный пробел в блоковедческой науке необходимо восполнить, чтобы глубже понять мысль, в соответствии с которой композиция блоковского «пути» отнюдь не является особенным изобретением автора, решившего сознательно переработать предшествующую схему духовного откровения ради новых поэтических задач. Эпоха Средневековья (на Востоке, прежде всего) широко оперировала подобным композиционным строем, дав смысловой и структурный инвариант «путешествия в себя». Известно, что философско-эстетическая модель блоковского «пути» мыслилась и строилась поэтом по трехчленной схеме. Такое деление было положено А.А.Блоком в основание канонической «трилогии вочеловечения», первые зримые контуры которой стали складываться во время кризиса символизма как литературного направления. Важно понять, что схема эта долго не осознавалась автором в качестве смысловой составляющей его мышления. Только когда А.А.Блок получил возможность в целостном и завершенном виде охватить результаты творческой работы, ему стало ясно, что тот «путь» духовного развития, который в момент создания поэтических творений носил неопределенный характер, спустя время обрел статус высшей закономерности, требующей рефлексии в концептуальных формах. Оказалось, что его духовное движение протекало по давно выработанным правилам символического сознания и вне этой мировоззренческой системы не может быть адекватно истолковано. Существовал исходный тип метафизического «пути», который диахронически, как универсальная семантическая структура, перемещался по культурным пространствам, сохраняя ценностное ядро «путевой» семы при одновременной возможности его исторически вариативного представления. Коррелят стабильного и подвижного в формуле «пути сознания» (А.Белый) крайне волновал А.А.Блока в теоретическом ракурсе, ему хотелось дать развернутый ответ на собственный и эпохой поставленный вопрос. Ему посвящена статья «О современном состоянии русского символизма» (1910) [Блок - VII: 234-245], в которой он попытался «проиллюстрировать» поэтическим материалом мысль Вяч.Иванова о делении символического «пути» на «тезу», «антитезу» и предполагаемый «синтез». В этой концепции обращает на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, А.А.Блок в статье четко ориентируется на комплекс трудновыразимых сущностей, интеллектуальное постижение которых должно быть заменено их глубинно-интуитивным переживанием. В связи с невозможностью быть точно понятым А.А.Блок и ссылается на Вяч.Иванова, рациональный язык которого отвечал формально-логическим критериям, предъявляемым к дискурсивным высказываниям. «Моя цель, - писал поэт, - конкретизировать то, что говорит В.Иванов. ... Я принадлежу к числу тех, кому известно, какая реальность скрывается за его словами, на первый взгляд отвлеченными». В оболочке сформулированной мысли о «путевом» триединстве у А.А.Блока можно найти такую семантическую глубину, которая, с одной стороны, будет охватывать множество литературных явлений в толще культурной памяти, а с другой - останется на положении вечно притягательной, но не поддающейся полному уяснению истины. Все это, взятое в совокупности, позволяет провести историко-культурную реконструкцию «путевого» триединства именно в структурном аспекте, и уже на детально разработанном фоне старой, многовековой традиции по-новому углубить наше знание об истоках блоковского иррационального трагизма как того гнетущего чувства, которое преследовало поэта до его последних дней. Во-вторых, следует иметь в виду, что трехчастная структура символического «пути» и у Вяч.Иванова, и затем у А.А.Блока соотносима с разработанным в «Чтении о богочелоеечестве» (1877) мифопоэтическим представлением В.С.Соловьева о триединой динамике мировой жизни. Разворачиваемая в философском труде грандиозная картина генетически восходит к идеям платонического учения и христианства, отражая наиболее значимые закономерности бытия в «сюжетно-фабульном» виде.