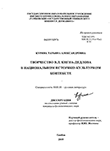Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Поэма-пьеса «Беспредметная юность» на перекрестке литературных традиций 21
1.1. Диалог с Платоном -
1.2. Пасторальные аспекты сюжета 34
1.3. Элементы барокко в художественной структуре поэмы-пьесы. 43
Глава II. Роман «По ту сторону Тулы» в свете историко-культурных параллелей 56
2.1. Роман «По ту сторону Тулы»: на пути от античной буколики к советской пасторали -
2.2. Традиции сентиментального путешествия в романе «По ту сторону Тулы» 71
2.3. Отклики на романтизм в романе «По ту сторону Тулы» 83
Глава III. Сборник стихотворений А.Н. Егунова «Елисейские радости» в историко-культурном контексте 100
3.1. Античные мотивы и образы в «Елисейских радостях »
3.2. «Сквозь тень и свет»: импрессионистическое начало в лирике А.Н.Егунова 112
3.3. «Елисейские радости» и поэтика группы «Обэриу» 128
Заключение 140
Примечания 155
Список использованной литературы
- Диалог с Платоном
- Пасторальные аспекты сюжета
- Роман «По ту сторону Тулы»: на пути от античной буколики к советской пасторали
- Античные мотивы и образы в «Елисейских радостях
Введение к работе
Данная работа посвящена творчеству переводчика и филолога-классика Андрея Николаевича Егунова (1895-1968). Егунов переводил Платона («Законы», «Федр», «Государство»), романы Ахилла Татия Александрийского («Левкиппа и Клитофонт») и Гелиодора («Эфиопика»). С рецепцией античности в культуре XVIII-XX вв. были связаны его научные интересы. Широкую известность ученому принесла монография «Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков» (1964). На протяжении всей творческой жизни он писал художественные произведения, из которых до нас дошли поэма-пьеса «Беспредметная юность» (1918-1933, 1936)1, сборник лирических стихотворений «Елисейские радости» (1929-1966)2, роман «По ту сторону Тулы» (1931)3.
Актуальность исследования связана с неослабевающим интересом отечественных литературоведов и западных славистов к русской литературе 1920-1930-х гг., к неоправданно забытым писателям, в частности, к тем из них, кто, как А.Н. Егунов, будучи профессиональными переводчиками, учеными-филологами, создавали оригинальные художественные произведения.
При жизни писателя был опубликован только роман; поэма-пьеса и стихотворения введены в читательский оборот в 1990-е гг. усилиями Г. Морева и В. Сомсикова. «Беспредметная юность» впервые была напечатана в 1991 г.; «Елисейские радости» — в 1993 г. «Елисейские радости» переиздавались в 2001 г., «Беспредметная юность» (обе ее редакции) - в 1993, 2008 гг. Неоднократные переиздания произведений Егунова свидетельствуют о том, что они востребованы современными читателями.
О Егунове имеется обширная мемуарно-биографическая литература (Г. Морев, В. Сомсиков, А. Гаврилов, В. Кондратьев, Ш. Маркиш, Т. Никольская и др.). Биографы освещают основные этапы жизни писателя:
учеба в Тенишевском училище (1905 - 1913 гг.), в котором обучались также Мандельштам, Набоков, Жирмунский и где их общим учителем был поэт В.В. Гиппиус; обучение в Петроградском университете на двух отделениях — историко-филологическом и славяно-русском, где он посещал лекции таких профессоров, как Ф.Ф. Зелинский, М.И. Ростовцев, Г.Ф. Церетели, С.А. Жебелев; занятия у С.А. Жебелева по окончании университета (1919), целью которых было «приготовление к профессорскому званию»; работа над первым, до сих пор остающимся «образцовым», переводом «Законов» Платона» (1923).
Биографы замечали, что еще во время учебы в училище Егунов увлекался переводами греческих авторов. В 1920-е годы он входил в группу АБДЕМ, названную так по заглавным буквам имен и фамилий участников: А.В. Болдырева, А.И. Доватура, А.Н. Егунова, A.M. Миханкова. На коллективных собраниях АБДЕМа молодые люди занимались коллективными переводами. В результате этих занятий были изданы романы «Левкиппа и Клитофон» Ахилла Татия (1925), «Эфиопика» Гелиодора (1932). Рассказывая о собраниях кружка Т.Л. Никольской, Егунов вспоминал, что «тексты греческих трагедий читали по старинным изданиям в кожаных переплетах с золотым тиснением. Переводили по очереди прямо с листа. Перевод получался почти подстрочным»4. В воспоминаниях о Егунове она писала^ что «помимо классической филологии абдемитов сближал интерес к живописи "Мира искусства", музыке Глюка и Моцарта. Они увлекались творчеством Гюисманса, излюбленные страницы его романа "Наоборот" читали вслух»5.
В имеющихся биографиях писателя содержатся также сведения о перипетиях его судьбы, связанных с арестом «по делу Иванова-Разумника» в 1933 г., четырехмесячным пребыванием в ДПЗ на Шпалерной и последовавшей за ним трехлетней ссылкой в село Подгорное Томской области (1933-1936). До 1938 г. Егунов преподавал в Томском университете, общался со ссыльными томичами — Г. Шпетом и Н.
Клюевым. Затем местом его жительства стал Новгород, где в его окружение входили ссыльнопоселенцы (бывшие заключенные) сестры 3. Гиппиус Татьяна и Наталья, философы С.А. Аскольдов и И.А. Андреевский, известный в будущем эмигрантский критик Борис Филиппов.
Новая череда испытаний выпала на его долю в годы Великой Отечественной войны. В августе 1941 г. Новгород был захвачен фашистами, и Егунов был отправлен, как «остарбайтер», в городок Neustadt, близ Гамбурга. По окончании войны, миновав лагерь для репатриируемых советских граждан, он год преподавал немецкий язык советским танкистам в Берлине. 25 сентября 1946 г. Егунов нелегально перешел в американскую зону оккупации, через четыре дня американцы задержали его, затем добровольно выдали советскому командованию6.
Следующий этап жизни Егунова был связан с Уралом. Нам хотелось расширить имеющуюся в справочной литературе информацию о месте пребывания Егунова на Урале. С этой целью мы обращалась в прокуратуры Пермской и Свердловской областей. В соответствующих архивных фондах Пермской области сведений о Егунове нет. В ответ на наш запрос помощник прокурора Свердловской области сообщил, что А.Н. Егунов, осужденный 13.12.1946 г. на территории Германии военным трибуналом, приговорившим его к десяти годам исправительно-трудовых лагерей, «прибыл для отбытия наказания в Ивдельлаг 25.03.1947 г., откуда убыл 30.11.1950 г в ИТЛ Новостройки ст. Экибастуз». Так что три из десяти лет лишения свободы Егунов провел в Ивдельлаге — на Северном Урале. В 1956 г. за несколько дней до окончания своего срока он был реабилитирован.
Воспоминания о писателе относятся по преимуществу к 1950-1960 гг., когда он, возвратившись в Ленинград, работал в Пушкинском доме. Т.Л. Никольская, входившая в число друзей Егунова тех лет, вспоминала о неторопливых беседах в «небольшой, заставленной книгами, комнате на
Весельной улице в Гавани»: «Я ни разу не видела его раздраженным, возмущенным или восторженным. Казалось, девизом Андрея Николаевича были слова Архилоха: "В меру радуйся удаче, в меру в горестях тужи". А.Н. Егунов обладал редким свойством благодарить судьбу даже за удары. Однажды он сказал: "Если бы меня прописали после ссылки в Ленинграде, как я тогда хотел, я бы умер во время блокады"».
Никольская замечала, что обязательной частью вечеров в доме Егунова «было чтение вслух. Обычно читались стихи Державина, которые Егунов очень любил, и почти всегда "на закуску" "Водопад"». Никольская подчеркивала также, что «Андрей Николаевич превыше всего ставил звуковую сторону слова. Он говорил, что на спектаклях иностранных гастролеров старается не вдумываться в смысл слов, чтобы не портить впечатление от музыки речи. Из поэтов XVIII века Егунов выделял Сумарокова, «Гамлет» которого читался в его доме по ролям. Особой любовью хозяина был Фет, точнее фетовская поэзия». «Из поэтов XX века Андрей Николаевич очень высоко ценил Михаила Кузьмина», «больше всего <...> любил позднего Кузмина, в особенности "Форель разбивает лед"», даже «писал об этой поэме работу, где, в частности, указывал на соответствие между "ударами" в поэме Кузмина и шубертовским циклом "Форель"». Никольская обращала внимание также на отдельные высказывания Егунова, касающиеся общих подходов к исследованию литературы: Егунов полагал, что «биографии мешают восприятию творчества и нужно изучать только то, что написал автор» («Поскольку фотография Фета противоречила воздушным образам его стихов, Егунов выдрал ее из книги»), вслед за Тыняновым, он «считал важным изучение поэтов третьего литературного ряда, оказавших боковое "от дяди к племяннику" влияние на литературный процесс» .
ТУТ. Маркишу памятен был «бесстыдный контраст» между облачением Егунова («штаны и пиджак бумажные, какие можно было увидеть разве что в деревне, окончательно и безвозвратно обнищавшей под солнцем
сталинской конституции») и лицом старика, «крупные и резкие черты которого обозначали <...> некое высокое, а, может быть, и высшее понимание, а потому достоинство и покой». В его рассказах о пережитом «не было горечи, сознания порушенной отравленной жизни»: «Наоборот! В каком-то смысле Андрей Николаевич считал себя баловнем судьбы и не только потому, что вышел жив из всех удилищ, и советских, и германских, <...> но, прежде всего, потому, что "где же иначе можно было сойтись, а иной раз и сдружиться с самыми интересными, умными, тонкими, учеными людьми нашей эпохи!"». В этом признании, считал Маркиш, не было «ни сарказма, ни юродства, разве что - редкостная деликатность, скромность на грани застенчивости». Говоря о литературных симпатиях Егунова, в числе других примеров Маркиш приводил его оценку поэмы А. Ахматовой «Реквием» «"Мне не нужен эпигон Некрасова! Некрасов все это уже сказал, правда — на другом материале. Но и вас потрясает не поэзия, а материал"»8.
По воспоминаниям А.К. Гаврилова, в число литературных предпочтений Егунова входил Гете («Идеалом была, кажется, динамическая уравновешенность в духе Гете, которого Андрей Николаевич числил одним из первых в своих литературных святцах»), из современников он выделял Вагинова, «безоговорочно признавался ранний Заболоцкий - не отредактированные еще "Столбцы" были особенно дороги Андрею Николаевичу»; «"Раковый корпус" Солженицына был одобрен <...> за смысл и смелость, но по форме признавался устаревшим, как все, что не настоялось на прозе Ф. Сологуба и А. Белого и стихах И. Анненского». В искусстве, замечал А.Г. Гаврилов, Егунов «ценил новизну и красоту, а не только искренность, хотя бы и отважную».
А.К. Гаврилов рассказывал об устраиваемых Егуновым «чтениях»: «Помню чтения знаменитейших державинских од (читал В. Сомсиков), прочитанного по ролям сумароковского "Гамлета", созвучное нашим встречам "Первое свидание" Белого, обсуждение Л. Добычина и не
опубликованных тогда вещей А. Введенского». Вспоминая о музыкальных вечерах в доме Егунова, мемуарист вспоминал, как «иной раз после прослушивания делались увлекательные музыкальные сопоставления - то отыщет Андрей Николаевич славянский мотив у Вагнера, то заметит, что ария пьянчужки в "Катерине Измайловой" выдержана в духе канкана»9.
По мнению людей, знавших Егунова, он был человеком, обладавшим потрясающим чувством юмора. Гаврилов приводил ряд его высказываний, позволявших в этом убедиться. Так, на вопрос, «как нравится президиум какого-то заседания», Андрей Николаевич отвечал: «Стол хорош»; «Чем не понравился один из сидевших в зале?» - «Позитивизмом спины»10.
«Всегда в одной и той же наглухо застегнутой, вылинявшей серо-синей куртке, седой, с большими глазами, обладавший спокойным, подчас лукавым голосом, Андрей Николаевич излучал ровное тепло и свет мудрости. Он никогда не поучал, не навязывал своего мнения. Всегда интересовался, чем занимаются его друзья, был хорошим слушателем», — таким он остался в памяти тех, кому посчастливилось общаться с ним ".
Следует особо сказать о научных интересах Егунова-филолога, которые, как отмечалось ранее, были связаны с рецепцией античности в культуре XVIII-XX веков. С 1960 по 1968 гг. вышел ряд его статей, посвященных творчеству И. С. Тургенева, А. Пушкина, А. Сумарокова, Н. Гнедича и др. В них он опирался на собственный опыт переводчика античных авторов. Изучив архивные материалы, касавшиеся биографии Тургенева, Егунов написал статью о студенческой работе будущего писателя. Ученый перевел написанный текст, предварив его словами о том, что «<...> перевод на русский язык школьного сочинения Тургенева -задача своеобразная. Латынь Тургенева, в сущности, переводная: все время ощущается борение автора с передачей по латыни того, что им продумано по-русски»12. Другая его работа была посвящена письменным ответам русского классика на экзамене по философии . В предложенном перечне тем были вопросы, связанные с античной философией (например, вопрос о
заимствованиях римлян из греческой науки и их собственных достижениях).
Интересна также статья Егунова, посвященная латинским цитатам в произведениях И.С. Тургенева. В ней содержится ряд наблюдений над прозой, в частности, рассказом «Лебедянь», романом «Новь», повестью «Вешние воды». Помимо комментариев по поводу используемых Тургеневым выражений из «Энеиды» Вергилия, статья Егунова содержит его характеристики известных переводов античной поэмы. Он указывает, в частности, на существование в переводческой науке представления о так называемой «Энеиде наизнанку», замечая, что «<...> ссылки — и в "Лебедяни", и в "Нови" даны в <её> литературных традициях»14. Здесь же Егунов дает оценку перевода Брюсова: «Предпринятый с самыми лучшими намерениями и во всеоружии филологических знаний перевод "Энеиды" Брюсова ("Academia", 1933) непроизвольно объединил обе традиции - и серьезной, и травсстированной передачи "Энеиды" - вследствие странной попытки переводчика латинизировать русскую речь, что производит местами комический эффект (<...> вместо "римляне" у него "романы", потому что Рим у него "Рома" и т.д.)15.
Исследуя роль цитат в «Вешних водах», Егунов обстоятельно рассматривал их «вхождение» «в сюжетное развитие повести», замечая, например, что латинское выражение «laedium vitae» - «отвращение к жизни» - писатель употребил «для обозначения неудовлетворенности жизнью, опустошенности, телесной и душевной усталости, овладевающей человеком, вопреки материальному благополучию и изысканности окружающего общества. <...> Но ряд такого рода упоминаний нельзя свести к литературным ссылкам — это свидетельство о единстве <...> некоторых черт человеческой психики на протяжении столетии» .
Интересна работа Егунова «Erotici scriptores в древнерусской "Пчеле"», где объектом исследования стало сопоставление цитат из романов Ахилла Татия и Гелиодора в оригинальном варианте и их
переводных версиях в древнерусском издании. Переводчики, замечает Егунов, временами некоторым образом «переделывали» античные тексты. Приведенный перевод и цитаты из «Пчелы» демонстрируют читателю, что «<...> исторгнутые из своего контекста и вставленные в ряд выдержек морализирующего характера, возглавленных текстом из священного писания, сентенции позднеантичных любовных романов служили назидательным целям византийских мелисс»17, а древнерусский читатель, сам не зная, усваивал афоризмы из романов, издания которых появятся спустя не одно столетие18.
Особого внимания заслуживает работа А.Н. Егуиова о романе Гелиодора «Эфиопика»19. Исследуя параллельно с М.М. Бахтиным20 так называемый «софистический любовный роман», Егунов пришел к заключениям, во многом совпадающим с выводами М.М. Бахтина. Так, ученые выделили пять софистических романов: «Хэрей и Каллироя» Харитона, «Эфесская повесть» Ксенофонта, «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия, «Эфиопика» Гелиодора, «Дафнис и Хлоя» Лонга; определили ряд распространенных «сюжетных схем»; рассмотрели и охарактеризовали образы главных героев.
Осталось незавершенным исследование Егунова о повести Пушкина «Пиковая дама» и ее связях с одноименным немецким романом Ламотт Фуке. Редакция Временника пушкинской комиссии отмечала: «Сделанный А. Н. Егуновым краткий пересказ малоизвестной повести Ламотт Фуке позволит теперь включить ее в число <...> произведений, составляющих "фон" пушкинской "Пиковой дамы" и интересных для изучения не только ее художественной структуры, но и особенностей восприятия ее современниками Пушкина»21. Среди других неизданных работ Егунова -исследования "Гнедич и западноевропейская литература", "Атрибуция и атетеза в классической филологии", а также статья о взаимосвязи шубертовского квинтета "Форель" и поэмы Кузмина "Форель разбивает лед".
О переводческой деятельности А.Н. Егунова писала его коллега СВ. Полякова. Она отмечала, что именно ему «принадлежит почетное место в истории передачи на русский язык древних авторов: он первым в начале 20-х годов осуществил в этой области ставший сейчас обязательным и составляющий отличительную особенность русской переводческой школы принцип исторического подхода к оригиналу, <...>, ввел в культурный обиход русского читателя прежде не известные ему произведения, в значительной мере выправлявшие кривизну распространенных представлений о греческой литературе, созданную традиционным отбором переводившихся памятников. За много лет до появления книги "Гомер в русских переводах", где А. Н. Егунов ввел научно-филологический критерий при оценке переводов, определяя степень приближения того или иного переводческого опыта к исторически подлинному автору, он осуществил это требование в своей переводческой практике. Переводы А.Н. Егунова были своеобразной формой познания подлинника, где такие понятия, как стиль, представали в непосредственном художественном воплощении, и перевод оказывался, насколько это вообще достижимо,
близнецом оригинала, говорящим на другом языке»" . Она же отмечала присущую Егунову «<...> необычайно тонкую интерпретацию подлинника, стилистическую безошибочность и вкус предлагаемых вариантов и исправлений, многостороннюю эрудицию и особую <...> дальнозоркость суждений», говоря, что он «соединял в себе эрудицию
ученого, дарование поэта и прозаика и мастерство переводчика» .
По свидетельству А.К. Гаврилова, о собственных литературных опытах Андрей Николаевич говорил крайне сдержанно. По словам профессора Р.П. Заборова, заведующего сектором взаимосвязей русской и зарубежной литератур в Пушкинском Доме, Егунов не рассказывал о своих литературных произведениях и коллегам, даже как будто стеснялся этого, хотя все знали и о вышедшем в 1931 г. романе («По ту сторону Тулы»), и о
многочисленных его стихах, еще не появившихся тогда в открытой
печати .
Летом 1928 года он взял псевдоним Андрей Николев, отсылавший к поэту XVIII века Н. П. Николеву. Выбор Егуновым псевдонима объясняется, прежде всего, интересом писателя к XVIII веку в целом и к творчеству авторов «второго ряда»; имя Николая Петровича Николева из этого числа сатириков XVIII столетия. Псевдоним потребовался Егунову еще и потому, что у него был брат Александр Егунов, который также печатался. В этом случае выбор псевдонима можно объяснить стремлением «размежеваться» с братом, исключить недоразумения, которые могли возникнуть в результате совпадения их инициалов. Кроме того, в мире русской науки второй половины XIX в. было известно имя Александра Николаевича Егунова, специалиста в области экономики. М. Маурицио в книге о Егунове приводит сведения о том, что этот однофамилец числился в родословном древе Андрея Николаевича Егунова.
Под псевдонимом «Андрей Николев» увидел свет собственный роман переводчика. Публикация «По ту сторону Тулы» стала возможной с подачи К. Федина; Федин считал «интересными» и утраченные сегодня «Милетские рассказы» Егунова. Попытка опубликовать их не удалась: произведения оказались «непригодными для печати из-за "сомнений (очень значительных) цензурного порядка"»*" . Среди безвозвратно потерянных литературных произведений Егунова называется и роман «Василий остров»2 .
Состояние научной разработанности темы. Статьи о жизни и творчестве писателя стали появляться с начала 1990-х гг. (Г. Морев, В. Сомсиков, Б. Косанович" и др.), так что уже без малого двадцать лет его художественные произведения являются объектом пристального филологического анализа и комментирования.
Наиболее изученной сегодня представляется «Беспредметная юность». К поэме-пьесе обращался Г. Кнабе, связавший ее проблематику с
судьбой античности в 1920-е гг." . «Драматизированная поэма» привлекала внимание В.Н. Топорова, который прочитал ее как фрагмент «Петербургского» и «Лизина» текстов русской культуры29. Н. Казанский рассматривал «филологические» аспекты «Беспредметной юности»30; итальянский славист М. Маурицио предпринял комментированное научное
-і і
издание обеих редакций поэмы-пьесы . По словам Казанского, связавшего с профессиональными навыками автора такие особенности его произведений, как особая оркестровка стиха, предельная сгущенность образов, цитатность, «эклектичность достигает той степени концентрации и взаимного перекрестного наложения текстов, когда она уже почти перестает ощущаться, закамуфлированная как сложностью ассоциаций, так и звуковой стихией стиха» ". Казанский подчеркивал, что «в авторскую задачу, безусловно, входила узнаваемость цитаты, создающая многоплановую ассоциативную полифонию» . В комментариях Маурицио речь идет о Егунове как о «подземном классике» (термин Н. Богомолова), освещаются такие аспекты поэмы-пьесы, как «игра в языки», специфика хронотопа, особенности сюжетостроения и системы образов. Наибольший интерес представляют отдельные наблюдения, связанные, к примеру, с многозначностью понятия «беспредметность», сновидческими аспектами текста. Ценность издания заключается в воспроизведении известных редакций «Беспредметной юности» под одной обложкой.
Ряд специальных работ посвящен роману «По ту сторону Тулы». М. Маурицио анализировал смысл заглавия произведения. Т. Фоминых изучала пасторальную топику романа, роль гетевских аллюзий в нем. И. Вишневецкий рассматривал «советскую пастораль» в аспекте культурно-исторической интертекстуальности. Исследователь, назвав наиболее вероятные источники романа, пришел к выводу о его реминисцентной природе. Вишневецкий обнаружив связь произведения Егунова с романом Антония Диогена («Невероятные приключения по ту сторону Тулэ»), отметил ее пародийный характер, подчеркнув, что объектом пародии в
романе Егунова становится «сложившийся в новоевропейской традиции "жанр" реконструкции античного романа, когда изданию, поневоле составленному из случайно сохранившихся у других авторов цитат и выписок, придается характер авторитетного edition princeps»34. И. Вишневецкий указал также на «мифологическую характеризацию» персонажей и на такие особенности нарратива, как литературоцентричность, «игру с семантикой отдельного слова (или слов) и составляющих его (их) элементов»35.
К осмыслению лирики Егунова обращались Г. Морев, Т.
і/ -угу
Никольская , И. Вишневецкий, В. Шубинский . Г. Морев обратил внимание на разработку Егуновым некоторых важнейших элементов «"русской семантической поэтики" (установка на "вскрытие и уловление метафизики, таящейся в недрах языка", <...>, общая историософская модель, в центре которой - античность, тяга к сюрреалистическому -
>о
широком понимании — видению мира)» . Т. Никольская отметила, в частности, связь художественного эксперимента. В. Шубинский обращал внимание на связь стихотворений Егунова с «альтернативной» литературой и отмечал: «При чтении стихов Николева сразу же сталкиваешься с тем редким сочетанием стыдливой лаконичности и высокого лирического бесстыдства, которое иногда даруется именно таким людям - ощущающим свою позицию в искусстве как "боковую" и не претендующим на большее. Причем объект умолчания и объект речи в каждом случае связаны причудливо и не без иронии. С одной стороны, темой стихотворения может быть метафизически осмысленный процесс поедания огурца <...>. С другой - в лучших тестах Николева речь, уходя в изящные тавтологии, оскользает решительно все в мире, чтобы (опять-таки
\ 39
на мгновение, намеком) коснуться самого главного...» .
Обзор научной литературы о творчестве Егунова позволяет сделать вывод о том, что с течением времени интерес к нему заметно возрастает, что сегодня его уже невозможно считать «белым пятном» в изучении
русской литературы. Однако, несмотря на накопленный опыт, в научном освоении литературного наследия Егунова есть проблемы, требующие решения. Одной из них, на наш взгляд, является необходимость целостного его описания, которое позволило бы понять основные художественные стратегии писателя.
Егунов-художник опирался, прежде всего, на собственный опыт переводчика, филолога-классика. Речь идет не только о том, что античная культура стала для него источником тем и образов, а переводческая практика определила специфику его поэтики. Говоря о нем как о переводчике древних авторов, специалисты замечали, что он первым осуществил «передачу не только смысла текста <...>, но и своеобразие дикции того или иного автора»40, «первым увидел за переводимыми древнегреческими текстами не "авторов" (scriptores), отличающихся друг от друга лишь степенью трудности <...> и не "источники" (fontes) для исторических и прочих штудий, а живых, порой даже достаточно профанных литераторов с претензиями на стиль»' . Интересы Егунова-переводчика были сфокусированы, таким образом, на «дикции», на «стиле» переводимых текстов. Именно со стилем экспериментировал Егунов, создавая оригинальные художественные произведения. Материалом его художественного эксперимента стали так называемые «большие стили» - стили известных литературных направлений, стили целых литературных эпох. С профессиональными навыками автора связано его подчеркнутое внимание к литературной традиции. Под традицией имеются в виду элементы тех или иных «больших стилей», которые сохраняются в творчестве Егунова в трансформированном, но вполне узнаваемом виде, что и позволяет вписать его произведения в известные литературные контексты. Выяснить художественные стратегии писателя - значит разобраться в том, на какие эстетические системы он ориентировался, в чем состояло своеобразие его восприятия той или иной из них, чем обусловлены его эстетические предпочтения. Своеобразие
индивидуального художественного стиля Егунова заключается в том, что, следуя той или иной традиции, он одновременно разрывает связи с ней. Выяснение нюансов этих отталкиваний / притяжений представляется важной исследовательской задачей.
Научное и художественное творчество Егунова, повторим еще раз, так или иначе было связано с рецепцией античности последующей культурой. Отношение автора к античности нельзя назвать однозначным. И в романе, и в поэме-пьесе, и в лирике она подвергается весьма ощутимому комическому переосмыслению, нередко граничащему, по словам Г. Кнабе, с глумлением. Вслед за Г. Кнабе мы считаем, что Егунов принадлежал к писателям, которые понимали не только несовместимость античного наследия с революционной повседневностью, но и «нечто худшее» - «не просто мертвы были <...> вступавшие в противоречие стихии, но каждая на фоне другой приобретала карикатурный, гротескный смысл <...>». Существенным представляется также замечание исследователя о том, что и та, и другая стихии для Егунова «не переставали быть ценностью и потому не давали иссякнуть боли, постоянно ощущаемой в истоке пародии, кривлянья, гаерства»' ~.
Революционное «крушение гуманизма», остро переживаемое Егуновым-художником, определило не только его «глумливое» отношение к античности, но и выбор в качестве художественных ориентиров эстетических систем барокко и сентиментализма. Предпочтение, отдаваемое автором именно этим культурным традициям, объясняется, на наш взгляд, тем, что обе они, являясь реакцией одна - на Ренессанс, другая - на классицизм, были связаны с кризисом античных ценностей.
Следует подчеркнуть, что ни барочной, ни сентименталистской традиции не удалось избежать авторского «глумления». Пореволюционная современность превращала в карикатуру любую культуру, любая традиция, не только античная, в зеркале современности оказывалась пародией на самое себя.
Обращение Егунова-художника к романтической традиции следует рассматривать в русле неоромантических исканий первой трети XX века, шире - в рамках присущего эпохе эксперимента, связанного с трансформациями устоявшихся художественных схем.
Цель данной работы состоит в том, чтобы дать монографическое исследование художественного творчества А.Н. Егунова в контексте разных литературных традиций. Достижение этой цели связано с решением следующих задач:
определить круг наиболее репрезентативных историко-литературных контекстов творчества писателя в целом и каждого его произведения в отдельности;
исследовать античный пласт изучаемых произведений;
- рассмотреть «рефлексы» барокко в поэме-пьесе «Беспредметная
юность»;
- осмыслить отклики на сентиментализм и романтизм в романе «По
ту сторону Тулы»;
- соотнести опыты Егунова-лирика с импрессионистской и
авангардистской поэтикой.
Объектом исследования являются художественные произведения А.Н. Егунова: поэма-пьеса «Беспредметная юность», роман «По ту сторону Тулы», сборник стихотворений «Елисейские радости». Предмет исследования - их историко-литературные контексты.
Научная новизна работы связана с тем, что она является первым монографическим исследованием литературного наследия А.Н. Егунова; дошедшие до нас художественные произведения Егунова рассматриваются в широком историко-культурном контексте, обусловленном ориентацией писателя на эстетику предшествовавших литературных эпох (античность, барокко, сентиментализм, романтизм и др.). Новизна работы определяется обращением к ранее специально не изучавшимся аспектам творчества писателя, в частности, к его экспериментам с жанром пасторали.
Специфика художественного материала, задачи работы обусловили сочетание историко-типологического, историко-функционального и структурно-семантического методов исследования, основы которых изложены в трудах С. Аверинцева, М. Бахтина, Ю. Лотмана, Д. Лихачева.
Методологическую основу диссертации образуют исследования по философии культуры (Г. Кнабе, В. Топоров, И. Смирнов), работы, посвященные проблемам типологии литературных жанров и стилей (Г. Поспелов, Н. Тамарченко, М. Эпштейн). Предложенные в диссертации историко-литературные обобщения и выводы опираются на отечественный и зарубежный опыт изучения как литературного процесса 1920-1930-х гг. в целом (С. Семенова, Е. Скороспелова, М. Чудакова), так и художественного творчества А.Н.Егунова (Г. Морев, И. Вишневецкий, Н. Казанский, Б. Косанович, М. Маурицио, Т. Никольская, В. Шубинский и
ДР-)
Положения, выносимые на защиту:
А.Н. Егунов принадлежал к широко распространенному в XX веке типу творцов, совмещавших научную и переводческую деятельность с художественным творчеством. С профессиональными навыками автора — филолога-переводчика - связана отчетливо выраженная «литературоцентричность» его художественных произведений.
Важнейшим контекстом художественного творчества А.Н. Егунова является античность, взятая в соотнесении с современностью и заметно травестированная. Пародийно-ироническое восприятие античного наследия обусловливается авторскими представлениями о «конце» античности в культуре XX века.
Ориентация Егунова-художника на разные эстетические системы (барокко, сентиментализм, романтизм, и др.) лежала в русле характерного для литературы первой трети XX века поиска точек соприкосновения между научной теорией и литературной практикой, между
художественными парадигмами прошлых эпох и современными культурными исканиями.
4. Суть предпринимаемого Егуновым художественного эксперимента
заключалась в том, что в пределах одного произведения присутствовали
разные литературные традиции; заимствование элементов, характерных для
той или иной из них, сочеталось с их пародийно-ироническим
переосмыслением.
5. Художественные искания А.Н. Егунова были сопряжены с
пасторалью. Пасторальная образность определяла жанровую специфику и
поэмы-пьесы («Беспредметная юность»), и романа («По ту сторону Тулы»),
и ряда лирических стихотворений, входящих в сборник «Елисейские
радости». Внося заметные коррективы в пасторальную картину мира, автор
сохранял жанровое ядро пасторали.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что изучение историко-литературных контекстов творчества А.Н. Егунова позволит расширить представления о судьбе различных литературных традиций в культуре XX века.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть учтены при дальнейшем изучении творчества А.Н. Егунова; материалы проведенного исследования могут быть использованы при создании общих и специальных курсов истории русской литературы XX века в высшей и общеобразовательной школе.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на кафедре новейшей русской литературы Пермского государственного педагогического университета, излагались в докладах на научных конференциях в Перми: Международная научно-практическая конференция «Современная русская литература: проблемы изучения и преподавания» (ГТГПУ, 2007), научно-практическая конференция «Содержание филологического образования в процессе становления профильной школы: проблемы и опыт» (ПГПУ, 2007), Международный
научный семинар «Миф - Фольклор — Литература. Памяти И.В. Зырянова» (111 НУ, 2008); в Москве: Международная научная конференция «XX Пуришевские чтения: Россия в культурном сознании Запада» (МПГУ, 2007); нашли отражение в 9 опубликованных работах.
Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего более 200 наименований. Общий объем диссертации 170 страниц.
Диалог с Платоном
На протяжении всей творческой жизни Егунов переводил Платона, что объясняет наличие платоновских аллюзий в его художественных произведениях. В данном параграфе речь идет о связях «Беспредметной юности» с диалогом «Федр», к переводу которого автор поэмы-пьесы обратился спустя несколько десятилетий после ее написания. В результате сопоставления указанных произведений обнаружены общие для них мотивы (прогулки, поиска души, бессмертия) и связанные с ними образы (поток, круг, пропасть). Подчеркивается заметная трансформация античных представлений в поэме-пьесе.
Платоновские диалоги, по мнению исследователей, могут считаться самостоятельными художественными произведениями. В. Ф. Асмус писал: «Платон мастерски владеет всеми средствами, какие ему, как писателю, вручает его богатый, выразительный, гибкий и меткий язык, его огромная литературная эрудиция, его точная и целеустремленная память. Он мыслит образами, метафорами, уподоблениями, сопоставлениями, а также создает порой грандиозные мифы, иносказания, символы» . Ученый объяснял это тем, что « ... литературной философской деятельности Платона предшествовали опыты в области художественной литературы, музыки и живописи. Это может объяснить драматизм и метафоричность его произведений, особенно таких, как "Пир", "Апология Сократа", "Федр", "Ион"»44.
Как переводчик Платона, Егунов «впитал» в себя оригинальный древний текст и наполнил отсылками к нему собственные художественные произведения. Заметим, что сам автор был склонен соотносить с платоновскими текстами все, что было написано после них. В этом отношении показательны его рассуждения о цитатах из Платона в греческом романе, в частности, в «Эфиопике» Гелиодора: « ... развесистый платан (чинара) не воспринимается непосредственно: при взгляде на него приходит мысль, что это дерево упоминается в знаменитом диалоге Платона». В другом месте: «Беседа велась на классическую со времени Платоновского симпосиона тему - о любви. Но, в отличие от Платона, целью беседы ставилось не метафизическое раскрытие предмета, но всего лишь веселая занимательность» 5.
К числу наиболее устойчивых мотивов, встречающихся в текстах Платона и Егунова — в «Федре» и «Беспредметной юности», относятся мотивы прогулки, поиска души, бессмертия.
В сократовском методе познания мира существенную роль играли неспешные прогулки, сопровождавшиеся задушевными беседами. Встретившись у городских ворот, Сократ и Федр направлялись для уединенного разговора подальше от суеты. « ... иду прогуляться за городской стеной», по загородным дорогам «прогулки утомляют меньше ... , пройдись со мной и послушай», - приглашал Федр. Ему вторил Сократ: «Свернем сюда и пойдем вдоль Илиса, а там, где нам понравится, сядем в затишье»46. Своеобразное «приглашение» на прогулку содержится в обращении автора «Беспредметной юности» к читателю: «Пойдем, пройдемся, там безлюдно. / Как трудно жить, и все ж как чудно!» [1; 63].
С «прогулками в распрекрасном Петербурге» были связаны важнейшие составляющие жизни героев: любовь, свобода, жизнь, смерть. Фельд говорил: «Пока мой кучер проверяет втулки, / вкушаю наслаждения прогулки / средь стриженых, хотя не бритых лип» [1;53], а позже утверждал, что жизнь — «ряд прогулок» [1; 54].
Герои Платона и Егунова любовались красотой окружающего мира. Сократ восхищался местом, выбранным для беседы с Федром: «Клянусь Герой, прекрасный уголок! Этот платан такой развесистый и высокий, а верба здесь прекрасно разрослась, дает много тени; к тому же она в полном цвету, так что все кругом благоухает. Да и этот прелестный родник, что пробивается под платаном: вода в нем совсем холодная, вот можно попробовать ногой. ... ветерок продувает ласково и очень приятно, несмотря на то, что знойным звоном отдается стрекотание цикад. Всего же наряднее здесь трава, ее вдоволь на пологом склоне. Если вот так прилечь, голове будет совсем удобно» [с. 189].
Хотя в пейзажах поэмы-пьесы вместо платана - ивы и липы, но герои Егунова, как некогда Сократ с Федром, также склонны восхищаться их прелестью. Идиллические картины были связаны с образом России: «Нет, невиннее и проще / воинов купанье в роще, / им берез душистый веник / дан природою без денег ... / так, довольные по горло, / плещутся, полощут горло» [1;52]; «О, родина, родина, дух неистовых лип, / шиповника шип, / травы-травинки, / были-былинки / и пути-тропинки» [ 1; 58]; «Дальние-предальние, / вечные, как типы, / льются облака в купол темно-синий, / гул звучит осиный / вкруг цветущей липы» [1;59].
В диалоге Платона не раз подчеркивалась гармония природных сил, благоприятных и притягательных. Федр: «Там тень и ветерок, а на траве можно сесть и, если захочется, прилечь» [с. 188]. Унтер испытывал подобную тягу к земле: «Здесь лягу .. . я» [1;56].
Но в отличие от Сократа и Федра, герои «Беспредметной юности» видели живописные пейзажи только в своем воображении и воспоминаниях. Отчаяние Унтера звучало в обращении к силам природы: «И к тебе я приник, ручей, / Голос ясный, зеленый снится. / Голос, ты чей? Ничей. / Я тоже никто и навеки. / Кто мне отец и мать? / Птицы, пойте, струитесь, реки, / - в земле хорошо полежать» [1;56]. Слияние с благодатью — в данном случае: с природой - возможно только как соединение с землей, что вызывает другой ассоциативный ряд: земля -прах- смерть.
Стремление вырваться за пределы «страшного» мира - желание Унтера, особенно отчетливо проявлявшееся, когда он уходил от реальности в воображаемые «поля», «берега», «реки». Автор многократно подчеркивал эту склонность бежать прочь из города, «в котором засела ночь» [1;55]. В послереволюционной России на смену мечтателям Унтеру и Лизе пришли новые люди с иными мечтами и представлениями о жизни. Вместо созерцания мира и поисков истины в ходе неспешных бесед и прогулок они «носились стремглав» по городу, сопровождая свои метания нелепыми сентенциями: Ящерица «обегала все села ... / и города, да, да, / улыбки и извивы / у липки и у ивы» [1; 61], а «Фельдшерица / к своему народу мчится» [1 ;60], сея смерть и разрушения. О тех, кто утратил силы в борьбе за душу, у Егунова говорится: «Смиренно пробегает мимо / прохожий, чья душа томима» [ 1 ;52].
Пасторальные аспекты сюжета
По словам Т.В. Саськовой, «история пасторали в разных жанровых модификациях насчитывает в европейском искусстве более двух тысячелетий. Зародившись в античной культуре в эпоху эллинизма, пройдя большой путь развития, он дожила - в трансформированном и преображенном, иногда до неузнаваемости виде (вплоть до превращения в свою противоположность, в антипастораль) до наших дней»49. Причины не изживаемой актуальности пасторального идеала, восходящего к мифу о Золотом веке, исследовательница связывала с тем, что «пасторальные ценности на протяжении многих столетий входят неотъемлемой составной частью в культурные парадигмы разных эпох, обеспечивая их преемственность, способность сопротивляться разрушительным, энтропийным процессам» . По мнению исследовательницы, «при всей своей непритязательности пастораль оказывалась способной фиксировать, осмыслять, символизировать кардинальные сдвиги в ходе антропологизации природы, мифологизации быта в его отношениях с бытием, задавать ценностные ориентиры, исходя из понимания человека как части социоприродного организма ... »5 .
Н.О. Осипова, характеризуя пасторальные мотивы в русской драматургии первой трети XX века, активизацию жанров с ярко выраженной пасторальной модальностью, совмещавших в себе «многогранность эстетического освоения жизни: мечту о Золотом веке, яркую игровую палитру, маскарадную образность, утонченный лиризм, иронию»52. Восприимчивость эпохи «большого синтеза» к пасторали, «не закрепленной ни ведущим методом, ни направлением, ни жанром», исследовательница связывала не только с внешним игровым пластом пасторальной традиции. По мнению Н.О. Осиповой, «пасторальный компонент, включенный в ткань художественного произведения, обнаруживал способность к философским обобщениям, выявлению авторской позиции, диалогичности, жанрово-стилевой проницательности»53.
Поэма-пьеса «Беспредметная юности», в которой, на наш взгляд, пасторальная модальность проявляет себя как на уровне концептуальном, мировоззренческом, так и на художественно-эстетическом, в данном аспекте специально не рассматривалась. Однако к ней обращался В.Н. Топоров, который, как уже отмечалось, исследовал ее в связи с «Лизиным» текстом русской культуры, демонстрируя переклички поэмы-пьесы с «Бедной Лизой» Н.М. Карамзина, с «Пиковой дамой» А.С. Пушкина, с оперным либретто «Пиковой дамы», с произведениями, которые, как известно, имеют непосредственное отношение к пасторально-идиллической традиции.
Исследователь фокусировал свое внимание и на полемике А.Н. Егунова с традиционным решением темы бедной Лизы, и на совпадениях поэмы-пьесы с классическими текстами. Не оспаривая отведенного «Беспредметной юности» особого места в составе «Лизина» текста русской культуры, еще раз подчеркнем ее отличия от всех перечисленных произведений. У А.Н. Егунова нет ни Эраста (Унтер не Ловелас), ни Германна, ни пушкинского, ни оперного. Ему «мундир дарован ошибкой». Он «небом болен», сентиментален, как Германії Модеста Чайковского, но никакой «темной страсти» и тем более жажды обогащения у него нет. Принципиальные для «Лизина» текста составляющие заметно трансформируются3 .
Р.Д. Тименчик, говоря об экспериментах в искусстве 1910-х гг., указывал, что «новаторское конструирование художественного текста шло по пути поочередного вычитания наиболее рельефных признаков жанра» . По этому же пути, как кажется, шел и автор «Беспредметной юности». Он не только «выворачивал» наизнанку традиционные коллизии, но и «ампутировал» наиболее показательные жанровые приметы. В пасторали таковой является любовная проблематика. А.Н. Егунов написал пастораль, если не «ампутировав», то заметно редуцировав именно любовную тему. Его «Беспредметная юность» - поэма-пьеса не столько о любви, сколько о бездне, грозящей поглотить человека.
Рассмотрим некоторые пасторальные аспекты сюжета поэмы-пьесы, в частности те, что связаны с оппозицией «цивилизация / природа».
Пастораль, возникшая из античной буколики; обладает характерными особенностями, касающимися специфики героев, хронотопа, конфликта. В пасторали гармоничный мир природы и сельская безбедная жизнь противопоставлялись городскому существованию, негармоничному и бедственному. В «Беспредметной юности» Егунов использовал подобное противопоставление, дав два вида пейзажа: городской и природный. Разные пейзажи - городской и сельский (идиллический) - на протяжении всего произведения вступают в различные отношения: они то контрастируют друг с другом, отрицая один другой, то поразительным образом совпадают, обнаруживая весьма заметные переклички.
«Беспредметная юность» открывается пейзажной зарисовкой -откровенно не пасторальной «картинкой», где акцентируются памятные всем городские реалии (Петербург, Нева, Зимняя канавка). Совершаемые героями «прогулки в распрекрасном Петербурге» происходят в атмосфере «внезапной стужи». Герои оказываются свидетелями «давки», наблюдают за тем, например, как «кучер мчится, ... калеча Зимнюю канавку» [1;52]. Город полон ощущений присутствия смерти («смертных прах / расплодился просто страх, / рассыпан он, столбами / пыли бывает виден на свету, / так что куда б мы ни заплыли, / он у меня всегда во рту»[1;54]). Фельдшерица, олицетворяющая новое время, настаивает на том, что «требуются казни». Мотив приглашения на казнь («разрешите вас казнить») приобретает устрашающее постоянство.
Подобное изображение города с его бедствиями, трудностями и недобрыми или несчастливыми горожанами было характерно для пасторали (например, у Лонга в романе «Дафнис и Хлоя» мирные селяне, счастливо жившие среди зеленых лугов и виноградников, подверглись нападению со стороны горожан-метимнейцев, в городе Метилена жили несчастные родители влюбленных, Дафнис и Хлоя не хотели городской свадьбы, прося пастушескую).
Кроме указанных городских видов, в «Беспредметной юности» есть другой пейзаж, где запах лип и шиповника, где «парк старинный / прадедовских времен / древес, дубов дуплистых» [1;59], «голос ясный, зеленый снится» [1;53], «сквозит приветливая мгла, / в деревьях сок внутри ствола / течет, не думая о небе. / Он соки горькие земли до самой кроны подымает» [1;63]. Такие изображения вызывают ассоциации с пасторалью, со свойственными ей идиллическими картинами природы. Однако, в отличие от античной пасторали в «Беспредметной юности» у этих описаний есть характерная особенность: они могли оказаться воспоминаниями о лучших днях и «приветливой кровле», фантазиями («заманчивы нездешние сады»), «скопленьем» «чаяний и сна» («добраться бы скорей до родной кроватки, / всех милей мне ее общество, / в ней забуду свое имя и отчество. / Вот как надо разрешить вечное быть или не быть» [1;54]). Не случайно Унтер, оторвавшись от размышлений, восклицает: «Рай, должно, быть тоже смутный, / набегающий, минутный. / Как и этот мир весенний, / полный синих испарений» [1;51].
Роман «По ту сторону Тулы»: на пути от античной буколики к советской пасторали
Название романа «По ту сторону Тулы», как отмечал И. Вишневецкий, «хотя и основывается на топонимике Средней России, в первую очередь отсылает к двадцатичетырехтомному роману Антония Диогена "Невероятные приключения по ту сторону Тулэ (или Фулэ)" (ок. 150 г. по Р.Х.), сохранившемуся лишь в подробном пересказе XI века - в описании библиотеки константинопольского патриарха Фотия»74. Однако связь рассматриваемого нами произведения с античной культурой не исчерпывается отсылками, как к указанному, так и к другим конкретным источникам. С античной традицией роман Егунова-Николева соотносится, в том числе, и благодаря ярко выраженному в нем пасторальному началу, причем можно вести речь о сознательной ориентации писателя на античную буколику: иначе невозможно объяснить одну из «сильных» позиций произведения - подзаголовок «советская пастораль», имевший место в авторской редакции и снятый при издании романа в 1931 году.
Обращаясь к пасторали, корнями уходящей в античность, Егунов-Николев создает советский вариант жанра. Несмотря на бытовавшие в советскую эпоху представления, согласно которым «пасторали устарели», его роман демонстрирует продуктивность этой жанровой формы для изображения современности. Как и «Беспредметная юность», «По ту сторону Тулы» убеждает в том, что пастораль XX века утрачивала «легковесность» и затрагивала как злобу дня, так и важнейшие проблемы человеческого существования.
Тема деревни в русской литературе всегда была одной из главных. Жизнь крестьянина с ее тяготами и простыми радостями не раз становилась объектом изображения в литературе. Одни авторы идеализировали мужика как представителя патриархального уклада жизни, выразителя вековой народной мудрости, терпения и многих других добродетелей, другие — наоборот, не склонны были преклоняться перед крестьянством, полагая, что пороков у него больше, чем достоинств. В послеоктябрьской советской литературе деревня также являлась одним из устойчивых топосов и объектом литературных споров. Роман «По ту сторону Тулы» вписывался в этот пласт литературы как попытка показать крестьянский мир накануне «великого перелома» (в преддверии коллективизации, раскулачивания, голода) и подключался к спорам о деревне в литературе.
Жизнь русского крестьянства на рубеже 1920-1930-х гг. увидена Егуновым-Николевым в пасторальном освещении, однако ничего, что сближало бы его роман с «псевдодеревенской литературной продукцией», в нем нет. Специфика егуновской «советской пасторали» состояла в принципиальной смене предмета изображения. Классическая пастораль изображала патриархально-идиллический мир, жизнь мирных селян в единении друг с другом и природой. Первое, что бросается в глаза в романе Егунова-Николева - это отсутствие среди его героев собственно пастухов и землепашцев, и это при том, что действие происходит в центральной части России, славившейся своими плодородными черноземными землями. Крестьянин, работающий на земле, становится у Егунова фигурой едва ли не случайной, эпизодической, и, что важно, сближается, например, с подневольными тружениками из «Путешествия из Петербурга в Москву» Н.Радищева. В советской деревне «простые пастухи и землепашцы», «сеятели» и «хранители» оказывались «лишними людьми», чужими на «празднике жизни», под названием «путь в социализм». Их положение в пору первых пятилеток заставляло вспомнить о крепостном праве.
Упоминавшиеся в произведении немногочисленные землепашцы крайне сдержанны в выражении своих чувств, они не вмешиваются в происходящее, находясь буквально в стороне, на обочине жизни. Показателен эпизод, в котором встретились буровые рабочие и крестьянин. Воскресным утром молодой мастер Федор и его невеста Марьянка «завели пляску» в поле: «Оркестр, составленный из прищелкиваний языком, из губ, сложенных для свиста, с всунутыми в рот двумя пальцами для придания посвисту разбойничьего оттенка, из хлопанья в медные тарелки ладоней, уже шествовал по черноземной пашне. Встреченный землепашец, работавший, несмотря на воскресенье, поглядел, снял шапку и промолвил: "Бог в помощь". Но оркестру некогда было отвечать на его приветствие: медные трубы старательно набирали в себя горячий воздух, готовясь к трем оглушительным и заключительным своим аккордам» [3; 166—167]. Приведенный эпизод символичен: новая сила, с «разбойничьим посвистом» несущаяся по «черноземной пашне», не замечает труженика, вынужденного, как и во времена Радищева, работать «во все дни», в том числе, и в воскресный.
Патриархально-идиллический мир населяли социально равные люди. Жители Мирандина менее всего были похожи на мирных пастухов: они социально расслоены, втянуты в классовые бои. Среди них есть свои «зажиточные», такие, к примеру, как Сазыкин, на квартиру которого был поставлен буровой мастер Федор, доносивший о хозяине своему непосредственному начальству и осуществлявший таким образом начатое в стране «наступление на кулака». У Сазыкииа в Мирандине свои интересы, которые он готов отстаивать, если потребуется, и с оружием в руках. В его доме можно было увидеть непривычную для деревни, точнее - совсем недеревенскую обстановку: «горница ... оказалась комфортабельной», «мух вовсе не было: в растворенные окна были вставлены сетки», «мягкая мебель по-городскому группировалась вокруг стола» [3; 124]. Здесь же были и достижения техники: наушники, в которых можно было услышать Москву. Сазыкин говорил: «Культура! У нас весь уезд культурный» [3; 125]. С «культурой» герой был знаком по «касселевскому плену» и мечтал обустроить свою жизнь по западным образцам - «на тот год» он надеялся надстроить второй этаж собственного дома.
Деревня буквально наводнена людьми, к крестьянскому труду не имеющими никакого отношения. Быт и нравы их подавляющего большинства поразительно убоги. Примером может служить «вакханалия», устроенная по случаю приезда столичного гостя. Вместо обильного стола с дарами природы в качестве угощения были предложены шпроты и ящик водки. Пришедшие оказались не скромными пастухами, а буровыми мастерами, уже успевшими «нагрузиться». Они «вопили», «фыркали», рассказывали пикантные анекдоты, «гикали», роняли и били посуду. Финальной репликой был их крик: «Айда к девкам!». После этого «пира» остался «липкий стол», который «пахнул городской пивной, горохом и воблой» [3; 45].
Античные мотивы и образы в «Елисейских радостях
Данный параграф посвящен изучению античного пласта лирики Егунова: предприняты попытки обозначить ряд сходств и отличий ключевого образа Элизиума у Егунова и античных авторов, определить смысл названия сборника.
Отсылку к античности содержит название сборника. В мифологии Елисейские поля (другие названия Элизиум, Острова Благословенных, Остров Блаженства, Счастливый остров) - «рай, в который попадали герои и праведники после смерти»114. Размышления о потустороннем мире, рае и аде - одна из распространенных тем художественного творчества, как времен античного язычества, так и времен христианства. К этой теме обращались многие художники, пытаясь найти ответы на главные вопросы человеческого бытия.
В изображении Елисейских полей античные поэты использовали набор устойчивых характеристик, некоторые из них обнаруживают себя и в лирике Егунова.
Мы вполне отдаем себе отчет в том, что сопоставляем оригинальные произведения Егунова с переводами Гомера и Вергилия на русский язык, без учета того, что филолог-классик Егунов, создавая собственные произведения, мог ориентироваться и на первоисточники. Мы приводим Гомера и Вергилия в переводах В. Вересаева и С. Ошерова. К сожалению, нам не известно, был ли знаком с ними Егунов. Поэтому в данной работе речь идет не столько о текстуальных перекличках, сколько именно о передаче ряда устойчивых представлений, сближающих Егунова с древними авторами.
Вслед за предшественниками Егунов воссоздал приметы райского топоса, используя ряд повторяющихся в его описаниях деталей. Среди них традиционным было изображение Элизиума как мира призраков: его называли «туманным царством», в котором обитали тени, призраки, души. Например, у Вергилия в «Энеиде» герои: ... бродили ... по всему туманному царству, Между широких лугов, чтобы всех разглядеть и увидеть115. У Егунова эта традиция сохранилась в описании «заелисейских полей», «туманных, как папироса», где были «счастливы ... тени». Обязательным было сохранение атрибутики загробного мира, которая не позволяла читателю отождествлять этот и тот свет. Упоминания о богах, душах умерших героев, что витали наряду с облаками в Стране Блаженных, - традиционный момент у античных авторов, сохранившийся в «Елисейских радостях». Так, Гомер в «Одиссее» отмечал роль богов, без помощи которых смертный не смог бы достичь берегов Элизиума: Будешь ты послан богами в поля Елисейские, к самым Крайним пределам земли, где живет Радамант русокудрый . Вергилий в «Энеиде» уподоблял витающие блаженные души пчелам: Там без числа витали кругом облака и народы. Так порой на лугах в безмятежную летнюю пору Пчелы с цветка на цветок летают и вьются вокруг белых Лилий, все вокруг оглашается громким гуденьем117. В стихотворениях Егунова часто упоминались потусторонние силы: Бог, ангелы, тени, бестелесные, невидимки, призраки и др. Воздух, которым дышали герои, определялся как « ... испарина полей - / нежнейший, беспредметный клей, / почти сквозной, почти что млечный» [2; 282]. Элизиум славился богатством и пышностью природы (на островах Благословенных находились «райские поля с вечной весной»118; а «на земле вечно цвели нежно пахнущие деревья, в центре находился дворец, где обитали бессмертные. На острове росло огромное дерево, ... рядом с фонтаном, на его ветках обитало множество птиц. Плоды этого дерева имели прекрасный вкус и насыщали на много дней. Через остров протекали две реки: одна была река молодости, другая - смерти»119). Античные поэты часто использовали эти представления. Клавдиан в «Похищении Прозерпины» писал: ... На мягких лугах ароматных Скоро поймешь ты, что там, под веяньем лучших зефиров Вечные дышат цветы - таких не найдешь ты на Энне. В рощах тенистых растет там древо красы несказанной, Листья сверкают на нем зеленым блеском металла . На Елисейских полях Егунова природа осталась такой же изобильной и спокойной: «жизнь богатая», «бережок пригожий», «ангелические», «расплывающиеся кущи», где «играючи, небесный хвост / метет поля сияньем пестрым». В Элизиуме все находилось в гармонии друг с другом. Блаженные души в поэме Вергилия говорили Энею: Нет обиталищ у нас постоянных: по рощам пеонистым Мы живем; у ручьев, где свежей трава луговая наши дома... В стихотворениях Егунова была воссоздана подобная гармония: « ... друг другу мы становимся легки / уже не мы, близнецы иные» [2;280], « ... гуляем промежду грядок, / и мне тогда сплошное «да» / весь этот небесный порядок» [2;285]. В Елисейских полях, где « ... протекает беспечальная посмертная жизнь героев, перенесенных туда богами»122, уделом всех становилось блаженство, а тяготы жизни были забыты. Исчезла необходимость страдать, воевать, работать и т.п. Гомер писал: В этих местах человека легчайшая жизнь ожидает. Нет ни дождя там, ни снега, ни бурь не бывают жестоких. Вечно там Океан бодрящим дыханьем Зефира Веет с дующим свистом, чтоб людям прохладу доставить . Описания Вергилия были полны ощущениями беззаботности: Вправо ли взглянет Эней или влево, — Герои пируют, Сидя на свежей траве, и поют, ликуя, пеаны В рощах, откуда бежит под сенью лавров дуплистых, Вверх на землю стремясь, Эри дана поток многоводный124.
Именно Вергилий изобразил в «Энеиде» райское существование, употребив несколько вариантов определений с общим значением «блаженный»: В радостный край вступили они, где взору отрадна Зелень счастливых дубрав, где приют блаженный таится. Здесь над полями высок эфир, и светом багряным Солнце сияет свое, и свои загораются звезды " . В «Елисейских радостях» Егунова упоминались «млеко ангельское», «дружественный сон», и «неземное здоровье» [2; 280]. В Элизиуме перестала быть значимой категория времени, на ее место пришла вечность. Души блаженных у Клавдиана говорили: .. .всем тем мы владеем навеки, Что на земле мимолетно . В «туманных полях» Егунова утвердился «полный отказ от измерений» [2; 280], когда « ... остановилось время, как вода в кадушке / застойная» [2; 283]. Срок жизни, отмеренный каждому, переставал быть значимым, если « ... хлещет свет, / и смерти нет» [2;285]. Одной из особенностей античных произведений, связанных с темой Элизиума, являлось противопоставление земной и загробной жизни, при этом поэтами подчеркивались достоинства последней. Например, Прозерпине было обещано увидеть мир, прекраснее которого нет: ... Иные светила Светят у нас: ты увидишь иные миры, и сияньем Более чистого солнца в Элизии ты насладишься. Узришь ты сонм благочестный. Там жизнь ценней и прекрасней, Меж поколений златых "7. Подобная антитеза земного и райского существования присутствовала у Егунова: в его стихотворениях «заелисейские поля» резко противопоставлялись реальному миру. Для характеристики реального мира автор выбирал соответствующие определения «радиошумная столица» или более привычный штамп «страна советов», использовал прямые обозначения «Русь», «русские, русичи иль росы». В противовес античному Элизиуму как миру природному, Егунов изобразил реальный мир как мир города: «центр города, центавры на мосту», «городок - раскрашенный переулок» с куполами храмов, уличными фонарями, шпилями зданий. В этом мире-городе все наоборот. Забвение, свойственное душам в Земле Блаженных, сменилось самоиронией и отчаянием. Память об утраченной гармонии сохранилась в душе лирического героя, где были живы воспоминания о «молодости небывшей» и дорогих сердцу навсегда ушедших людях: «Так-то, Русь, сядем с тобой, покалякаем / о заутренях вкусных, о парнях-непокойниках, / о парче на покров, теперь поузорчатей» [2;291]. В памяти сохранился идиллический пейзаж, когда « ... через окошко облака трепещут, / березки парами, кисейные, гуляют» [2;283].