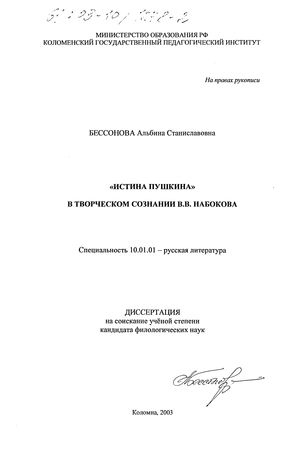Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. «Пророк» Пушкина, прочитанный Набоковым 15
1. Образ творца: «Пророк» и «Приглашение на казнь» 16
2. Природа творчества: «Пророк» и «Дар» .28
3. Писатель как читатель: «Пророк» и статья «Пушкин, или Правда и правдоподобие» 35
4. Творческое переосмысление образной системы «Пророка» в произведениях Набокова 39
Глава 2. Генезис этико-эстетической концепции Набокова (трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери») 50
1. Значение проблематики «Моцарта и Сальери» в творчестве Набокова 50
2. Драма профана: «Моцарт и Сальери» и « От чаяние» 52
3. Природа гениальности: «Моцарт и Сальери» и «Дар» 54
4. Этика как эстетика: «Моцарт и Сальери» и «Лолита» 67
5. «Моцарт и Сальери» и творческая личность Набокова 73
Глава 3. Набоков — интерпретатор «Евгения Онегина» 78
1. Диалог и полемика 78
2. Перевод и комментарий 93
3. Поэтика слова (билингвизм и творчество) 105
4. Номинативный феномен «Евгения Онегина» и роман «Лолита» 109
Заключение 124
Список использованной литературы 129
- Образ творца: «Пророк» и «Приглашение на казнь»
- Природа творчества: «Пророк» и «Дар»
- Значение проблематики «Моцарта и Сальери» в творчестве Набокова
- Диалог и полемика
Введение к работе
В истории русской литературы творчество Владимира Набокова занимает особое место благодаря активному диалогу с отечественной и зарубежной классикой. Оригинальный, реминисцентно насыщенный стиль Набокова, демонстрируя установку писателя на творческое переосмысление литературного наследия и полемику с предшественниками, вовлекает литературоведение в неизбежный анализ взаимодействия писателя с его многочисленными «собеседниками». Сопоставление Набокова как с русскими, так и с зарубежными писателями наметилось ещё в прижизненной критике, а в современных исследованиях данная тема является наиболее разработанной. Актуальность диссертации обусловлена весьма значимой проблемой генезиса художественного мира писателя и его литературной «родословной».
Феномен набоковского творчества можно рассматривать как внутреннюю реакцию литературы на преобладание в ней «больших идей», как акт самосознания. Творчество Набокова развивалось в русле традиции, намеченной Пушкиным в первой трети XIX века и поддержанной на рубеже веков Чеховым и Буниным. В её основе лежит пушкинская мысль о самоценности поэзии, что открыто декларируется Набоковым в статьях и лекциях по литературе и определяет поэтику его произведений. В результате проблема связи набоковского творчества с русской литературной традицией получает два пути развития: с одной стороны, просматриваются явные параллели (Пушкин - Гоголь - Толстой
Чехов), с другой, намечается полемика и противостояние (Достоевский
Лесков - Чернышевский - Некрасов).
Значимость Пушкина для творчества Набокова давно признана литературоведением и не вызывает сомнений. Образ «пушкинских весов» («Неоконченный черновик», 1931) и «пушкинского камертона» («Дар»,
1937 - 1938) является определяющим в личностной и художнической позиции писателя. Пушкин для Набокова - образец подлинной литературы, свободной от идеологических наслоений, имеющей целью самоё себя. Ориентируясь на пушкинский эталон, Набоков способствует возвращению литературы к её исконному значению как словесности, что, по мнению писателя, было во многом утрачено в послепушкинский период под влиянием усиливавшихся морализаторских и дидактических тенденций. Не столько сознательное заимствование, сколько «общность духовного опыта» (П. Бицилли) и стремление к гармоничному равновесию между предметом и его словесной оболочкой позволяют говорить о пушкинской парадигме набоковского творчества. Характерное для русского периода обилие цитат, аллюзий, реминисценций является результатом вовлечения пушкинского творчества в сферу его художественного переосмысления Набоковым и становится знаком причастности писателя к пушкинской идее творчества. Ослабевание пушкинского цитатного пласта в англоязычных романах Набокова, отмеченное исследователями, не есть признак его исчерпанности. Происходит качественное преображение набоковского творчества, в котором нарастает процесс обновления языка посредством его активного взаимодействия с иными языковыми стихиями (английской, французской, немецкой). В своей основе это явление имеет пушкинскую природу: поэт своим творчеством, а в особенности романом «Евгений Онегин», стимулировал формирование национального языка, опираясь на более разработанный французский язык. Наша диссертация имеет своей целью проследить развитие в набоковском творчестве этого процесса, инициированного близкими мировоззренческими установками писателей, их этико-эстетическими убеждениями, которые реализовались в первую очередь в раскрытии богатых возможностей литературного языка.
Тема диссертации, заявленная в названии, основана на
высказывании Набокова в статье 1937 года «Пушкин, или Правда и
правдоподобие», где писателем сформулирована идея познания правды
художника через проникновение в тайны его творчества. Произведения
Пушкина восприняты Набоковым сквозь призму «истины искусства»,
которая противопоставлена спекулятивному правдоподобию
биографических изысканий, фарсовой красоте «человеческого документа» и социологии современного романа. Искусство, по Набокову, становится одним из проявлений незыблемых человеческих ценностей: «Ни на мгновенье не поблекла истина Пушкина, нерушимая как сознание <...>. Конечно, с обывательской точки зрения может показаться, что мир становится всё хуже и хуже <...>. Но взгляд философа, созерцающего жизнь, искрится доброжелательностью, подмечая, что в сущности ничего не изменилось и по-прежнему остаются в почёте добро и красота»1 (курсив наш - А.Б.). Специфике претворения данного пушкинского двуединства в творчестве Набокова посвящено диссертационное исследование. Оно, в определённом смысле, может рассматриваться как комментарий к ключевому выражению Набокова «истина Пушкина».
Объектом исследования являются в первую очередь произведения русскоязычного творчества Набокова: романы «Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь» (1935 - 1936), «Дар», русская версия романа «Лолита» (1967), а также статья «Пушкин, или Правда и правдоподобие» и «Комментарий к роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» (1964). Для сравнительного анализа мы обращаемся к стихотворению Пушкина «Пророк», трагедии «Моцарт и Сальери», роману «Евгений Онегин». Предметом исследования являются, с одной стороны, тематические связи названных произведений двух писателей, а с другой, мы прослеживаем
1 Набоков В.В. Лекции по русской литературе. - М., 1996. С.432. (Перевод Т. Земцовой.)
особенности художественного осмысления Набоковым центральной идеи пушкинского творчества. На защиту выносятся следующие положения:
В ряду многих пушкинских произведений, к которым обращается Набоков, есть такие, которые определяют этико-эстетическую позицию писателя и основы его мировоззрения, - «Пророк», «Моцарт и Сальери», «Евгений Онегин».
Восприятие и истолкование Набоковым указанных произведений носит многоуровневый характер - от эксплицитной и имплицитной цитатности до творческого усвоения и развития важнейших художественных принципов, берущих начало у предшественника.
Творчество Набокова можно рассматривать как некий аналог пушкинского в силу актуализации и обновления литературного языка, которые в нём происходят.
Научная новизна работы заключается в выработке целостного взгляда на проблему взаимодействия Набокова и Пушкина, где целостность обусловлена, во-первых, выделением тех пушкинских произведений, которые по содержанию и поэтике являются генерирующими для набоковского творчества, а во-вторых, рассмотрением указанных произведений Набокова в неразрывной связи друг с другом. Намечен филологический анализ набоковских романов, предполагающий особое внимание к слову как к смыслообразующему центру художественного мира писателя.
Методологическую основу диссертации составляют положения, сформулированные в трудах А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, М.М. Бахтина, А.Л. Бема, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Ю.М. Лотмана, С.Г. Бочарова, Е.Г. Эткинда, Б.М. Гаспарова, А.Б. Пеньковского, В. Шмида. В первую очередь нас интересует генетический аспект вопроса, позволяющий проследить трансформацию и развитие Набоковым
пушкинских идей и некоторых элементов его поэтики. В то же время мы не исключаем, что речь должна идти не о сознательном подражании и прямых заимствованиях, а о типологических связях набоковского творчества, развивавшегося в эпоху активной творческой рецепции пушкинского наследия. Кроме того, типология обусловлена ставшей устойчивой в литературе темой поэта и поэзии. В случае Набокова стоит говорить о данной теме как об одной из главных, когда писатель сосредоточен на исследовании творческого сознания и языкового бытия как главного феномена литературы. В силу сложности, многогранности и синтетичности набоковского наследия в литературоведении последнего времени наметилась тенденция к выработке особого метода исследования творчества писателя. В диссертации мы опираемся на работы В.Е. Александрова (анализ набоковского творчества в единстве его этических, эстетических и метафизических посылов), С.Я. Сендеровича и Е.М. Шварц, которые сформулировали этологический подход к набоковскому творчеству, основываясь на признании индивидуальной поэтики писателя. Весьма обоснованной нам представляется утверждение исследователей о присутствии в произведениях Набокова не отдельных разрозненных аллюзий, а крупных «аллюзивных планов, которые проходят через весь корпус его текстов и составляют устойчивые измерения его мира»3. Стратегия перечитывания лежит в основе методологического подхода Брайана Бойда, что особенно актуально в отношении гиперпоэтического стиля Набокова. В своём исследовании пушкинского слова в романах писателя мы также исходим из представления о полигенетичности его прозы (П. Тамми). Признавая традицию истолкования произведений
2 «Мы называем этологией описание данного индивидуального поэтического мира в его
структуре и характере» - см.: Сендерович С.Я., Шварц Е.М. Поэтика и этология Владимира
Набокова// Набоковский вестник. - СПб., 2000. Вып.5. С.20.
3 Указ. соч. С.30.
Набокова в категориях интертекста, мы, тем не менее, склонны рассматривать их и интратекстуально, что предполагает не только сведение набоковского творчества к единому универсальному тексту, а анализ интересующей нас проблемы применительно к каждому конкретному произведению и обнаружение определённой эволюции в отношении Набокова к Пушкину. Важное место в работе отводится лингвистическому анализу набоковских романов, без чего, с нашей точки зрения, невозможно обойтись, учитывая приоритет феномена языка в художественном мире Набокова. Мы опираемся также на достижения как классического, так и современного пушкиноведения (Б.Л. Модзалевский, СМ. Бонди, М.А. Цявловский, Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, В.Э. Вацуро, С.А. Фомичёв, Ю.Н. Чумаков).
Основными теоретическими категориями работы являются: влияние, традиция, цитата, аллюзия, реминисценция, творческое развитие и трансформация, а также претекст, архетип применительно к внутринациональным литературным связям (Пушкин как мифологическое начало русской литературы, имеющее по отношению к ней претекстуальное значение). Здесь мы опираемся на исследования Е.М. Мелетинского, В.Н. Топорова, В.Е. Хализева, А.К. Жолковского, И.П.Ильина.
История вопроса берёт своё начало в критических работах 20-30 г.г., когда публиковались первые произведения Набокова. Благожелательно настроенные рецензенты, в числе которых следует упомянуть прежде всего В.Ф. Ходасевича, отмечали не только типологически близкие Пушкину образы в романах Набокова, но и обращали внимание на виртуозное владение словом, что указывало на определённое сходство двух писателей. С другой стороны, была и абсолютно противоположная точка зрения, которую, в частности, высказала З.Н. Шаховская: «Чувства добрые» и пробуждение их в людях как раз то, от чего Набоков отрекается
как от чего-то, поэту и писателю совершенно ненужного» . Особую актуальность тема «Пушкин и Набоков» приобрела после выхода в свет в 1964 г. набоковского четырёхтомного прозаического перевода и комментария «Евгения Онегина». Ряд критических отзывов содержал откровенные упрёки Набокова в полном разрушении поэтической речи Пушкина, которая, по мнению оппонентов, и составляет оригинальность и уникальность романа в стихах. Главным противником Набокова становится, как это ни парадоксально, американский критик и писатель Эдмунд Уилсон.
В современном литературоведении данная тема особенно активно изучалась, по вполне объективным причинам, в зарубежных исследованиях. В начале 90-х г.г. появились и отечественные работы. Предварительный итог подвела международная научная конференция «А.С.Пушкин и В.В.Набоков», организованная Пушкинским Домом в 1999 г. При всём многообразии существующих работ, можно выделить основные направления, в которых развивается исследование данной проблемы.
Во-первых, это биографический подход (В.П. Старк). Как известно, предметом особой гордости писателя был факт его рождения спустя 100 лет после Пушкина (1899). Дальнейшие биографические «совпадения» позволили зафиксировать моменты проникновения жизненного «материала» в творчество Набокова. Так, дуэль отца, «невольника чести», неоднократно становилась одним из эпизодов детства романных героев Набокова; взаимоотношения писателя со Светланой Зиверт, расторгнутая помолвка и посвященный возлюбленной цикл стихов перекликаются с «оленинским» сюжетом в жизни и творчестве Пушкина. Биографические параллели имеют под собой определённую основу: Набоков сознательно
4 Шаховская З.Н. В поисках Набокова. Отражения. - М.,1991. С.69.
творил миф о себе, что явно прослеживается в автобиографической прозе («Conclusive Evidence» - «Другие берега» - "Speak, Memory"). Пушкин в этом мифе является ключевой фигурой. Тенденции к превращению поэта в персонаж творчества наметились еще* в лирике Набокова (например, стихотворение «Изгнанье» - 1925) и окончательно оформились в романе «Дар». В нём, с одной стороны, присутствует сюжет-мистификация с участием Пушкина, а с другой, Пушкин и отец главного героя выступают как две ипостаси единого - гениального - существа, как нерасчленимый образ отца поэта. С нашей точки зрения, именно отцовское начало, ощущаемое Набоковым в Пушкине, и является для писателя жизнетворческим фактором. Подобного рода рецепция образа Пушкина объяснима в контексте времени. «Поэтическое пушкинианство» и «жизненное пушкинианство» в духе неоромантизма первой трети XX века не обошло стороной и творчество Набокова. Его восприятие Пушкина, на наш взгляд, развивалось в рамках утвердившейся в то время формулы «Мой Пушкин» (Брюсов, позже Цветаева), когда поэт приобщён к «личной правде» и индивидуальному «маленькому бессмертию» («Дар») благодаря вхождению в биографию (автобиографию) писателя. Однако Набокову ни в коей мере не было свойственно отождествление себя с Пушкиным, что являлось одной из примет поэтической жизни Серебряного века5.
Во-вторых, чрезвычайно плодотворным в литературоведении стало «эмпирическое» направление. Под ним мы подразумеваем выявление богатого пушкинского цитатного и аллюзивного ряда в произведениях Набокова, что необходимо для изучения особенностей подтекста (работы Н.А. Фатеевой, О.А. Дмитриенко, О.Ю. Сконечной, В.Б. Полищук и др.). В исследовании связей Набокова с Пушкиным этот этап является
5 См. на эту тему работу: Паперно И. Пушкин в жизни человека Серебряного века // Современное американское пушкиноведение. - СПб., 1999. С.42-68.
неизбежным и предполагает наличие выводов, которые объясняли бы активное присутствие пушкинского слова в романах Набокова. Примером такой работы является, в частности, диссертационное исследование В.В. Шадурского «Поэтика подтекстов в прозе В.В. Набокова». Автор на примере текстуальных аналогий между романами Набокова, с одной стороны, и «Евгением Онегиным» и «Пиковой дамой», с другой, приходит к выводу об онтологической значимости пушкинского подтекста в русскоязычном творчестве Набокова. Однако в набоковедении существуют прецеденты, когда поиск пушкинских аллюзий оказывается самодостаточным и не ведёт к целостному взгляду на данное явление, а останавливается на разрозненных внеконтекстуальных наблюдениях, свидетельствующих скорее об эрудиции исследователя и комментатора, нежели о значимости обнаруженного пушкинского слова для замысла произведения (примером могут служить некоторые работы Г. Шапиро).
Третье, самое перспективное, с нашей точки зрения, направление в
изучении темы «Пушкин и Набоков» составляют работы эстетико-
концептуального характера. Важным результатом здесь является
формирование аргументированного взгляда на проблему
взаимоотношений авторов и, что самое главное, рассмотрение её в контексте всего набоковского творчества. Итогом данных исследований оказывается выявление произведений Пушкина, которые по своей проблематике воспринимаются некими константами, позволяющими, во-первых, изучить генезис набоковского творчества, а во-вторых, понять своеобразие художественного мира писателя. В этом направлении в настоящее время работают А.А.Долинин, С.С.Давыдов, М.Н. Виролайнен, Б.В. Аверин, М.Э. Маликова, А.В. Злочевская, Л.Н. Целкова.
Литературная позиция Набокова обусловлена ещё и тем, что он оказался не только творческим, но и научным интерпретатором Пушкина. Здесь речь идёт о комментарии к «Евгению Онегину» и лекционной
деятельности Набокова, из которой до сих пор не опубликован полный
свод выступлений писателя по творчеству Пушкина. Однако, по
свидетельству исследователей, такие материалы существуют в
набоковском архиве6. Опыт изучения творчества Пушкина писателем не
нов в русской литературе. Научный анализ пушкинского наследия
предпринимали современники Набокова В.Я. Брюсов, В.Ф. Ходасевич,
А.А. Ахматова, публицистически осмысливали фигуру Пушкина А.А.
Блок, М.И. Цветаева; попытка исследования и объяснения творчества
поэта присутствует в более ранних работах Вл. Соловьёва, Д.С.
Мережковского. Академизм изложения, подкреплённый
литературоведческой терминологией, выявление внутренних творческих связей между далёкими, на первый взгляд, произведениями поэта, обнаружение самоповторов и сквозных образов, интерес к формальной стороне творчества, а также скрупулёзная источниковедческая работа сближает пушкинистику Набокова, с одной стороны, и Ахматовой, Ходасевича, Брюсова, с другой. Однако существенное отличие заключается, прежде всего, в активном неприятии биографического метода (поэзия как прямая биография), который последовательно отстаивался в работах Ходасевича и Ахматовой и не отвергался Брюсовым. Явным полемическим выпадом в адрес такого подхода стал комментарий Набокова к строфе XXXIII главы первой «Евгения Онегина» (отступление о «ножках»), который завершается неприкрыто саркастически: «Окончательное моё впечатление: если ножки, воспетые в строфе XXXIII, и имеют конкретную хозяйку, то одна из ножек
См. статью: Витале С. Пушкиниана в архиве В.В. Набокова // Набоковский вестник. Юбилейный. - СПб., 2000. Вып. 5. С. 143 - 147.
принадлежит Екатерине Раевской, а другая Елизавете Воронцовой» . Однако пушкинистика Набокова, в свою очередь, не свободна от субъективного момента иного рода, когда личность автора-комментатора вторгается в научное исследование в форме историко-бытовых наблюдений и стилистически несдержанных выпадов в адрес предшественников в жанре перевода и комментария. Это нередко рассматривается как слабое место комментария и позволяет критикам ставить под сомнение научную ценность труда Набокова. Открытый субъективизм, напомним, проповедовала М.И. Цветаева. Набоков находится между полюсами открыто декларируемого объективизма и столь же нарочитого писательского субъективизма, соединяя в своих исследованиях то и другое.
Результаты диссертационной работы имеют конкретное практическое значение. Они могут быть использованы как в учебных, так и в специальных вузовских лекционных курсах и семинарах по литературе XX века.
Основные положения диссертации прошли апробацию на аспирантских семинарах в Коломенском государственном педагогическом институте, были представлены в форме докладов на Международной научной конференции «А.С. Пушкин и В.В. Набоков» (Санкт-Петербург, 1999), на Болдинских чтениях (2000, 2001). По теме диссертации опубликованы 4 статьи.
Все цитаты из произведений Набокова, за исключением особо оговоренных случаев, даются по изданиям: 1) Набоков В.В. Собрание сочинений. Русский период: В 5 томах. - СПб.: Симпозиум, 1999 - 2000;
7 Набоков В.В. Комментарий к роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». - СПб., 1999. С. 166. Далее ссылки на комментарий даются по этому изданию следующим образом: (Комментарий, 166).
2) Набоков В.В. Собрание сочинений. Американский период: В 5 томах. - СПб.: Симпозиум, 1997 - 1999.
Произведения Пушкина цитируются по изданию: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 томах. - Л.: Наука, 1977 - 1979.
Образ творца: «Пророк» и «Приглашение на казнь»
В романах «Дар» и «Приглашение на казнь» «Пророк» оказывает влияние на развитие сюжета, образ главного героя и, в конечном итоге, на идею произведения (непосредственно связанную с набоковской философией творчества). Следует отметить, что Набоков в своём прочтении «Пророка» развивает сложившуюся до него «эстетическую» интерпретацию стихотворения, которая была определена ещё Вл.Соловьёвым: «пушкинский «Пророк» ... есть чистый носитель того безусловно идеального существа поэзии, которое было присуще всякому истинному поэту...»9.
Передавая особое мировосприятие Цинцинната, Набоков пользуется романтической антитезой: «Тупое «тут», подпертое и запертое четою «твёрдо», тёмная тюрьма, в которой заключён неуёмно воющий ужас, держит меня и теснит. ... Там - неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд ... , там всё поражает своей чарующей очевидностью, простотой совершенного блага...» (4,101). Здесь мы наблюдаем, как трансформируется пушкинский образ «духовной жажды» и «пустыни мрачной», которые являются непременными условиями бытия поэта. Обратим внимание на то, что в романе «Дар» одиночество и особость главного героя-поэта Фёдора Годунова-Чердынцева рождают в нём «постоянное чувство, что наши здешние дни - только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слёз счастья, далёких гор»10 (4,344). Эти родственные друг другу откровения набоковских героев обусловлены их общей поэтической природой, литературные корни которой в пушкинском «Пророке». Причём инобытие, как мы видим, Набоков связывает с категориями пространственными (там - тут, здесь - где-то), а не временными, что весьма важно для понимания набоковской художественной философии. Истинно поэтическая природа и является отличительной чертой героев Набокова - Цинцинната Ц. и Фёдора Константиновича Годунова-Чердынцева. О главном герое романа «Приглашение на казнь» и пушкинских началах его образа подробно и убедительно пишет А.А.Долинин. Исследователь отмечает, что «Цинциннат - как поэт, преодолевающий тоску и страх смерти, -соотнесён с высоким образцом, заданным биографией Пушкина, но - как условный литературный персонаж ... соотнесён с образами и героями пушкинских произведений», среди которых автор отмечает и стихотворение «Пророк»11.
Так, ряд аллюзий на пушкинское стихотворение в «Приглашении на казнь» напрямую свидетельствуют о поэтической сущности Цинцинната, тайна которого в «сверхчувственном прозрении мира», что, собственно, и даруется пушкинскому Пророку: «Я не простой... я тот, который жив среди вас... Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, - не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, но главное: дар сочетать всё в одной точке» (4,74). И пушкинский Пророк, и набоковский герой наделены нечеловеческими органами восприятия, а то, что в романе «Дар» названо «многоплановостью мышления» (или «космической синхронизацией» в автобиографической книге «Другие берега»), задано в «Пророке» многократной анафорой - союзом и, предполагающим равноправие и одновременность: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полёт, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье. (III, 304) «Огненный» глагол Пушкина отзывается в тех строках «Приглашения на казнь», где Цинциннат говорит о своей непохожести на других: «Нет, тайна ещё не раскрыта, - даже это - только огниво, - и я не заикнулся ещё о зарождении огня, о нём самом» (4,74). Упоминание божественного словесного огня возникает и в других строках романа: «особость» Цинцинната названа «преступным пламенем» (4,88), а рождение и жизнь поэтического слова представлены сравнением: «давно забыто древнее врождённое искусство писать, когда оно в школе не нуждалось, а загоралось и бежало как пожар...» (4,100). Попытки собственного словесного творчества Цинциннат передаёт в «огненных» лексемах: «...я и так слаб, а разжигаю себя, уничтожаю последние свои силы» (4,75). Огненная стихия представляется Цинциннату исконной: «Я исхожу из такого жгучего мрака ... , до сих пор ощущаю ... тот исконный мой трепет, первый ожог, пружину моего я» (4, 98 - 99). Мать Цинцинната, убеждённая в его несомненном духовном сродстве с безвестным отцом, говорит о безошибочном своём знании так: «Человек, который сжигается живьём, знает, небось, что он не купается у нас в Стропи» (4,127). Здесь мы наблюдаем, как Набоков, отталкиваясь от пушкинского образа поэтического дара как небесного, божественного огня, отражает в своём романе богатую литературную традицию в развитии мотива поэтического творчества как горения, а точнее самосожжения. Мы имеем в виду прежде всего стихотворение А.А.Блока «Как тяжело ходить среди людей...» (1910) из его книги «Страшный мир» (ср.: «Ошибкой попал я сюда ... в этот страшный, полосатый мир» - 4, 99), от которого - через эпиграф - тянется связующая нить к стихотворению А.А.Фета «Когда читала ты мучительные строки...» (1887) из книги «Вечерние огни»:
Природа творчества: «Пророк» и «Дар»
Похожий путь творческого становления (через интенсивную рецепцию Пушкина) проделывает и герой романа «Дар» - Фёдор Годунов-Чердынцев: до того как приняться за биографию отца, он «питался Пушкиным, вдыхал Пушкина» (4,280). Пушкинское стихотворение своеобразно отражается на страницах «Дара». Мотивы «Пророка» участвуют в формировании образа отца главного героя. Говоря о его литературных пристрастиях, Фёдор замечает: «Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина: он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декламировать. Мне иногда думается, что эхо «Пророка» ещё до сих пор дрожит в каком-нибудь гулко-переимчивом азиатском ущелье» (4,330). Здесь Набоков ставит рядом названия двух пушкинских стихотворений («Эхо» -«Пророк»). В этой контаминации он отражает внутреннюю полемичность пушкинского творчества и в то же время усиливает звуковую доминанту образа отца и поэзии Пушкина. На неё писатель указывает и в предложении: «С голосом Пушкина сливался голос отца» (4,280). Всё, что так или иначе связано с образами Пушкина и отца, имеет в романе звуковую, музыкальную семантику. Поэт Годунов-Чердынцев «вслушивается» в стихи, «пробует вполголоса». «Схема жизни отца», складывающаяся из документальных сведений о нём, воспринимается Фёдором Константиновичем на слух: «она ещё не поёт, но живой голос я в ней уже слышу» (4, 286). Придя к прозаическому творчеству, он стремится привнести в него музыкальность поэзии. В результате то, что в «Приглашении на казнь» присутствует в свёрнутом, зашифрованном виде, в «Даре» реализовалось открыто и в полной мере - это идея божественной сути отца поэта (равно как и Пушкина, и творческого дара). Истоки этой идеи - в пушкинском образе «Бога глас».
Предпринимая попытку биографии отца, Фёдор ведом одним желанием - постичь его тайну, которая в романе постоянно сопряжена с личностью и творчеством Пушкина. Как правило, речь идёт о тайном, зачастую пророческом знании, которому, по-видимому, была присуща тень пушкинского трагизма: «Тайне его я не могу подыскать имени ... оттого-то и получалось то особое - и не радостное, и не угрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств, - одиночество, в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи» (4,298). Здесь вспоминается известное письмо В.А.Жуковского к С.Л.Пушкину 15 февраля 1837 г., которое позже получило поэтическое воплощение. В письме поэт говорит о Пушкине, прозревшем по смерти некую тайну: «...что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! ... Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! Нет! Какая-то глубокая, удивительная мысль на нём развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание»24. Стоит отметить, что В. Д. Набокова, духовный облик которого нашёл своё отражение в образе отца Фёдора Годунова-Чердынцева, один из современников сравнил в некрологе именно с Пушкиным25.
Разгадка тайны отца и поэтического дара сына заключена, на наш взгляд, в эпизоде последнего прощания Фёдора с Константином Кирилловичем, отправляющимся в последнюю, ставшую роковой экспедицию: «Он Фёдор завернул в лес и тенистой дорогой ... дошел до любимой лужайки ... Божественный смысл этой лужайки заключался в её бабочках. Всякий нашёл бы тут что-нибудь. Дачник бы отдохнул на пеньке. Прищурился бы живописец. Но несколько глубже проникала в её истину знанием умноженная любовь: отверстые зеницы» (4,315). «Отверстыми зеницами» обладал отец поэта (ср.: отец гуляет по парку, «бессознательно, опытным взглядом ловца замечая всякое попадавшееся на пути насекомое» - 4,278), их унаследовал и сын: оказавшись на любимой лужайке «всё это живое, истинное, бесконечно милое Фёдор воспринял как бы мгновенно, одним привычным, глубоким взглядом» (4,316). Трактуя пушкинский образ, Набоков наполняет его своим пониманием, соприродным идее источника: тайна бытия открывается через любовь и знание, начало которых в умении видеть. Этот образ возникает и в аллегорической киргизской сказке, которую Фёдору рассказывает отец («человеческий глаз, хотящий вместить всё на свете» - 4,317), и в высказываниях вымышленного Набоковым французского философа Делаланда (в «Даре» Фёдор переводит его «Трактат о тенях», цитата из которого, в свою очередь, является эпиграфом к «Приглашению на казнь»). Разрешая важнейшую для себя проблему жизни и смерти, Набоков доводит заданный Пушкиным образ пророческой мудрости до философемы, из которой, на наш взгляд, и вырастает роман «Дар». Отрицая смерть, как и в «Приглашении на казнь», Набоков-Делаланд считает, что «по распаде тела» происходит «освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии» (4,484). Молодой писатель не случайно увлечён французским философом, т.к. многое в сочинении Делаланда близко мировоззрению самого Годунова-Чердынцева. Благодаря «отверстым зеницам», унаследованным от отца, Фёдор наделён способностью «многопланового мышления», напоминая в этом отношении своего литературного «предшественника» Цинцинната. Этот дар позволяет в одно мгновение связывать разные точки пространства, синтезировать временные пласты настоящего и прошлого, предугадывая будущее. Силой своего дара поэт способен упразднить время. Это свойство поэтической натуры описано в статье «Пушкин, или Правда и правдоподобие» в виде интересного наблюдения: «...когда вдруг замечаешь на улице ребёнка, удивлённого каким-нибудь происшествием, которое он когда-нибудь обязательно вспомнит, возникает чувство сопричастности времени, поскольку ты ведь видишь этого ребёнка накапливающим воспоминания для будущего, которое он уже сам представляет»27.
Организуя таким образом жизненное пространство, герой и автор романа «Дар» Фёдор Годунов-Чердынцев подчиняет подобной организации пространство художественное. Само произведение можно рассматривать как «одно свободное сплошное око», вместившее в себя историю русской литературы в её субъективном восприятии (от Пушкина до современной Набокову поэзии, прозы, драматургии и критики), любовный роман (Фёдор и Зина Мерц), историю одной семьи (эмигранты Чернышевские), пародийную «биографию романсэ» Н.Г.Чернышевского, зачатки будущих тем Набокова (в частности, «Лолиты»).
Особого рода дар позволяет Фёдору разглядеть «узоры судьбы» и становится в романе основой для поэтического пророчества, которое обладает здесь множеством значений. Это и прозревание-воспоминание Фёдором своих новых творений: «Я как будто помню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чём будут они»; «с самого начала образ задуманной книги представлялся ему необыкновенно отчётливым по тону и очертанию» - 4,374 (подчёркивается «зримое» начало словесного произведения).
Значение проблематики «Моцарта и Сальери» в творчестве Набокова
Философ и литературный критик Русского Зарубежья Г.П. Федотов в своей статье по поводу книги Набокова «Николай Гоголь» (1944) подвергает сомнению тот будто бы односторонний подход писателя к гоголевскому творчеству, при котором отрицание «человечески-нравственного содержания Гоголя обессмысливает и его искусство, и его судьбу». Главный аргумент Федотова заключался в том, что «искусство -почти всегда - вырастает из той же глубины, что и нравственная жизнь»48. Набоковский в корне нетрадиционный подход к русской классике, продемонстрированный им не только в названной книге, но и в других работах по русской и зарубежной литературе, отражал прежде всего принципы его собственной поэтики. Подобного рода позиция по отношению к творчеству Набокова - явление довольно симптоматичное для большинства прижизненных критических работ, а также для ряда современных нам литературоведческих исследований. Проблема соотношения этических и эстетических начал в произведениях Набокова находится в тесной связи с их характерной, по мнению критиков, особенностью, которая была названа Г.В. Адамовичем «глубокой нерусскостью». Её причины недоброжелатели Набокова видели в свойственной его произведениям блестящей форме и полном отсутствии духовно-нравственной опоры. Однако истинные причины кроются в художественных установках писателя, для которого феномен искусства -явление исключительно эстетического порядка, а также в индивидуальной семантике понятий мораль, нравственность, этика в ряду художественных ценностей Набокова. Писатель изначально отрицал вспомогательную, второстепенную роль литературы, навязывание не свойственных ей функций - решения социальных вопросов или нравственного усовершенствования общества. Однако это не означает, что Набоков сознательно исключил из своего творчества этическую проблематику. Он перевёл её в сферу философско-эстетическую и применил к вопросам морали прежде всего художественные критерии. «Очень талантливо, но неизвестно для чего», - такой упрёк неоднократно звучал в адрес набоковских произведений, так как они «никуда читателя не зовут и душевного, эмоционального трепета не вызывают»49. Оппоненты Набокова, трактовавшие его творчество в духе утилитарных представлений о назначении литературы, в итоге констатировали оторванность писателя от русской литературной традиции. В критике не предпринималось попыток, за редким исключением, рассмотреть произведения Набокова в связи с этико-эстетическими убеждениями Пушкина. Набоков неоднократно подчёркивал свою генетическую связь с Пушкиным в решении вопроса о назначении поэзии, будь то цитатный пласт романов или открытые высказывания более позднего периода. Мысль Пушкина о том, что поэзия «по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя» (VII, 168), становится для Набокова прежде всего нравственным императивом. Стихотворения «Поэт и толпа» (1829), «Из Пиндемонти» (1836), трагедия «Моцарт и Сальери» (1830) с их ведущими мотивами внеутилитарности искусства, его самоценности присутствуют в романах Набокова в форме многочисленных цитат, аллюзий, реминисценций. В данной главе мы остановимся на связи набоковского творчества с пушкинской трагедией «Моцарт и Сальери», проникновение которой в романы писателя представляется наиболее активным и плодотворным. О настойчивом интересе Набокова к пушкинской трагедии свидетельствует также сборник "Three Russian poets" (1944), в который вошёл набоковский перевод «Моцарта и Сальери» на английский язык, осуществлённый в соавторстве с американским критиком и писателем Эдмундом Уилсоном.
В данной главе мы ставим следующие задачи: 1) проследить, как трансформируются в ряде произведений Набокова фундаментальные понятия пушкинской трагедии, в частности, творчество-ремесло, цель и назначение искусства, «гений и злодейство», два типа художника; 2) рассмотреть, как реализуются в набоковском творчестве смысловые потенции, содержащиеся в пушкинском произведении.
Набоковское творчество в силу главной его проблематики -уникальный мир творческого сознания - неизбежно оказывается связанным с идейным содержанием пушкинской трагедии. Предметом нашего анализа являются три романа Набокова - «Отчаяние», «Дар» и «Лолита». Однако сфера влияния пушкинского произведения на произведения писателя значительно шире. Уже в первых русских романах Набокова сочувствующая критика (в частности, Вл. Ходасевич) определила их тематическую доминанту - жизнь художника, поскольку Ганин, Лужин, Драйер, Мартын Эдельвейс обнаруживают творческое отношение к действительности, свойственный подлинным художникам просветлённый, всё преображающий взгляд на мир. Однако их сознание неизбежно приходит в столкновение, с одной стороны, с пошлостью и непониманием, а с другой, с противоположным по своей сущности творческим мировосприятием, что и составляет одну из ведущих коллизий романов Набокова. Всё вышесказанное позволяет, на наш взгляд, рассматривать трагедию «Моцарт и Сальери» как претекст, а заглавную оппозицию как архетипичный образ по отношению к художественному миру Набокова. Пушкинское произведение Набоков актуализирует по-своему - в первую очередь через проблему этических границ искусства.
Впервые образ пушкинской трагедии явственно проступает в романе «Защита Лужина», где детство героя в мечтах его отца соотнесено с «гениальным» детством Моцарта. Сюжетная реализация предугаданной в начале романа судьбы становится своего рода развёрнутым определением понятия гений, которое понимается Набоковым в рамках устоявшейся традиции как некое равновесие, гармоничное слияние двух форм существования художника - человеческого бытия и боговдохновенного творчества. Нарушение этого равновесия - трагическую судьбу Лужина -и исследует набоковский роман. Кроме того, он содержит пушкинскую коллизию - противостояние-соперничество творческих натур Лужина и его шахматного противника Турати, Лужина и его злого гения -импресарио Валентинова.
Диалог и полемика
Среди пушкинских произведений, которые Набоков цитирует, к которым обращается явно и неосознанно, на уровне генетической памяти, центром притяжения является роман «Евгений Онегин». Можно сказать, что под знаком главного пушкинского произведения прошло всё романное творчество Набокова, как русско- так и англоязычное. В диалог с «Евгением Онегиным» Набоков вступает уже в первом своём романе «Машенька», в эпиграфе к нему: «Воспомня прежних лет романы, / Воспомня прежнюю любовь». Писатель в своём произведении по существу развивает микросюжет, заключённый в пушкинском романе в форму лирического отступления, создавая на основании его завершённое художественное целое. Тем самым Набоков демонстрирует свойственную его творческой манере способность развития отдельного мотива (в данном случае важнейшего для всего последующего творчества писателя мотива воспоминания). К настоящему времени существует обширнейшая литература по данному вопросу. Онегинскому пласту в первом романе Набокова посвящена глава в книге Н. Букс «Эшафот в хрустальном дворце», где исследовательница основное внимание сосредотачивает на строфе L (глава первая), давшей эпиграф и внутренний сюжет роману «Машенька». Показательно, что на основании той же L строфы В.П. Старк выстраивает свою работу о подтекстовых перекличках «Евгения Онегина» с другим набоковским произведением - романом «Подвиг» (1931 - 1932). Исследователь видит здесь не только развитие мотива воспоминания, но и идеи «поэтического побега», называя отмеченное свойство набоковского творчества «гиперболизацией одного сюжета» . Подобное, неожиданное на первый взгляд «привязывание» разных набоковских произведений к одной и той же пушкинской строфе, как нам кажется, довольно показательно и объяснимо, прежде всего, значимостью данного лирического отступления для раскрытия ведущих тем творчества Набокова. Такие настойчивые отсылки в первую очередь проясняют типологию его героев. Перед нами не просто герои-художники. Это те самые многочисленные бездомные скитальцы русской литературы, которые, по утверждению Ф.М. Достоевского, ведут свою генеалогию от Онегина и, добавим, от того образа автора, который присутствует в первой главе пушкинского романа и сливается с героем в общем желании:
Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег Мне неприязненной стихии Онегин был готов со мною Увидеть чуждые страны... (V, 25-26) Набоковские центральные персонажи обнаруживают свои литературные корни в пушкинском романе. Они находятся в непрестанном поиске аутентичности и обретают её, в отличие от Онегина, в сфере творчества. Ганин («Машенька»), Лужин («Защита Лужина»), Цинциннат Ц. («Приглашение на казнь»), Мартын Эдельвейс («Подвиг»), Фёдор Годунов-Чердынцев («Дар») в определённый момент жизни в той или иной мере испытывают онегинское пробуждение от сна жизни. Знаменательны в этом отношении названия трёх набоковских романов, обозначивших собой важные творческо-биографические вехи писательской судьбы: «Машенька» (русский период), «Лолита» (англоамериканский), «Ада» (швейцарский). Выбор женского имени в качестве названия произведения не нов в литературе. Достаточно вспомнить известные в русской литературе произведения «Бэла» и «Княжна Мери» Лермонтова, «Ася» Тургенева, «Неточка Незванова» Достоевского, «Анна Каренина» Толстого. В случае пушкинско-набоковских параллелей это явление важно потому, что женские образы создают смысловой центр произведения и именно некий женский идеал оказывается мерилом духовной состоятельности героя-мужчины. Данный нравственный критерий, ставший одной из составляющих русской литературной традиции, закреплён, как известно, пушкинским романом. Однако в набоковском творчестве происходит преодоление мощного литературного влияния, что заключается в первую очередь в реабилитации героя-мужчины, окончательно дискредитированного духовным превосходством героини-женщины, сведённого до статуса «лишнего человека». В романах, названных женскими именами, у Набокова в центр повествования парадоксально выдвигаются персонажи-мужчины, что свидетельствует о возвращении писателя к пушкинским истокам: Пушкина интересовал незаурядный, духовно многогранный герой.
В художественном мире Набокова известные литературные типы претерпевают всевозможные метаморфозы и трансформации. Пушкинское начало приобретает здесь неожиданные формы. Так, тип Ленского, на наш взгляд, по-своему преломляется в первом абсолютно «нерусском» по топосу и персонажам романе Набокова «Король, дама, валет». Курт Драйер в какой-то степени унаследовал черты Ленского и воплотил собой возможный вариант его судьбы, предложенный Пушкиным. Это поэт и делец одновременно, он в полной мере «счастлив и рогат». Демон Вин в романе «Ада» - трансформация образа Онегина. Имя героя и данная ему однажды характеристика («он законченный сумасшедший - ни места, ни занятий в жизни, далеко не счастливый, с безответственной философией»66) являются, на наш взгляд аллюзией на строфу XII главы восьмой «Евгения Онегина»: Несносно ... Прослыть притворным чудаком, Или печальным сумасбродом, Иль сатаническим уродом, Иль даже демоном моим Томясь в бездействии досуга Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел. (V,146-147) В названных нами произведениях наблюдается важная особенность: ведущие сюжетные линии романов «прорастают» из пушкинского творения. Любовный треугольник у Набокова сродни пушкинскому по своей безысходности и неразрешимости. Любовь как катарсис, на что указывала Н. Берберова в статье «Набоков и «Лолита»67, всё более занимает писателя. Достигнув своего апогея в «Лолите», данный мотив сохраняет свой накал и в более позднем романе «Ада».