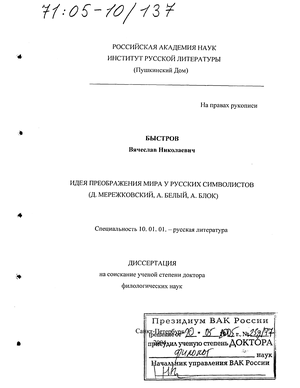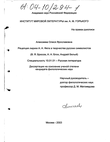Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Между утопией и трагедией. Идея обновления мира у Д. Мережковского и А. Белого 50
Глава вторая. Идея преображения мира в сознании и творчестве А. Блока
I. Грани утопии (1898-1904) 166
II. Грани реальности и мятежи духа (1904-1909) 197
III. Грани трагедии (1910-1921) 264
Заключение 356
- Между утопией и трагедией. Идея обновления мира у Д. Мережковского и А. Белого
- Грани утопии (1898-1904)
- Грани реальности и мятежи духа (1904-1909)
- Грани трагедии (1910-1921)
Введение к работе
Проблема пересоздания действительности была одной из центральных в русской литературе конца XIX - начала XX века. Она приобрела универсальный характер, во многом обусловливая само существо художественного сознания эпохи, его склонность к переосмыслению мироустройства, размыванию устоявшихся понятий, представлений, к пророчествам, катастрофизму, духовному бунтарству.
Для всех русских символистов идея радикального обновления мира была чрезвычайно важной. Своеобразно реализуясь в их жизни и творчестве, она нашла многозначное преломление. Это - некий «фокус», к которому сходилось множество разнородных «лучей», линий (из сфер искусства, философии, историософии, социологии, политики, мистики, религии и т.д.). Процесс постижения эмпирической реальности и глубинной сущности жизни - это ступень в напряженном усилии обновить их. Идея преображения мира - одна из ключевых с точки зрения истолкования символизма как особого мировосприятия, а не как литературной школы с ее эстетическими канонами; она была «ядром» символистского миропонимания. С. Булгаков, подспудно учитывая, в частности, и эволюцию русского символизма, так определял незыблемую, идеальную сущность искусства: «Искусство не имеет дела с утилитарными оценками этого мира, ибо оно зачаровано красой иного, горнего мира и стремится сделать ее ощутимой. Оно показывает то, чего жаждет и о чем тоскует душа, яв-
ляя тварь в свете Преображения. Его голос есть как бы зов из другого мира, весть издалека.<...> Всякое истинное произведение искусства есть в этом смысле некое чудо... <...> Искусство... остается залетным гостем в этом мире, который оно только тревожит вестью о мире ином».1 По мысли С. Булгакова, верховная задача искусства - «просветлять материю красотой, являя ее в свете Преображения...». Русские символисты стремились возвести эту природную сущность искусства в абсолютный, всеобъемлющий творческий закон (в том числе и на бытийно-бытовом уровне).
Под «идеей преображения» в данной работе понимается некое умозрительное представление (или, используя выражение А. Белого, некая «текучая представляемость»), нечто рациональное и в то же время внерациональное, доминирующее порой не только на уровне сознания, мышления, но и на уровне чувств, эмоций. «...Понятие не идея, - образно формулировал А. Белый в эссе «Окно в будущее» (1904). - Идея может соприкасаться с понятием, как касательная с окружностью, в одной только точке. Эта возможность мимолетного касания - источник вечных заблуждений, потому что идею смешивают с понятием. <...> Изумленно видишь там, где еще недавно понимал. Среди равномерно озаренной поверхности мышления образуется пролет, откуда начинает бить световой сноп».
1 Булгаков С. Искусство и теургия // Русская мысль. 1916. Декабрь. Кн. XII.
Отд. II. С. 2, 3.
2 Там же. С. 4.
3 Андрей Белый. Арабески. М., 1911. С. 139 (курсив - А. Белого).
Пути к ожидаемому совершенству, к всемирной гармонии были для русских символистов различными, в зависимости от того, в какой плоскости они им виделись: в земной (слом социального уклада, восстание, революция, влияние на людей средствами искусства и т.д.) или метафизической (апокалипсический «конец мира», мгновенное чудесное превращение, «прыжок над историей», всемирная «религиозная революция» и т.д.). Эти разнородные пути в сознании русских символистов были динамично взаимосвязаны.
Диапазон личностных проявлений подобных устремлений художников в различных сферах был очень широк:
от неприятия конкретного уклада жизни до «неприятия мира»;
от социального протеста до чаяния революции всемирного, вселенского масштаба;
от критики позитивизма до мистического постижения идеальных сущностей бытия;
от отрицания традиционной церковности, религиозных канонов и догматов до призывов к «новой религии», «новому религиозному сознанию»;
от неприятия утилитаризма и приземленного реализма в творчестве до попыток создать искусство будущего.
Работ, непосредственно соприкасающихся с данной темой, сравнительно немного. Можно выделить следующие: первые разделы монографии В.А. Сарычева «Эстетика русского модернизма. Проблема «жизнетворчества»», книгу А. Эткинда «Хлыст. Секты, литература и революция», статьи З.О. Юрьевой, А. Хан-
сена-Лёве, З.Г. Минц, Ольги Матич, П.П. Гайденко.4 Проблема восприятия символистами идеи Преображения мира фигурирует в них, как правило, в качестве локальной, сопутствующей в ряду других проблем. В исследовании впервые предлагается целостное, всестороннее рассмотрение аспектов, связанных с идеей Преображения мира.
Первыми в России о решительном перерождении бытия, человека и искусства заговорили в 1890-е годы «декаденты», «самозародившиеся мистики» (Д. Мережковский). По образно-аллегорическому определению одного из них, К. Бальмонта, это «люди, которые мыслят и чувствуют на рубеже двух периодов, одного законченного, другого еще не народившегося. Они видят, что вечерняя заря догорела, но рассвет еще спит где-то за гранью горизонта; оттого песни декадентов - песни сумерек и ночи. Они развенчивают все старое, потому что оно потеряло душу и сделалось безжизненной схемой. Но, предчувствуя новое, они, сами выросшие на старом, не в силах увидеть это новое воочию, - потому в их настроении, рядом с самыми восторженными вспышками, так много самой больной тоски».5 Отсюда - изначальная
4 См.: Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. Проблема «жизнетворче-
ства». Воронеж, 1991. С. 3-139; Хансен-Лёве Л. Концепции «жизнетворчест-
ва» в русском символизме начала века // Блоковский сб. Вып. XIV. Тарту,
1998. С. 57-85; Его же. Русский символизм. СПб., 1999. С. 368-417; Эткинд А.
Хлыст. Секты, литература и революция. М., 1998. С. 8-453; Юрьева 3.0. Анд
рей Белый: преображение жизни и теургия // Русская литература. 1992. № 1.
С. 58-68; Ее же. Творимый космос у Андрея Белого. СПб., 2000;. Минц З.Г.
«Новая жизнь» // Минц З.Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. С. 320-
332; Матич Ольга. Христианство Третьего Завета и традиция русского уто
пизма // Д.С. Мережковский: мысль и слово. М., 1999. С. 106-118; Гайденко
П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М., 2001. С. 15-36,
323-436.
5 Бальмонт К.Д. Горные вершины. М., 1904. С. 78.
двойственность мировоззрения «декадентов», их склонность если не «смоделировать» в своем воображении неведомый образ «нового мира», то, по крайней мере, возвестить о его неминуемом приближении. Двойственность заключалась и в том, что «декаденты», устремляясь к будущему, хотели обрести новое качество, как бы отрекаясь от своей исконной природы, видя в символистском творчестве (в самом широком смысле) некую панацею. «...Символизму есть выход и к жизни, и к природе, и к общественности, - писал позднее Вл. Гиппиус. - Декадентство - крайнее самоутверждение личности, угрюмо-эстетическое, совершенно замкнутое. Это предел всякого самообособления...».7 Стремление к самообособлению было вызвано попытками создать, или воссоздать, иное мироздание, иной лик мира.
Очевидно, что русскому символизму было органически присуще, уже в его истоках, неоромантическое противостояние действительности, принимавшее достаточно радикальные формы. «...Ощутить себя и мир по-новому, - считал Вяч. Иванов, - вот в чем «переоценка ценностей», необходимая для нашего духовного
6 Примечательно, что Д. Мережковский позднее, преодолев многие крайно
сти и условности «декадентства», утверждал: «Русские декаденты - первые
русские европейцы, люди всемирной культуры, достигшие тех крайних вер
шин ее, с которых открываются неведомые дали будущего...» (Мережковский
Д., Гиппиус 3., Философов Д. Царь и Революция. М., 1999. С. 178).
7 Гиппиус Вл. Александр Добролюбов // Русская литература XX века. 1890-
1910. М., 1914. Т. 1.С. 272. Симптоматично, между тем, что даже в 1910-е
годы Вл. Гиппиус выражал сомнение в том, что символизм до конца преодо
лел, перерос «декадентство»: «Декадентство теперь уже забыто. Его отменил
символизм. Преодолел? Все декадентские томления? <...> То, чем отличается
символизм от декадентства, в том слабость символизма, а не сила - именно
потому, что преодоления не совершилось. <...> Это не два разные
мировоззрения <...> - но два разные жизненные требования» (Гиппиус Вл. О
самом себе // Петрополь. Литературная панорама. 1993-1996. СПб., 1996. С.
129; подгот. текста Евг. Биневича; курсив - Вл. Гиппиуса).
освобождения». «Не любите жизнь таковой, как она есть, - призывал Ф. Сологуб, - потому что в общем своем течении современная жизнь вовсе не стоит этого. Жизнь требует преобразования в творческой воле. В этой жажде преобразования искусство должно идти впереди жизни, потому что оно указывает жизни прекрасные идеалы, по которым жизнь имеет быть преобразована...» Близкий к символистам Г. Чулков высказывался еще категоричнее: «Я думаю, что пафос символизма, как мироотношения, заключается прежде всего в том, что человек, который стоит на точке зрения символизма, переоценивает данную нам действительность, переоценивает не в зависимости от внешних данных пространства и времени, а переоценивает по существу. <...> Эта переоценка есть мятеж, есть бунт в глубоком и таинственном значении этого слова. Дело в том, <что> успехи символизма, как эстетического явления, ровно ничего не доказывают, если жизнь не изменится. <...> Ведь символизм это — пафос, это - дерзание. Жизнь должна быть дерзанием, должна быть мятежом».10 В. Брюсов в одном из писем к Горькому предельно резко заявлял о своем неприятии существующего миропорядка: «Его я ненавижу,
8 Иванов В. По звездам. Опыты философские, эстетические и критические.
СПб., 1909. С. 59. Ср. его выраженную почти тогда же мысль о перманент
ном, активном, порой воинственном противостоянии существующей действи
тельности, пример которого он усматривал в образе Дон-Кихота: «Ново
дерзновение противопоставить действительности истину своего мироутвер-
ждения. Если мир не таков, каким он должен быть, как постулат духа, - тем
хуже для мира, да и нет вовсе такого мира. Дон-Кихот не принимает мира,
подобно Ивану Карамазову...» (Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 51; курсив -
Вяч. Иванова). Эллис, постоянно разрывавшийся между желаемым и реаль
ным, в своем дневнике откровенно писал: «Все-таки я обязан любить внеш
ний мир, который я, как заклятый враг жизни, презираю» (Писатели символи
стского круга. Новые материалы. СПб., 2003. С. 336).
9 Символисты о символизме. // Заветы. 1914. № 2. Отд. П. С. 77.
ненавижу, презираю. Лучшие мои мечты о днях, когда все это будет сокрушено»."
Отказ от адекватного восприятия действительности, вера в существование иной, идеальной, сферы естественно предполагали воссоздание в художественных формах неких «реальнейших» (Вяч. Иванова) миров, которые просвечивают сквозь бренную земную оболочку и которые видимы внутреннему взору лишь немногих избранных. В этом, как известно, состоит одна из принципиальных особенностей символистского искусства. Созданная воображением художника-демиурга «другая реальность» является идеализированной антитезой действительности. Писатель-символист по преимуществу творит как бы на границе двух разных миров. Так обстоит дело с точки зрения символистской эстетики, связанной с довольно отвлеченными формами сознания.
Однако русскому символизму (прежде всего в лице Мережковского, 3. Гиппиус, Н. Минского, Вяч. Иванова, А. Белого, Блока) всегда было присуще стремление вырваться за рамки са-
10 Там же. С. 78-79, 80.
" Лит. наследство. Т. 27-28. М., 1937. С. 642.
12 Ср. характерные строки в стихотворении Эллиса, посвященном Андрею
Белому:
И много ты страдал, от грезы пробужден,
И мыслью ко кресту не раз был пригвожден;
Но, в купол вечности вперяя взор лучистый, Ты горних ангелов внимал напев сребристый,
В полете горлинок и в шуме сизых крыл Ты очертания иной страны ловил,
(Эллис. Неизданное и несобранное. Томск. 2000. С. 397; подг. текста С.Н. Мироненко; курсив - Эллиса).
моценной, самодостаточной эстетики, он упорно претендовал на нечто большее.
«Являясь самой последней и самой совершенной формой искусства, - декларировал, к примеру, фанатичный апологет символистского творчества Эллис, - символизм, и только символизм, являет собою уже и нечто большее, чем искусство, представляя собой первую, новую форму иного состояния сознания человечества, новую форму проявления современной сложной и тонкой общей души и первый намек на еще более совершенные стадии ее эволюции в будущем».13
Идеи жизнестроительства, «жизнетворчества» (часто с отчетливым оттенком мессианства) составляли существенную часть философии и художественной практики символистов. Так, А. Белый неоднократно подчеркивал: «...Я, как символист, если не являюсь социальным реформатором (вернее - преобразователем), -не символист, а субъективист...»14; «Конкретизация символизма -творчество самой новой жизни».15
13 Эллис. Культура и символизм // Эллис. Неизданное и несобранное. С. 173-
174. Л. Белый в статье «Об итогах развития нового русского искусства»
(1907) высказывал аналогичное суждение: «Символизм подводит искусство к
той роковой черте, за которой оно перестает быть только искусством; оно
становится новой жизнью и религией свободного человечества. <...> Важно
то, что оно стремится стать нормой будущей гармонии, открыто и резко
протестуя против форм современной жизни...» (Андрей Белый. Арабески. С.
260, 261; курсив - А. Белого). С полным основанием 3.0. Юрьева отмечала,
размышляя о теургическом аспекте творчества А. Белого: «Белый стремится
во что бы то ни стало вывести искусство за іраницьі одних только «эстетиче
ских» требований, связать его с «высшим творчеством» - творчеством Бога»
(Юрьева 3.0. Указ. статья. С. 62). Ср. также в статье Вяч. Иванова «Заветы
символизма» (1910): «...Символизм не хотел и не мог быть «только искусст
вом»» (Иванов В. Борозды и межи. М., 1916. С. 137).
14 Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 430.
15 Там же. С. 447.
Безусловно, идея пересоздания, коренного обновления мира была одной из вдохновляющих сил не только у символистов, но и у их предшественников. «Русская литература XIX столетия, - полагал А. Белый, - сплошной призыв к преображению жизни. Гоголь, Толстой, Достоевский, Некрасов - музыканты слова; но безмерно более они - проповедники; и музыка их слов — лишь средство воздействия». Самым явственным в этом смысле было мощное влияние Вл. Соловьева, развивавшего в своем творчестве идеи «Богочеловека» и «Богочеловечества», «свободной теократии», всемирной Церкви, «софиологию», древнее учение о Душе мира как гармонизирующем начале, эсхатологическую идею «конца всемирной истории», «конца света», новозаветные предания о грядущем явлении Антихриста, о новом пришествии Христа и т.д.17 Толчком к радикальной переоценке ценностей для Вл. Соловьева еще в юности также послужило решительное неприятие установившегося миропорядка. «С тех пор, как я стал что-нибудь смыслить, - признавался он в одном из писем, - я сознавал, что существующий порядок вещей (преимущественно же порядок общественный и гражданский, отношения людей между собою, определяющие всю человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не таков, каким должен быть... <...> Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. Я не признаю существующего зла вечным; я не верю в черта. Сознавая
16 Там же. С. 351.
17 Подробнее об этом см. раздел IV в книге П.П. Гайденко «Владимир Соловь
ев и философия Серебряного века» (С. 323-406).
необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено. Но самый важный вопрос: где средства?» Этот принципиальный соловь-евский вопрос можно сформулировать и по-другому: по каким законам нужно творить личную и общечеловеческую жизнь, новый мир?
Одним из главнейших средств воздействия на ущербное состояние мира Вл. Соловьев считал искусство. «Совершенное искусство в своей окончательной задаче, - убеждал он, - должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, айв самом деле, - должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь. Если скажут, что такая задача выходит за пределы искусства, то спрашивается: кто установил эти пределы?»19 Отметим, что русские символисты, сознавая значимость вопроса о границах искусства (одна из статей Вяч. Иванова так и называется: «О границах искусства»), с самого начала склонны были максимально их расширить, пытаясь придать своему творчеству проповеднический, пророчественный характер, а порой и элементы действенного магизма.20 Достаточно лаконично и точно опре-
18 Соловьев B.C. Письма. СПб., 1911. Т. 3. С. 87-88 (курсив - Вл. Соловьева).
19 Соловьев B.C. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1911-1913. Т. 6. С. 90. Ср. утвержде
ние Вяч. Иванова: «Вл. Соловьев ставит высшею задачей искусства задачу
теургическую. Под теургическою задачей художника он разумеет преобра
зующее мир выявление сверхприродной реальности и высвобождение истин
ной красоты из-под грубых покровов вещества» (Иванов В. По звездам. С.
284). Подробнее о воплощении идеи преображения жизни в творчестве Вл.
Соловьева см.: Сарычев В.А. Эстетика русского модернизма. Проблема жиз-
нетворчества. С. 7-21.
20 Примечательно в связи с этим, что С. Булгаков, обобщая свои размышления
об отношении идеалов искусства к действительности, подчеркивал:
делил одну из главных черт Вл. Соловьева А. Гизетти: «Мечта... о том, что мир должен и может весь стать иным и уже становится иным, творческая мечта о преображении мира, слившая в грандиозный синтез и моральное обновление личности, и преобразование общественных отношений, и могучий подъем человеческой воли, и эстетическое просветление всей жизни, - словом, полное изменение человеческого жизнеощущения и жизненного уклада, -составляет «душу живу» миросозерцания Соловьева.
Сам Соловьев, в согласии со своими религиозными верованиями, приурочивал это преображение к мистической катастрофе второго пришествия Христа...»21
Идеи Вл. Соловьева о грядущем перерождении мира, о преобразующем потенциале искусства наиболее ощутимое воздействие оказали на Мережковского, Вяч. Иванова, Блока, А. Белого,
«...Искусство, помимо царственного своего призвания, таит в себе еще и другое сознание - своего бессилия. Оно знает свою границу и свою относительность и всегда должно ее ощущать. <...> И не есть ли красота - сладкая иллюзия, а поэзия - грёза, если искусство только волнует и манит к прекрасному среди непрекрасной жизни, утешает, а не преображает? Из этого самосознания рождается космоургическая тоска искусства, возникает жажда действенности: если красота некогда спасет мир, то искусство должно явиться орудием этого спасения. <...> Искусство хочет стать не утешающим только, но действенным, и не символическим, но преображающим» (Булгаков С. Указ. статья. С. 7, 8, 9). Ср., к примеру, о «магизме» художников высказывание Вяч. Иванова: «Чары волшебников обратили всю вселенную в одну иллюзию» (Иванов В. Кризис индивидуализма // Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 51). Ср. также: «Лирический субъект в поэзии символистов часто выступал как демиург, «заклинающий хаос», преобразующий мир собственной творческой энергией» (Дождикова Н. А. А. Блок и революция 1905 г. (О генезисе темы «интеллигенция и народ» в поэтическом сознании А. Блока) // Русское революционное движение и проблемы развития литературы. Л., 1989. С. 10. 21 Гизетти А. О миросозерцании Владимира Соловьева // Заветы. 1914. № 2. Отд. II. С. 147 (курсив - А. Гизетти).
С. Соловьева. Не без явного влияния Вл. Соловьева Вяч. Иванов и А. Белый воспринимали теургию (синтез мистики, религии и искусства, «действие, отмеченное печатью божественного Име-ни» ) как самый плодотворный для художника путь к преображению мира и человека. По словам исследователя данной темы, «Андрей Белый, как ученик Соловьева, позаимствовал у него не только термин, но, главное, веру в преображающую силу искусства, в обоюдную близость религиозной и эстетической сферы творчества».
Один из родоначальников русского символизма Н. Минский не испытал сколько-нибудь серьезного влияния религиозно-философских концепций Вл. Соловьева. Однако уже в его раннем творчестве явственно обозначилась свойственная неоромантикам «полная разочарованность в земном и тоска по неземному»25; наиболее наглядный пример - программное, значимое для нарождающегося символизма стихотворение «Как сон, пройдут дела и помыслы людей...» (1887):
Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном, -
Тоска неясная о чем-то неземном, Куда-то смутные стремленья,
Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет
22 Вяч. Иванов в статье «Религиозное дело Вл. Соловьева» (1913), в частно
сти, отмечал (может, несколько категорично, но во многом справедливо):
«...Само понятие «нового религиозного сознания» идет от Вл. Соловьева, -
как от него же идут и все другие лозунги и определения наших позднейших
религиозных исканий» (Иванов В. Борозды и межи. С. 103).
23 Там же. С. 220.
24 Юрьева 3.0. Указ. статья. С. 58.
25 Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.-Л., 1960-1963. Т. 5. С. 283. Далее ссылки на
это издание даются в тексте с указанием в скобках тома и страницы.
И жажда жгучая святынь, которых нет, -Одно лишь это чуждо тленья.
Но всех бессмертней тот, кому сквозь прах земли Какой-то новый мир мерещился вдали —
Несуществующий и вечный, Кто цели неземной так жаждал и страдал, Что силой жажды сам мираж себе создал Среди пустыни бесконечной. Неслучайно А. Блок в статье «Письма о поэзии» (1908) особо отметил, что "жажда святынь, которых нет", - "лозунг целой большой эпохи..." (Т. 5. С. 284). Вероятно, он имел в виду не только эпоху становления русского символизма (1890-е годы), но и период начала XX века. Мечта о небывалом "новом мире" существовала в сознании Н. Минского как манящая воображаемая цель. Максимализм устремлений, бесспорно граничащий с утопизмом, заключался в том, что он внутренне был готов признать его недостижимость в эмпирическом мире. Идеал изначально принимал крайне смутный, запредельный, неземной характер, представая то ли миражом, то ли фикцией, фантомом. Созерцательность, умозрительность и "духовная жажда" не подкреплялись пока волевыми усилиями, попытками если не влиять на реальность, то хотя бы обозначить направление творческих поисков. Подобное мистическое умонастроение Н. Минского в то время нашло декларативное отражение в философском трактате «При свете совести» (1890), в котором он представил свою доктрину "мэонизма" (от греч. "мэон" -
"несуществующее", "небытие"). Это были, по позднейшему признанию Н. Минского, поиски "храма над пустотой". В основе учения лежали идеи постижения каким-то внутренним взором, мистическим разумом вечной тайны Бога, ирреальных миров. «Разве мы не видим, - постулировал автор, - что душа вечно порывается из оков уже изведанного, испытанного куда-то в даль, в мир невозможный, несбыточный, но единственно желанный? Очевидно, душе врождено понятие о какой-то горящей вне нас конечной, негаснущей цели, к которой она и рвется и в сравнении с которой земные, временные цели кажутся ей тусклыми и ничтожными. <...> И не только мы, но весь мир своим движением и стремлением к развитию свидетельствует о внутренней необходимости отрицать себя, о желании вырваться из своих форм, перестать быть тем, чем он есть, и стать чем-то иным. <...> Идеалы суть явления, хотя они существуют не в прошлом, а в будущем и лишь предчувствуются мечтой. К достижению идеала можно стремиться; если говорят, что идеал недостижим, то это нужно понимать лишь в том смысле, что когда манивший нас идеал достигнут, впереди за ним загорается новый манящий светоч».26 В восприятии поэта-философа призрачный, неосязаемый мир является вечным, едва ли не более реальным, чем окружающая действительность. 7 По крайней мере, душа его живет в ожидании соприкосновения с вечными «мирами иными», взаимосвязь которых с земным он способен ощущать.
26 Минский Н. При свете совести. Изд. 2-е. СПб., 1897. С. 94-95, 193.
27 Ср. в стихотворении В. Брюсова «Есть что-то позорное в мощи природы...»
(1896): «Настанет день конца для вселенной, // И вечен только мир мечты».
Предельно близки такому мировосприятию некоторые «декадентские» мотивы ранней лирики 3. Гиппиус. В намеренно эпа-тажном стихотворении «Песня» («Окно мое высоко над землею...», 1893) она прямо пишет о своих необычных чаяниях:
Но сердце хочет и просит чуда, Чуда!
О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает: Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает,
Но плачу без слез о неверном обете, О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете, Чего нет на свете. Здесь едва ли не впервые выражен один из стержневых мотивов символистского творчества - мотив ожидания «чуда» воплощения «небывалого» и «невозможного». Переживается, сублимируется пока не реальность мгновенного свершения, а предчувствие, сама скрытая во времени, даже в Вечности, потенция свершения, якобы обещанного свыше, «небесами». Это напряженное ожидание в какой-то мере самодостаточно для души и духовной жизни поэта-идеал иста, мечтателя, который, по словам Блока, «из самого «несуществования» извлек для себя цветущее бытие и ликовал в чаяньи грядущего» (Т. 7. С. 29). В стихотворении «Надпись на книге» (1896) 3. Гиппиус прямо признавала:
Мне мило отвлеченное: Им жизнь я создаю... Я все уединенное, Неявное люблю.
Я - раб моих таинственных, Необычайных снов... Но для речей единственных Не знаю здешних слов... Сходный, в сущности, романтический мотив звучит в известном стихотворении Д. Мережковского «Дети ночи» (1894). Автор говорит как бы от лица нарождающегося поколения «новых поэтов»:
Мы неведомое чуем И, с надеждою в сердцах, Умирая, мы тоскуем О несозданных мирах. Мотив отчуждения от суетного, обыденного, «земного» -один из доминантных и в первых сборниках К. Бальмонта «Под северным небом» (1894) и «В безбрежности» (1895): Моя душа стремится в мир иной, Пленяясь всем далеким, всем безбрежным.
Чужда мне вся земля с борьбой своей... («Лунный свет») Хочу для грядущих столетий покорно и честно служить Борьбой, и трудом, и тоскою, -
Тоскою о том, чего нет...
(«Нить Ариадны»)
Я жить не могу настоящим,
Я люблю беспокойные сны...
< >
Желаньем томясь несказанным, Я в неясном грядущем живу... («Ветер») К. Бальмонт словно исполнял завет своего друга и соратника по раннему символизму В. Брюсова: «...не живи настоящим, // Только грядущее - область поэта» («Юному поэту», 1896).
Знаменательны и строки Вяч. Иванова о беспокойном сердце художника в стихотворении «Звездное небо» (1889):
Пламенеет и пророчит И за вечною чертой Новый мир увидеть хочет С искупленной Красотой. «Несозданные миры» не имели образа и названия. Декадентское восприятие мира реального и ирреального предполагало жажду «чуда», «того, чего нет на свете». У неоромантиков «конца века» ноуменальная сфера невидимого чаще таилась не столько в видимом мире явлений, сколько в воображении, в мечтах. К. Бальмонт так писал об отличительных признаках подлинного поэта-романтика, подразумевая, конечно, и себя: «Любовь к далекому, что связано с мечтой и достижением, - вот, быть может, первый из этих признаков. Романтик, воплощая в себе жажду жизни, жажду разносторонности, являясь четкой вольной лично-
стью, всегда стремится от предела к Запредельному и Беспредельному. От данной черты к многим линиям Нового».28 «Миражный» мир оказывается едва ли не притягательнее действительного. «Конечно, - формулировал Эллис, - душа поэта-романтика устремляется почти всегда к созерцанию конечных сущностей, то наивно и капризно, то с трогательной искренностью порываясь к безбрежному, слишком часто не замечая и не
желая замечать «земного»».
Новый этап в раннем русском символизме, начало которого можно отнести к рубежу веков, был обусловлен переходом от отвлеченных мечтаний и созерцательности к «действию». Символисты, с их жаждой творить все новое, уже более не удовлетворялись чаянием «того, чего нет на свете». Эту перемену в мировосприятии предельно лаконично выразил Блок: «Я хочу того, что будет...» (Т. 7. С. 52). Он же в письме к А.В. Гиппиусу от 23 июля 1902 г. констатировал: «От созерцаний душно. <...> Все "отсозерцались". Мережковский говорит: "будем делать". Брюсов жалуется, что он не Скиф (!). Это смешно, но бог знает, как правильно» (Т. 8. С. 36). Перед символистами настойчиво встает проблема «творчества жизни», меняется сущность их самовыражения. «Художник как жизнетворец... подсознательно превращает небытие в бытие, молчание в звук, немоту в речь, ха-
28 Бальмонт К. Избранное. М., 1983. С. 559. Характеризуя сборник «Под се
верным небом», Эллис, в частности, отметил «двойственное противопостав
ление действительности и Мечты, смутного и грустного бессилия «здесь» и
бесконечного полета «там»», «безграничную преклоненность перед Мечтой»
(Эллис. Русские символисты. М., 1910. С. 54).
29 Эллис. Русские символисты. С. 60-61.
ос в космос, недостаток в избыток...». О предназначении художника-теурга писал Вяч. Иванов в стихотворении «Творчество»:
Творящей Матери наследник, воззови
Преображение Вселенной, И на лице земном напечатлей в любви Свой Идеал богоявленный! Несомненно, чувство меняющейся атмосферы эпохи, приближения сроков грандиозных свершений во многом связывалось в сознании символистов с наступлением XX века. «...Начало нового столетия ощущалось как знамение новой эры, несущей с со-бой глобальное преобразование всего сущего».' Требовалось активное движение навстречу скорым грядущим событиям. «В настоящую эпоху человеческий дух на перевале. За перевалом начинается усиленное тяготение к вопросам религиозным», - утверждал юный А. Белый в статье «Формы искусства» (1902).33 В современном искусстве (в частности, в музыкальной драматургии
30 Хансен-Лёве Ore. Концепции «жизнетворчества» в русском символизме
начала века // Блоковский сб. Вып. XIV. С. 71.
31 Ср. в его статье «Две стихии в современном символизме»: «К художнику,
сознательному преемнику творческих усилий Мировой Души, теургу, отно
сится завет:
Творящей Матери наследник, воззови Преображение вселенной. («Кормчие звезды»). Но как может человек способствовать своим творчеством вселенскому преображению? <...> Напечатлеет ли свой идеал на лице земли и свой замысел на формах жизни?» (Иванов. В. По звездам. С. 249).
В письме к В. Брюсову от 28/15 декабря 1903 г. Вяч. Иванов отметил, что в стихотворении «Творчество» он выразил свой взгляд на «действенную (теургическую) задачу искусства» (Лит. наследство. Т. 85. М., 1976. С. 442).
32 Лавров А.В Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятель
ность. М., 1995. С. 52.
33 Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 101.
Вагнера, драмах Г. Ибсена) ему виделись намеки на «превращение жизни в мистерию», даже на «некую всесветную мистерию» преображения.34
Безусловно, символисты, «нередко обрывавшие последние хрупкие связи с окружающей действительностью и уносившиеся мечтою в сладостный обман "творимых легенд"»,35 отчетливо понимали, что чаемый ими совершенный, идеальный мир есть плод сугубо субъективного сознания, воображения и желания. Они не отказывались от своих возвышенных представлений, но их притязания на роль провозвестников «новой эры» и «нового искусства» были слишком грандиозны, чтобы творить лишь в рамках замкнутого, самодовлеющего индивидуализма, эгоцентризма и эстетизма. Подчеркнутое отчуждение от реальности не сулило перспектив в процессе «творчества жизни», влияющего на судьбы мира. В этом согласны были и «старшие» символисты (прежде всего Мережковский, 3. Гиппиус, Н. Минский ), и «младосимволисты».
Одним из проявлений «жизнесозидания» в сферах искусства и действительности в начале века явилось «мифотворчество» (ранний А. Белый склонен был сближать его с «теургией» ); например, создание своеобразных «коллективных мифов». Москов-
34 Там же. С. 105.
35 Сарычсв В.А. Указ. соч. С. 53.
36 Ср., к примеру, высказывание Н. Минского в статье «Идея русской рево
люции» : «Свобода, добытая революцией, должна превратить Россию в
школу, в мастерскую, музей. <...> Никто не сомневается, что политически
освобожденная Россия вступит на путь культурного строительства... <...>
создается новый душевный строй социал-гуманизма, которому принадлежит
будущее» (Перевал. 1906. № 2. С. 34, 37).
37 Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 423.
ский кружок (или «союз») мистически настроенных символи-стов-«аргонавтов», несмотря на утопизм устремлений его членов, все же имел некоторые установки общего характера, связанные с «предчувствиями и предвестиями приближающегося будущего»: «...Если обычный «художник» задается целью создать совершенное произведение и только, то цель «аргонавта», достижение которой приобретает эсхатологический смысл, - пересоздать мир по возникающей в его сознании идеальной модели. <...> Важнейшее место в «аргонавтическом» мифотворчестве уделялось «мистерии» человеческих отношений, в которой усматривался прообраз «мистерии» вселенской». Неслучайно А. Белый понимал тогда «мифотворчество» как «богоделание».39 Значимой целью было созидание «аргонавтического братства» близких по духу и душевному строю людей. Жить художнику в иллюзорном мире, который он сам сотворил в своем сознании, - в чем-то легче. Вопрос в том, навязывать ли этот должный мир людям, или нет? Делать ли это своей главной миссией в искусстве, в обществе, в жизни?
Вяч. Иванов связывал «мифотворчество» с неким органическим процессом, «хоровым действом», способным влиять на народную душу: «...Миф - не свободный вымысел: истинный миф -постулат коллективного самоопределения, а потому и не вымысел вовсе и отнюдь не аллегория или олицетворение, но ипостась
некоторой сущности или энергии».
38 Лавров А.В. Мифотворчество «аргонавтов» // Миф - фольклор - литерату
ра. Л., 1978. С. 139-140, 164.
39 Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 423.
40 Иванов В. По звездам. С. 196.
Революция 1905 г. побудила символистов стать активными деятелями, ратующими за социальные преобразования. Парадокса здесь нет. Н. Минский, правда, не без некоторого преувеличения констатировал: «Все - я подчеркиваю это слово - все без исключения представители новых настроений: Бальмонт, Сологуб, Брюсов, Мережковский, А. Белый, Блок, В. Иванов - оказались певцами во стане русской революции. <...> Союз между символизмом и революцией - явление внутренне необходимое. <...> Новаторы в области искусства не могут не стать рука об руку с преобразователями практической жизни.
Что касается меня, то союз между практическим и теоретическим идеализмом всегда казался мне неизбежным. Для меня не было и нет сомнения, что для того, чтобы русская личность очнулась от оцепенения, в которое ее повергла наша ненормальная государственность, ей одинаково необходим как внешний простор политической свободы, так и внутренний простор религиозной истины».41
41 Минский Н. На общественные темы. СПб., 1909. С. 194, 195. Вряд ли можно считать верным утверждение В.А. Келдыша, что «отношение символистов той поры к социальной, политической революции колебалось от полного ее отрицания до ее приятия, но лишь как пути к метафизической революции духа («революция - мост к Теократии» - А. Белый) и неприятия как самодостаточности» (Келдыш В.А. Ф.М. Достоевский в критике Мережковского // Д.С. Мережковский: мысль и слово. С. 215). Ср. наблюдение другого исследователя: «Приближение революции, которую большинство символистов встретило как знак начинающегося Преображения мира, отразилось в эволюции направления двояко. С одной стороны, безусловно стремление откликнуться на общий подъем в стране, сблизившись с внесимволистской: общедемократической (Ф. Сологуб, К. Бальмонт) или даже пролетарской (Н. Минский) -литературой. С другой - «новое искусство» хочет создать свою систему художественного видения революции, исходя из представления, что именно символизм выражает сокровенную суть происходящего...» (Минц З.Г. Русский символизм и революция 1905-1907 годов // Ал. Блок и революция 1905 года. Блоковский сб. Вып. VIII. Тарту, 1988. С. 4).
Н. Минский одним из первых в то время задумался о том, что народ, далекий от исканий символистов, выступает лишь как потенциальный рецептор их идей в будущем. В книге «Религия будущего» он предостерегал: «Раньше, чем нести другим людям блага жизни, необходимо про себя решить, что есть благо и что нет. Раньше, чем нести народу обновление, необходимо самому по нравственной устойчивости стоять хотя бы не ниже народа...». Причем Н. Минский полагал, что благо - это "высшее счастье", "не простое довольство, а какое-то сложное переживание, слияние земного с неземным, просветление чувственного лучом мистического". Несколько позднее подобного рода сомнения иначе и резче выразил Эллис, подразумевая проповеди Мережковского, которого (наряду с Вяч. Ивановым) он относил к идейному символизму "с теократическим и религиозно-общественным уклоном"44: «...Рано, безумно рано, преступно рано превращать в общественное слово, в проповедь, в коллективный призыв - то, что живет и дышит только на высотах, на вершинах, недоступных толпе... О какой «общественности» без масс и толпы, о каком действии и без конкретной цели и определенной программы можно говорить в настоящее время?»45 Это был извечный вопрос русских символистов: нисходить к народу или восходить к нему? Вяч. Иванов, не чуждый порой миссии проповедника, чувствовал, однако, серьезную опасность грубого идеологического и политического
; Минский Н. Религия будущего. СПб., 1905. С. 41. Там же. С. 105.
Эллис. Неизданное и несобранное. С. 130. Там же. С. 104.
воздействия на традиции, верования и святыни народа. «Те, кто организуют партии и их победы, - предостерегал он в статье «О веселом ремесле и умном веселии» (1907), - еще не призваны тем самым организовать народную душу и ее внутреннюю творческую жизнь. Пусть остерегутся они насиловать поэтическую девственность народных верований и преданий, вещую слепоту мифологического миросозерцания, - вырывать ростки самобытного художественного и религиозного почина, нивелировать общие понятия, обучать и школить, и - в борьбе с церковью государственной — бороться против веры вообще».46
Существенно, что социально-политическое движение в стране, не слишком связанное с сверхрадикальными целями символистов, только укрепило их надежды на небывалое обновление мира. «...Нет ничего легче, - писал Г. Чулков, - как отказаться от жизни под предлогом, что «преобразования» не нужны, так как необходимо «преображение»».47 При этом нужно, - настаивал Н. Минский, - «чтобы перерождению подверглись самые основные отношения души к миру и к себе самой. <...> В своей гордости мы полагаем, что только цели столь высокие, что их достижение является невозможным, и достойны нас. <...> Душа наша настроена на новый лад, на камертон легкости, мистерии и свободы, и поэтому мы уже и теперь в старых формах общежития живем как бы возрожденные. Но нет
Иванов В. По звездам. С. 245-246.
Чулков Г. Театр-студия // Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 246.
сомнения, что новый душевный строй должен вызвать новое жизнеустройство».48
В сложившейся общественной ситуации символисты, уповая на некий "вселенский переворот", нередко выступали в роли сознательных сподвижников революционно настроенных масс, разного рода мятежных сил России. Как поэты, публицисты, идеологи, они поддерживали тяготение людей к раскрепощенности, стихийности, мятежу, анархии, усматривая в них залог будущего преображения действительности. «Слово «анархия» приобретает магическую силу над умами, - утверждал Вяч. Иванов. - Этика, ради индивидуализма, испытывает, с опасностью жизни, крайние пределы своей растяжимости. Свобода творчества в принципе признана всеми. О религии мы хотим слышать только в сочетании ее с началом свободы, как вероисповедной, так и внутренней, мистической...».49
Анархизм - это изменение человека и человеческого сообщества без внешнего принуждения, без воздействия власти и диктата закона. Начало индивидуальное должно переродиться в сверхчеловеческое, которое со временем станет «по необходимости вселенским и даже религиозным».50 В этом смысле анархизм и «соборность» (свободное единение, «сверхличное утверждение последней свободы»51) сопрягаются: анархия «в ее чистой идее
48 Минский Н. Религия будущего. С. 113, 122,274. Ср. также в его статье
«Идея русской революции»: «Мы хотим вернуть личности отнятое у нее че
ловеческое достоинство, но для достижения этой скромной цели мы должны
перевернуть небо и землю русской действительности» (Перевал. 1906. № 1. С.
22).
49 Иванов В. Кризис индивидуализма // Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 53-54.
50 Там же. С. 55.
51 Иванов В. По звездам. С. 120.
представляет синтез безусловной индивидуальной свободы с на-
Iі чалом соборного единения». Неслучайно нередко фигурировало
в среде символистов понятие «соборный индивидуализм», раз
вернутое в одноименной брошюре М. Гофмана (СПб., 1907). А.
Белый, например, оперировал специфическим термином-
понятием «анархический коммунизм».53 По словам Вяч. Иванова,
«анархическая идея по существу отрицает всякое ограничение»:
«Индивидуализм, в своей современной, невольной и несозна-
тельной, метаморфозе усвояет черты соборности: знак, что в ла
боратории жизни вырабатывается некоторый синтез личного на
чала и начала соборного. Мы угадываем символ этого синтеза в
многозначительном и равнозначащем, влекущем и пугающем,
провозглашаемом как разрешение и все же неопределенном, как
загадка, - слове: «анархия». <...> Истинная анархия есть безумие,
разрешающее основную дилемму жизни: «сытость или свобода» -
решительным избранием «свободы». <...> Анархия, если она не
хочет извратиться, должна самоопределяться как факт в плане
духа. <...> Ее истиннейшая область - область пророчественная:
она соберет безумцев, не знающих ішени, которое их связало и
сблизило в общины таинственным сродством взаимно
. разделенного восторга и вещего соизволения». Высшие прояв-
ления анархии и «соборности» Вяч. Иванов прихотливо увязывал с условием настоящей политической свободы: «И только тогда...
52 Там же. С. 195. Ср. также: «Именно анархизм лежит в основе идеи «святой
общественности»» (Гайденко П. Д.С. Мережковский: апокалипсис «всесо
крушающей религиозной революции» // Вопросы литературы. 2000. Сен
тябрь-октябрь. С. 120).
tt * Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 442.
54 Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 58, 59 (курсив - Вяч. Иванова).
осуществится действительная политическая свобода, когда хоровой голос таких общин (народных, «хоровых», «пророчествен-ных» — В.Б.) будет подлинным референдумом истинной воли народной». 5
Данный период Ф. Сологуб, в чем-то следуя Вяч. Иванову, охарактеризовал позднее как завершение второй стадии развития русского символизма, которую он назвал «индивидуалистическим символизмом». «В нашем индивидуализме, - писал Ф. Сологуб, - мы искали не эгоистического обособления от других людей, а освобождения, самоутверждения на путях экстаза, искания чуда, или на каких-нибудь иных путях. <...> Сам по себе этот индивидуализм был лишь переходом в третий момент движения искусства - в демократический символизм, жаждущий соборности и коллегиальности».56
И "старшие", и "младшие" символисты были едины в стремлении выразить революционный энтузиазм. К. Бальмонт в стихотворении "Земля и воля" (1906) провозглашал, как бы заклиная:
Судьба России всем народом
Теперь должна быть решена.
Всё - заново, и всем - свобода. Да будет так! Да будет так!
Иванов В. По звездам. С. 219.
Символисты о символизме // Заветы. 1914. № 2. Отд. П. С. 76, 77.
В. Брюсов изображал народное восстание как проявление своеобразного "древнего хаоса", в котором слышится голос музы:
Это - хаос. В хаос черный
Нас влечет, как в срыв, стезя.
Спорим мы, иль мы покорны,
Нам сойти с пути нельзя.
< >
С громом близок голос музы, Древний хаос дружен с ней. («Лик медузы», 1905)
Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете,
Творите мерзости в храме, -
Вы во всем неповинны как дети!
< >
Бесследно все сгибнет, быть может, Что ведомо было одним нам, Но вас, кто меня уничтожит, Встречаю приветственным гимном. («Грядущие гунны», 1905)57
57 О связи стихотворения с идеей кардинального обновления действительности см. в статье И. Корецкой «Валерий Брюсов: «Грядущие гунны»» (Корец-кая И. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. М, 1995. С. 164-183). «Народные массы для Брюсова - мятежная стихия, «шквал», несущий справедливое возмездие» (Там же. С. 110).
Поэта не страшило даже бесследное исчезновение с лица земли ценностей искусства и культуры, настолько им владел пафос разрушения (умозрительные картины гибнущего мира обычны для русских символистов).
И Вяч. Иванов предсказывал разгул темных страстей и сил, сопротивление людей внешнему гнету; особенно явственно это было заявлено в произведениях цикла "Година гнева" (1904-1907); ср.:
Дохнет неистовство из бездны темных сил Туманом ужаса, и помутится разум, -И вы воспляшете, все обезумев разом, На свежих рытвинах могил.
И страсть вас ослепит, и гнева от любви Не различите вы в их яром искаженье; Вы будете плясать - и, пав в изнеможенье, Все захлебнуться вдруг возжаждете в крови.
Бьет час великого Возмездья! Весы нагнетены, и чаша зол полна...
(«Астролог», 1905) Нет! В узах были мы заложники-цари; Но узы скинули усильем всенародным.
О Солнце Вольности, о близкое, гори!
(«Populus-rex», 18 окт. 1905 г.; явилось откликом на манифест 17 октября)
Между тем, «события «годины гнева» при всем их трагизме и жестокости несли стране, по мысли Иванова, не гибель, а обновление».58
Образ «солнца», в частности, служил символистам расхожим символом грядущей свободы.59 Здесь, возможно, был элемент намеренного поэтического упрощения. Ср., например, также в стихотворении Ф. Сологуба «Восход солнца» (1905):
Солнце ясное, свобода!
Горячи твои лучи.
В час великого восхода
Возноси их, как мечи.
Кто в объятьях сна немого
Позабыл завет любви,
Тех горящим блеском слова
К новой жизни воззови. Могло показаться, что символисты, заметно сблизившись в 1905-1907 гг. с революционной реальностью, утратили нечто существенное в своем максималистском пафосе, мировоззрении и прорицании в поисках конкретных, "земных" путей и целей воплощения заветной Мечты. Однако это было обманчивое впечатление. Во-первых, символисты незыблемо сохраняли свое
58 Корецкая И. В «годину гнева» // Корецкая И. Над страницами русской по
эзии и прозы начала века. С. 106.
59 О значении образа «солнца» в творчестве русских символистов см.: Долго-
полов Л. М. Горький и проблема «детей солнца» (1900-е годы) // Долгополое
Л. На рубеже веков. О русской литературе конца XIX - начала XX века. Л.,
1985. С. 63-78.
особенное, "двойное" видение и восприятие действительности. Во-вторых, серьезно не нарушались как "соответствия между видимым и невидимым мирами"6, так и некая духовная, умозрительная дистанция между ними. Отмечая данное немаловажное обстоятельство, Эллис писал: «Искание иной действительности («нового мира» - В.Б.) дается ценой отрешения от эмпирического мира; иначе неизбежно безумие и самоотрица-
Подход Вяч. Иванова к событиям характеризовался тем, что он в тревожном, смутном времени усматривал "поворот к полюсу соборности": «Мессианисты религиозные, мессианисты-общественники, мессианисты-богоборцы, - уже все мы равно жи-вем хоровым духом и соборным упованием». В лирике это важное для поэта ощущение отразилось, например, в стихотворении "Тихая воля" (1905):
О, как тебе к лицу, земля моя, убранства Свободы хоровой!..
В живой соборности и Равенство и Братство
60 К примеру, Эллис в статье «Итоги символизма» (1909) констатировал:
«Простая справедливость заставит нас признать, что символизм с первых
дней своего существования и до настоящего времени всегда оказывался той
бесконечно чуткой, сложной и тонкой формой выявления всех идейных за
просов, исканий и переворотов сознания современного человечества, которую
без преувеличения мы можем назвать одновременно зрением, осязанием, слу
хом и даже совестью современной души» (Эллис. Неизданное и несобранное.
С. 131).
61 Эллис. Русские символисты. С. 232.
62 Там же. С. 87. На поэтическом языке это, к примеру, так выражено в стихо
творении К. Бальмонта «Будем как солнце! Забудем о том...» (1902):
Будем молиться всегда неземному В нашем хотенье земном!
Звучат святей, свежей... Раздумья Вяч. Иванова, связанные с идеями "неприятия мира", кризиса индивидуализма, анархизма, "соборности", послужили возникновению доктрины "мистического анархизма". По словам С.С. Аверинцева, в 1906-1907 гг. Вяч. Иванов сделал «не слишком удачную попытку превратить "приятие" хаоса и "неприятие" мира в философскую доктрину».64 Понятие "мистического анархизма" в применении к действительности, мистике, религии и символистскому искусству пытался развить Г. Чулков в специальной брошюре; вокруг основных религиозно-философских посылок и положений теории возникла бурная полемика.65 Критики, в частности, указывали на зыбкость идейных построений, эклектизм, уязвимость самого термина и т.д.66 Однако здесь важно обратить внимание на исходные в этом
ы Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 54, 55.
64 Аверинцев С.С. Поэзия Вячеслава Иванова // Вопросы литературы. 1975. №
8. С. 169.
65 Подробнее об этом см.: Переписка Г.И. Чулкова с Блоком //Лит. наследст
во. Т. 92. Кн. 4. С. 374-376 (вступ, статья А.В. Лаврова); Письма Эллиса к
Блоку (1907) //Лит. наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 275-276 (вступ, статья А.В.
Лаврова).
66 Ср. замечание А.В. Лаврова: «Пути к желаемой гармонии, по Чулкову, ле
жат в соединении индивидуального мистического опыта с идеями философ
ского анархизма; соединение мистических начал как сферы выражения инди
видуального с анархическими идеями как областью общественного указует на
возможность преодоления реального разобщенного мира во имя грядущего
соборного» (Лит. наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 275). А. Белый воспринял тео
рию как «безобразную пародию» на его утопии о соборности эпохи 1901-
1905 гг. «В мистическом анархизме, - писал он позднее, - я вижу кражу ин
тимных лозунгов: соборности, сверх-индивидуализма, реальной символики,
революционной коммуны, многогранности, мистерии» (Андрей Белый. Сим
волизм как миропонимание. С. 443). Эллис в одном из писем к Блоку с едкой
иронией назвал «мистический анархизм» «анархическим мистицизмом» (Лит.
наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 288; публ. А.В. Лаврова). Критический отзыв Ф.
Сологуба об этой доктрине см.: Неизвестное письмо и два стихотворения Ф.
контексте идеи Вяч. Иванова. О них можно судить по
% знаменательной статье "Предчувствия и предвестия" (1906); в
ней поэт заявил о своем понимании положения, в котором
оказался в данный момент русский символизм. Проблема была
обозначена антиномически: насколько символизм соприкасался с
классическим романтизмом. Вяч. Иванов полагал, что романтизм
балансировал между мечтой и грубой реальностью, тогда как
символизм имел дело с таким магическим орудием, как
пророчество, которое не угадывает, но предчувствует судьбы
мира: «Видеть ли в современном символизме возврат к
романтическому расколу между мечтой и жизнью? Или слышна в
нем пророческая весть о новой жизни, и мечта его только
упреждает действительность? <...> Итак, романтична или
пророчественна душа современного символизма?» Не пытаясь
точно ответить на данный вопрос, Вяч. Иванов полагал, что
^ ответит "только будущее": «Мы же судим по гадательным
признакам и по самонаблюдению. Психология наша - не
психология романтиков. Романтической мечтательности,
романтическому томлению мы противопоставляем волевой акт
мистического самоутверждения». В чем же заключался этот акт
,l, самоутверждения? «...Если наше творчество, - полагал Вяч.
Иванов, - сознает себя не только как отобразительное зеркало иного зрения вещей, но и как преображающую силу нового прозрения, - ясно, что оно, столь отличное от самодовлеющего и
Сологуба // Русское революционное движение и проблемы развития литера
туры. Л., 1989. С. 182-183 (публ. М.М. Павловой).
,i| " Иванов В. По звездам. С. 189.
68 Там же. С. 192.
внутренне уравновешенного искусства классического, представляет собой один из динамических типов культурного энергетизма». Новые термины - новая духовная реальность, которую сознание воспринимает как залог будущей жизни. Однако волевое мистическое самовыражение, обретая какие-то иные формы, по своей глубинной, исконной, мессианской сути оставалось прежним: символисты под пророчествованием понимали "не непременно точное предвидение будущего, но всегда некоторую творческую энергию, упреждающую и зачинающую будущее, революционную по существу..."70 Вяч. Иванов, противопоставляя романтизм и пророчество, подчеркивал: «Романтизм - тоска по несбыточному, пророчество - по несбывшемуся. <...> Невозможное, иррациональное, чудо -для пророчества постулат...»71 Вяч. Иванов был тогда убежден: «Романтизм вожделеет предметов своего мечтания. Мы же призываем то, что, быть может, предчувствуем как нечто трагическое. Наша любовь к грядущему включает в себя жертвенное отрешение от иного, с чем мы связаны тончайшими органическими нитями, задушевными связями. <...> Пророчество трагично по природе».72 Трагично, возможно, потому, что будущее (предчувствуемое и проницаемое инобытие) чревато, во-первых, неизвестностью, а, во-вторых, - потрясениями и
69 Там же. С. 190.
70 Там же. С. 191.
71 Там же.
72 Там же. С. 193. Ср. высказывание Д. Мережковского: «Последний религи
озный предел искусства - трагическое созерцание мира» (Мережковский Д.
Не мир, но меч. СПб., 1908. С. 5-6).
катастрофами. Так, Эллис в заметке "В защиту декадентства" (1907) замечал: «В проникновении в иную реальность и заключается трагизм, которым живет душа истинного художника». В первую очередь здесь имелись в виду художники-символисты. Небезосновательно в связи с этим суждение С.С. Аверинцева о Вяч. Иванове: «По правде говоря, он не всегда смотрел в будущее "без боязни"; ожидание предстоящих катаклизмов страшило его».75 Примечательно, что тогдашний единомышленник Вяч. Иванова Г. Чулков, которого с одинаковой силой волновали и социально-политическая, и религиозно-мистическая подоплека происходящих событий, воспринимал эту «великую и вечную трагедию» в достаточно мажорной, оптимистичной атмосфере «желанной тревоги»: «...Мы пожелаем родине не останавливаться на этапе социального устроения, а двигаться дальше, зовя за собою мир, двигаться к великому концу, который раскроет перед нами последний трагизм последней свободы».76
В конце 1900-х годов (после поражения революции), когда обозначился так называемый «кризис символизма», художников-символистов объединила не только во многом общая идейно-
73 Позднее, в 1916 г., Вяч. Иванов в статье «Два лада русской души» (1916)
писал о том, что трагический человек «никогда не бывает ни просто счастлив,
ни просто несчастен; он живет как бы вне этих категорий и непрестанно
слышит в себе тайный голос, говорящий да жизни и се приемлющий, - и вме
сте другой голос, шепчущий пет» (Иванов В. Борозды и межи. С. 68; курсив
- В. Иванова). К такого рода «раздвоенным» личностям можно отнести, не
сомненно, немало русских символистов (среди них Д. Мережковского, А. Бе
лого, А. Блока и др.).
74 Эллис. Неизданное и несобранное. С. 68.
75 Аверинцев С.С. Указ. статья. С. 175. Примечательно в связи с этим, как
трактовал отношение к неизвестному грядущему Вл. Соловьева Д. Мереж
ковский: «...Былое надежно; будущее страшно. Страх будущего - «антихри
стов страх»» (Мережковский Д. В тихом омуте. СПб., 1908. С. 273).
эстетическая платформа, но и идея преображения мира, которой все они оставались верны. Эта идея вселяла веру в будущее и да-
вала смысл их жизни и творчеству. Одним из первых попытался осмыслить период «рубежа» Эллис в статьях «Итоги символизма» (1909) и «Культура и символизм» (1909). «...Наши самые заветные цели, надежды и задачи - в будущем, - с воодушевлением писал он, утверждая, что символизм, как мировоззрение и форма искусства, далеко не исчерпал свои возможности. - Свято сохраняя в целости великие заветы великих учителей и основателей «символического движения», мы с тем большей уверенностью и надеждой взираем в бесконечное будущее. <...> В этом смысле современный символизм является для нас единственным мостом, ведущим через самые страшные бездны современного пессимизма и трагизма к тому "единству в сложности" будущего человека, в сущности которого мы видим заветнейшие чаяния величайшего из людей нашей эпохи - Фр. Ницше».7
Вяч. Иванов видел залог, гарант жизнеспособности символизма в том, что художники сумели, по-разному и в разной степени, приобщиться к народной душе и судьбе. «Если бы символисты не сумели пережить с Россией кризис войны и освободи-
76 Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 245 (курсив - Г. Чулкова).
77 Возможно, именно эту идею, определявшую пути устремлений, подразуме
вал Эллис, когда писал в «Мюнхенских письмах» (1912): «...Есть одна общая
идея, один общий порыв, один общий путь во всех исканиях, объединивших
ся под знаменем символизма, и этот единый общий путь безусловен» (Эллис.
Неизданное и несобранное. С. 192; курсив - Эллиса). Ср. исполненные свое
образного стоицизма строки стихотворения 3. Гиппиус «Сызнова» (1907):
Хотим мы созидать - и разрушать. Всё сызнова начнем, сначала. Ужели погибать и воскресать Душа упрямая устала?
тельного движения, - писал он в программной статье «Заветы символизма», - они были бы медью звенящею и кимвалом бряцающим. Но переболеть общим недугом для них значило многое; ибо душа народная болела, и тончайшие яды недуга они должны были претворить в своей чуткой и безумной душе». Блоку казалось, что в те годы что-то «сорвалось» в народной душе, в России и в душах символистов. Подобное умонастроение было присуще и другим художникам символистского круга. Но сильнее всех перипетий реальности была устремленность в Будущее и уверенность в бытии сверхреальных сущностей и сверхчеловеческих ценностей.
Еще в 1904 г. в статье «Ницше и Дионис» Вяч. Иванов писал: «Вдохновленный дионисийским хмелем Ницше сознавал, что для просветления лика земного (ибо не меньшего он волил) наше сердце должно измениться, внутри нас должна совершиться какая-то глубокая перемена, преображение всего душевного склада, перестрой всего созвучия наших чувствований... <...> Бесконечны ступени богопроникновенности, велики возможности духа, и неугасимы исконные надежды на просветление лика человеческого и на совершенного человека, эту путеводную звезду всех исканий, постулат самопознания,
завет христианства».
Человек, согласно коренным воззрениям символистов, не просто заключает в себе целый мир, «вселенную», он способен к постоянному самосовершенствованию посредством постижения
Эллис. Неизданное и несобранное. С. 173, 174 (курсив - Эллиса). 1 Иванов В. Борозды и межи. С. 137. Иванов В. По звездам. С. 11, 16.
высшей гармонии «целого», приобщения к разлитой в мире духовной силе. Творцы-символисты - поэты, прорицатели, религиозные реформаторы, проповедники - могут и должны этому содействовать словом и делом, служением идее «преображения», «тайнодействием жизни» (Вяч. Иванов). Но для этого им необходим потенциал личностного, внутреннего перерождения. Одно из важных условий — обладание «духовным зрением». Так, например, Эллис был твердо уверен: «...Неизменно углубляясь в бездну истинно-сущего, в бесконечность созерцания, неизбежно отрешаясь от первичной грубой реальности и, что особенно важно, все более и более сам преображаясь и одухотворяясь, субъект созерцания неминуемо начинает все более и более видеть в res (вещах, феноменах - В.Б.) лишь призраки, лишь фантомы и сам уподобляться живым существам иных сфер, т.е. таинственно и чудесно преображаться, что является высочайшим смыслом, оправданием и самой священной миссией этического влияния художественного творчества»81
Эллису ниспосланный свыше дар тайновидения, проникновения в «высшие сферы» бытия кажется вещей предпосылкой необычайного просветления и одухотворения: «Видеть иной мир -значит уже стать иным, самому всегда тонуть взором в свете, са-мому озариться до глубины духовной сущности...»
Таким образом, огромное значение имеет безусловная вера в бытие ноуменальных «иных миров», с которыми соприкасается сверхчуткий поэт. «Без признания реальности и сознательности
' Эллис. Неизданное и несобранное. С. 146 (курсив - Эллиса). 2 Эллис. Русские символисты. С. 228.
41 РОССИ&ЄЙАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
(воли и разума) существ высших мировых, чем мир человеческий, нет никакой религии... и нет вовсе символизма, и нет и символического искусства, - категорично утверждал Эллис. -<...> ...самая сущность, основная идея символизма, как переживаемого нами современного и обращенного к будущему духовного подъема, требует и логически, и психологически веры в реальность сил и существование высших миров...». Блок также усматривал определенную ценность творческих исканий символистов в том, «что они-то и обнаруживают с очевидностью объективность и реальность «тех миров»...» (Т. 5. С. 431; курсив - Блока).
Восприятие первой мировой войны во многом было связано у символистов не только с патриотическими чувствами, но и, едва ли не в большей степени, с надеждой на то, что это трагическая, но в то же время и благая участь русского народа, который должен был духовно очиститься в годы испытаний. Так, к примеру, Вяч. Иванов писал в стихотворении «Убеленные нивы» (осень 1914 г.):
Жди всходов белых
На ниве просторной,
Народ чудотворный,
Поминаючи верных и смелых.
83 Эллис. Неизданное и несобранное. С. 194, 196 (курсив - Эллиса). В тех же «Мюнхенских письмах» Эллис выделил курсивом следующий фрагмент: «...Духовное течение, лишь частично выразившееся в т<ак> наз<ываемом> новом искусстве, явилось в своем корне глубоким мистическим подъемом всей культуры и всей жизни нашей эпохи, знамением наступления нового
Крепко надейся и веруй,
** Что небывалое будет.
Знаменательно, что сражение в войне Вяч. Иванов считал частью «вселенского дела» русского народа. Важен смысл, который он вкладывал в понятие «вселенский». Об этом Вяч. Иванов писал в статье «Вселенское дело» (1914): «Церковь научила нас означать словом «вселенский» нечто, чего не объемлют и огромные слова «мировой» и «всемирный»; его мы употребляем в смысле не внешне-пространственном, но глубинном и духовном. <...> Говоря о вселенском деле, я говорю о действии духа, о деле духовном. Ибо человечество, как единство соборное, есть человечество в Духе и Истине. <...> Необходимо, чтобы дело вселенское было делом сокровенным и сверхразумным». Видимо, именно так трактовали существо «вселенского дела» многие русские символисты.85
^ Революцию 1917 г. далеко не все символисты восприняли как
путь к преображению мира и человека. «Революция есть гроза преображающая, - писал в 1918 г. К.Бальмонт. - Когда она перестает являть и выявлять преображение, она становится Сатанинским вихрем слепого разрушения, Дьявольским театром, где все
і, ходят в личинах. И тогда правда становится безгласной, или пре-
вращается в ложь».86 3. Гиппиус, Д. Мережковского, Вяч. Ивано-
царства идей и отношений, благодатным нисхождением светлых духовных сил из высшего мира в мир человечества» (Там же. С. 194).
84 Иванов В. Родное и вселенское. СПб, 1917. С. 5, 6, 7.
85 Ср. в стихотворении Блока «A.M. Добролюбов» («Из городского тумана...»,
1903):
Стебель вселенского дела
л. Гладит и кличет: Молись!
86 Бальмонт К. Революционер я или нет? М., 1918. С. 7.
ва отвращал от нее ее внерелигиозный дух (свобода и революция «без Бога»). Касаясь отношения Вяч. Иванова к революции, С.С. Аверинцев отметил: «Разрыв между мечтой о «тихой» соборности и реальным обликом революционных лет был слишком велик. <...> Личная трагедия поэта коренилась в том, что он, с нетерпением ожидая обновления и преображения родины, не переставал мыслить его как торжество религиозно-патриархальной "соборности", как возврат к "святой Руси" и ее "хоровому началу"... <...> Такую "революцию" Вячеслав Иванов вполне готов был приветствовать... <...> Наступила революция -но вовсе не та, которую он ждал». Утверждение исследователя, что писатель мечтал о реставрации каких-то религиозно-патриархальных элементов древней народной жизни, пожалуй, несколько преувеличено. Вяч. Иванов хотел видеть в революционном движении наглядно выраженное творческое начало; разрушение бессмысленно, если за ним не следует созидание новых форм жизни. В цикле «Песни смутного времени» (декабрь 1917) отразились смешанные чувства поэта: надежда на обновление, на очистительную, просветляющую силу страдания и искупления и тревога за непредсказуемую судьбу своего народа, захваченного революцией:
Может быть, это смутное время
Очищает распутное племя;
Может быть, эти лютые дни -
Человечней пред Богом они,
Чем былое с его благочинной
Аверинцев С.С. Указ. статья. С. 185,190.
И нечестья, и злобы личиной.
< >
Последний плач семнадцатого года!
Исхожены блуждания тропы,
И мечутся, отчаявшись, толпы —
В трех маревах: Мир, Сытость и Свобода.88
«Не деловитость рассудочная и оторванная от духовных основ бытия, - писал Вяч. Иванов в статье «Революция и народное самоопределение» (1917), - но лишь деятельность одухотворенная достойна именоваться творчеством. Революция же, поскольку она не исчерпывается разрушением, должна быть именно творчеством. <...> Не затем молимся мы об оживлении
8R 3. Гиппиус, в отличие от Вяч. Иванова, была склонна в определенной степени абстрагироваться от текущих событий, уповая не на испытание народа «в грозе и буре», а на чудесное избавление от зла, на «Небывалое». Ср. ее манифестные строки того времени:
Я верю в счастие освобождения, В Любовь, прощение, в огонь - в полет! («Дни», ноябрь 1918)
И мы не погибнем, - верьте! Но что нам наше спасенье? Россия спасется, - знайте! И близко ее воскресенье.
(«Знайте!», декабрь 1918) Ср. также в стихотворении Ф. Сологуба «Пылают смрадно адовы...» (январь 1918):
Но чую дуновение Прохладных райских рос И знаю - в дни гонения Придет к земле Христос. Свершатся упования, Крестом мы победим, И вражьи беснования Развеются, как дым.
религиозных сил народа, что хотели бы сделать случившееся не случившимся и вернуть народ назад, к прежнему покою тления, -но затем, что хотим, чтобы случилось то, чего еще не случилось, чтобы началась новая жизнь, чтобы приблизилась в нас к воплощению святая соборность... <...> Революция протекает внерелигиозно. Целостное самоопределение народное не может быть внерелигиозным».
О позиции Вяч. Иванова в то время достаточно отчетливо свидетельствует его статья о композиторе-новаторе А.Н. Скрябине, которого он называл мистиком и «мирным анархистом». По словам Вяч. Иванова, Скрябин «не только упреждал в духе некий всеобщий сдвиг, но и учил, что всемирное развитие движется в катастрофических ритмах»: «...Он сгорал от нетерпеливого ожидания предвестий конца, за которым уже светало перед его взором новое начало, торопил Рок и ежечасно умышлял освободительное действие. <...> Он радовался тому, что вспыхнула мировая война, видя в ней преддверие новой эпохи. Он приветствовал стоящее у дверей коренное изменение всего общественного строя: эти стадии внешнего обновления исторической жизни ему были желанны как необходимые предварительные метаморфозы перед окончательным и уже чисто духовным событием - вольным переходом человечества на иную ступень бытия».
89 Иванов В. Родное и вселенское. С. 184, 185. Ср. также в статье «Старая или
новая вера?»: «Истинное оправдание человека - в самостоятельном творчест
ве, какого доселе не было, в творчестве впервые по существу, в творчестве
жизни новой и нового бытия...» (Там же. С. 114).
90 Иванов В. Родное и вселенское. С. 195, 196. Подробнее об отношении Вяч.
Иванова к Скрябину см.: Мыльникова И.А. Статьи Вячеслава Иванова о
Сам Вяч. Иванов все больше убеждался в том, что внешнее обновление качественно не меняет мировосприятие людей, не происходит «вольного перехода человечества» на небывалую высоту бытия. Более того, он все отчетливее сознавал, что символисты так или иначе способствовали приближению грозных событий, последствия которых для России и мира были непредсказуемы. Об этом достаточно откровенно заявлено в стихотворении «Да, сей пожар мы поджигали...» (декабрь 1919):
Да, сей пожар мы поджигали, И совесть правду говорит, Хотя предчувствия не лгали, Что сердце наше в нем сгорит.
Гори ж, истлей на самозданном, О сердце-Феникс, очаге И суд свой узнавай в нежданном, Тобою вызванном слуге.9| «Нежданный вызванный слуга» здесь, вероятно, - народный бунт, восстание, революция как разрушение. Велико разочарование, но велико было и искушение русских символистов, о котором лапидарно и емко сказано в стихотворении Вяч. Иванова «Знамения»:
Мы знаки видели, всё те же, не однажды: Но вечно сердцу нов их обманувший смысл.
Скрябине // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1983. Л., 1985. С. 88-119.
91 Примечательно, что стихотворение обращено к Г. Чулкову и подразумевает мистико-анархические чаяния 1905-1906 гг.
Эллис прозорливо писал об А. Белом: «А. Белый многолик и всегда трагически противоречив как лирик, философ, мистик, ученый или проповедник нового откровения... <...> А. Белый непостижимо и неизменно целен как предвестие, как знамение, как живой и единый символ всего современного сознания, переживающего невиданный кризис и порывающегося к высотам, не только прежде не достигнутым, но даже и не
92 -г
прозреваемым». Го же самое, лишь с некоторыми оговорками, можно сказать и о Мережковском, и о Блоке: оба они были «живыми символами современного сознания, порывающегося к высотам».
Идея преображения мира, чрезвычайно волновавшая русских символистов, постоянно возникала во многих аспектах и контекстах в самых разных жанрах их творчества: в поэзии, прозе, драматургии, публицистике, эссеистике, критике; она прослеживается в мемуарах, дневниках, письмах. В работе учитываются по возможности все эти разнородные пласты обширнейшего материала.
В исследовании преимущественно применяется хронологический подход (охватывается период с начала 1890-х до конца 1910-х годов); при этом фиксируются наиболее заметные изменения в отношении символистов к идее преображения мира, а также сложные, противоречивые переплетения их духовных исканий, собственно художественного творчества и «жизнетворче-ства».
Эллис. Русские символисты. С. 210.
В работе предметом аналитического рассмотрения закономерно стали (в контексте затронутой темы) параллели в мировоззрении, идейной и творческой эволюции Д. Мережковского и А. Белого. Более всего они ощутимы как раз в той сфере, которая напрямую связана с идеей невиданного обновления мира. Характерный штрих: Мережковский неустанно предсказывал появление в мире необычных «новых людей», а Андрей Белый - своеобразный провозвестник Грядущего и, согласно определению того же Эллиса, - «первое знамение будущего явления «новых лю-
93 гт "
деи»». Но словам одного из исследователей, ««новый человек» рождает сам себя, «новый мир» или «новое Евангелие», которое должно преобразить жизнь».94 Это важно учитывать, затрагивая непростой вопрос о взаимовлиянии «старших» и «младших» символистов. Идея Преображения мира и человека, возможно, как никакая другая, сближала два поколения русских символистов.
Блок даже в кругу своих соратников по символизму отличался редкостной одержимостью этой идеей. Она влекла его с ранней юности. Необходимо уяснить и показать всю важность и непреходящую ценность для поэта этой всеохватной идеи, проанализировать те постоянно менявшиеся формы, в которые она облекалась в его «философии духа», миросозерцании и творчестве. Во всяком случае есть веские основания утверждать, что данная идея была не менее, а может быть и более значима для Бло-
93 Там же. С. 211.
94 Матич Ольга. Христианство Третьего Завета и традиция русского утопизма.
С.107.
^
*
ка, чем идея «пути», о которой в свое время обстоятельно писал Д.Е. Максимов.
Между утопией и трагедией. Идея обновления мира у Д. Мережковского и А. Белого
В рамках рассматриваемой темы несомненный интерес, на мой взгляд, представляет сопоставление «старших» символистов и «младосимволистов». В чем-то они сходились, влияя друг на друга, в чем-то расходились, вступая в полемику (порой резкую). Причем разногласия между ними возникали нередко именно в вопросе о возможности, целях и средствах пересоздания человека, общества, миропорядка, мироздания в целом. Характерным примером притяжения и отталкивания в данном контексте можно считать Мережковского и А. Белого. У обоих мечта о кардинальной трансформации бытия постоянно жила в душе и сознании, преломляясь в их искусстве и во многом определяя мировоззрение, деяния и судьбы. Одержимость этой мечтой была одним из самых мощных стимулов их исканий на путях религиозно-философского познания, духовного самосовершенствования, «творческого преобразования действительности» (А. Белый). страненного тогда представления об этом модернистском явлении как выражении крайнего индивидуализма и «чистого» эстетизма) с общим кризисом сознания и мироощущения особой породы людей конца века, разуверившихся в позитивистских ценностях настоящего, уставших от всевозможных теорий «линейной эволюции» и прогресса, но вобравших в доступной полноте высшие достижения минувших эпох. Когда сравнительно быстро (к началу 1890-х годов) прошло его юношеское увлечение народничеством, он начал упорно искать ту веру, те мировые идеи и ценности, которые озаряли бы жизнь неземным «светом» и высшим, внера-циональным смыслом.
Одной из первых попыток выразить смутные представления о новых веяниях в жизни и искусстве явился сборник стихотворений и поэм «Символы» (1892). Знаменательны сами названия некоторых произведений: «Бог», «Вера», «Смерть», «Конец века» и др. В восприятии молодого Мережковского все в мире, что хоть как-то напоминает о существовании предельно далекого, незримого, вечного, до конца непостижимого Идеала, является «символом». Ему изначально импонировало понимание символа как трансцендентного знака связи двух миров: «земного» и «небесного», человеческого и божественного. И в этом заключались истоки его зреющего мистицизма. В «Символах» Мережковский сделал попытку, пусть робкую, уловить дух «конца века», подспудно меняющееся мироощущение людей той эпохи, образы «новой красоты». Причем уже тогда «новая красота» все более воспринималась им не столько в эстетическом, сколько в мистико-религиозном плане.
В 1893 г. вышла книга «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», ставшая одним из первых манифестов отечественного модернизма. Для обозначения нарождающегося искусства, которое должно прийти на смену «художественному материализму», «утилитарному реализму», Мережковский активно использовал такие крайне отвлеченные определения, как, «новая красота», «идеальная поэзия», «новое искусство» и т.п. Учитывая данный контекст, следует отметить, что тогда же в качестве своеобразной мини-декларации Мережковский предложил оригинальную версию перевода известного выражения из «Фауста» Гете «Всё преходящее есть только подобие». Для Мережковского принципиально важным стал такой перевод гетевской «формулы»: «Всё преходящее есть только символ» (он послужил эпиграфом в сборнике «Символы»). Характер тенденции и новаций манифеста писателя довольно точно выразил позднее П.П. Перцов: «...То литературное движение, которое известно под именем символизма и которое окрасило собою в разнообразных проявлениях начало этого столетия, нашло себе в книге Мережковского одно из первых своих воплощений, - и не столько даже в сбивчивых ее утверждениях, сколько в «настроении», в самом ее тоне. Этот тон делал музыку будущего - и весьма близкого будущего».1
В книге-манифесте Мережковский высказал свои мысли о скорой переоценке ценностей, приближении эпохи «нового идеализма» в искусстве. Решительно выступая против плоского, «приземленного» реализма, натурализма и утилитаризма, он стремился утвердить и обосновать идею единства высокой, одухотворенной эстетики и религии, без которых, по его мнению, русской литературе неминуемо грозит затяжной кризис, упадок. «Новое искусство», согласно Мережковскому, непременно должно выражать идеальные порывания человеческого духа. По мысли писателя, главные составляющие (элементы) такого искусства - «мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности». Именно подобного рода творчество, представлялось ему, способно отразить «возмущение против удушающего мертвенного позитивизма». Под мистическим содержанием им подразумевалась глубинная, тайная сущность зримых явлений, подчас скрытая от «непосвященных»; образно-аллегорическими знаками этой метафизической сферы являются символы. «Наше время должно определить двумя противоположными чертами, - утверждал он, - это время самого крайнего материализма и вместе с тем самых страстных идеальных порывов духа. Мы присутствуем при великой, многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных миросозерцании. Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний»2. Уже тогда Мережковский достаточно обостренно чувствовал границу между двумя эпохами (он определял это пограничное состояние мира как «знаменательный перелом»). С годами это ощущение будет нарастать. Ему казалось, что целая генерация людей переживает сходные настроения: «В сущности все поколение конца XIX века носит в душе своей то же возмущение против удушающего мертвенного позитивизма, который камнем лежит на нашем сердце. Очень может быть, что они погибнут, что им ничего не удастся сделать. Но придут другие и всё-таки будут продолжать их дело, потому что дело - живое»3. Здесь речь идет не только о борьбе за новое искусство и иное будущее, но и о своего рода жертвенности «застрельщиков-новаторов». Несколько позднее этот романтический мотив выразится в программном стихотворении «Дети ночи» (1894):
Грани утопии (1898-1904)
Блоковское восприятие идеи «преображения мира» было обусловлено уже символическим мироощущением как таковым.1 Закономерным выражением его явилось преображение поэтом действительности в формах искусства, пересоздание ее посредством творческой воли. Однако особое значение имели и личностные, психологические качества Блока. Ему с юности были присущи мя-тежность, «беспокойство о новом», не терпящие устойчивости, постоянства; его влекло к изменяющимся формам мира и бытия. Он жил «страстями и духом». Он был «враг всякой определенности», свидетельствовал очень близко знавший Блока Е.П. Иванов. Сам поэт достаточно определенно отмечал эту доминанту своей натуры: визны в повседневности, в окружающей атмосфере, неприятие сложившихся, «застывших» форм социального бытия, стремление привнести в мир образы и символы своей фантазии и мечты. Но это всё, условно говоря, пассивные способы выражения тоски человека о новом, небывалом, желанном. Наиболее действенной, радикальной формой критического отношения к реальности является стремление личности воплотить в жизнь «создания игры» творческого воображения посредством воли и энергии. Именно такая личностная позиция была в огромной мере присуща Блоку. Это — один из его «сокрытых двигателей», определявший и сознание, и психологию, и творчество.
«Понять Блока-поэта, - писал А. Белый, - значит понять неслучайность, органичность события написания «Двенадцати» не кем иным, как автором «Стихов о Прекрасной Даме»». Есть веские основания утверждать, что для этого необходимо уяснить всю значимость для Блока идеи преображения мира и человека и объективно исследовать те постоянно менявшиеся формы, в которые она облекалась в его «философии духа», мировоззрении и творчестве. Как справедливо отметил Д.Е. Максимов, «одним из коренных противоречий творческого сознания Блока являлась двойственность его лирического отношения к вопросу о возможности обновления и совершенствования жизни. Колебания в решении этого вопроса, борьба двух сталкивающихся ответов проходят через все его творчество».
Эпоха рубежа веков остро переживалась Блоком как переходный период от старого мира к новому. «Для многих наступление нового века совпало с решительным переломом в идеологии, -вспоминал позднее А. Белый. - ... Мережковский начинает писать исследования о Толстом и Достоевском, где высказывает мысль о том, что перерождается самый душевный состав человека и что нашему именно поколению предстоит выбор пути между возрождением и смертью. Лозунг его - "или мы, или никто", - становится лозунгом некоторых из молодежи, перекликаясь с древними пророчествами ... о значительности 1900 года как перелома эпохи».5 Именно «с 1900 года в поколении, выступившем вскоре под знаменем символизма, впервые обозначились грани их символического пути...»6 И уже тогда в их сознании «безмирное пересеклось с мирным, безвременное с временным».7 Блок к этому рубежному году успел пройти тот путь духовного развития, который вывел его на самое острие символистских исканий.
В 1898-1900 гг. Блок напряженно «переживал» русскую поэзию от Жуковского до Фета: он тогда и мыслил, и чувствовал, и творил в ее духе. Уже в те годы в его сознании укоренились романтические идеи «двоемирия» и неприятия обыденной действительности. Это была типично романтическая разочарованность: еще до близкого узнавания жизни, до настоящего соприкосновения с миром. В плане жизненно-психологическом такая изначальная установка выразилась в равнодушии к «страстям толпы». Блок прямо говорит об этом в одном из стихотворений юношеского цикла «Ante Lucem» (1898-1900):
Я - равнодушный серый нелюдим.... Толпа кричит - я хладен бесконечно, Толпа зовет - я нем и недвижим. («Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет...», 1899)
Подобное надмирное безразличие является отражением априорного неприятия «суетной земли». Образ ее оказывается унаследованным от поэтов-романтиков Х1Х-го века. Ранний Блок естественно воспринял ту поэтическую традицию романтиков, согласно которой земной мир пребывает во мраке, во "тьме", он бездуховен, не освящен высоким идеалом. Этот возвышенный идеал ведом лишь "избранникам миров", которые призваны нести свет Истины. Тема мессианского предназначения поэта-избранника несомненно нашла отражение в раннем творчестве Блока (в очень отвлеченной, декларативной форме):
Грани реальности и мятежи духа (1904-1909)
Пережив первый период страстного ожидания вселенского обновления, Блок очутился «на распутьи». Он чувствовал неизбежность переоценки своих прежних воззрений, необходимость установить новые отношения с действительностью.
К моменту выхода сборника «Стихи о Прекрасной Даме» (конец 1904 г.) Блок уже довольно далеко отошел от тех идей, которые составили его поэтическое содержание. Слава Блока как «певца Прекрасной Дамы» еще только нарождалась45, а он уже во многом воспринимал свои юные мистические грезы как сказочный романтизм «детства жизни», к которому нет возврата. Период «Стихов о Прекрасной Даме» Блок позднее образно назвал «мгновением слишком яркого света» (Т. 8. С. 344). Этот «свет» на время ослепил его, но он видел, что мир остается неизменным, чуждым Идеалу. Провиденциально должен был осуществиться постепенный переход к тем самым «тяжким снам житейского сознанья», которые Вл. Соловьев призывал «отряхнуть». «Во мне что-то обрывается, и наступает новое в положительном смысле, причем для меня это желательно, как никогда прежде», - признавался Блок в письме к С. Соловьеву от 8 марта 1904 г. (Т. 8. С. 94; курсив - Блока).
Грезы о «Великом», идея-мечта о грандиозных событиях не были преданы забвению, они стали основой иной, нарождающейся веры, которую Блок в то время стремился запрятать поглубже. В стихотворении «Моей матери» («Помнишь думы? Они улетели...», декабрь 1904) об этом сказано пока довольно сдержанно, но определенно:
Пусть к тебе - о краях запредельных Не придут и спокойные мысли. Но прекрасному прошлому радо, -Пусть о будущем сердце не плачет. Тихо ведаю: будет награда: Ослепительный Всадник прискачет. С одной стороны, здесь подразумевается образ из Апокалипсиса (всадник на белом коне, который "праведно судит и воинствует"), а с другой - образ всадника-рыцаря из стихотворения «Дали слепы, дни безгневны...» (май 1904; вошло в цикл «Распутья»). Оба — несомненно связаны со сферой главной блоковской Мечты. Была исчерпана не сама идея преображения мира, а тот период "первого сияния", когда "заревые знаки" вселяли надежду на всемирное чудо. Сроки свершений отодвинулись, накал чаяний значительно ослабел. А. Белый так передавал эту настроенность тех лет: «Ясно без слов осознавалось: зори слепительного дня суть зори далекого будущего, которого мы, вероятно, никогда не увидим, - ну что же, ничего, - оставались отблески зорь в душах». Прошедшее, по убеждению Блока и А. Белого, не было лишь бесплодными чаяниями. Одним из важнейших итогов эпохи «зорь» стало пробуждение избранных - наиболее чутких, самых преданных «вселенской мечте». «Пробудившиеся» (если использовать их символистский язык), т.е. глубоко пережившие мистические экстазы ожидания огненных бурь, пожаров, благих для мира потрясений, катастроф, венчающихся высшей гармонией, обрели дар и в будущем улавливать, предвосхищать явления и события, чреватые возможностью преображения реальности. Приближение «нежданной Радости» дано предчувствовать тем, кто обрел способность «читать знаки», остальным, пребывающим как бы во сне, не суждено прозреть: Кто не проснулся при первом сияньи -Сумрачно помнит, что гимн отзвучал, Чует сквозь сон, что утратил познанье Ранних и светлых и мудрых начал... («Ее прибытие», 1904) Ощущение Блоком своей призванности к «вселенскому делу», которое он пронес через все годы, питалось, в частности, именно его уверенностью в том, что он обладает неким сверхзнанием о духовной подоплеке мира. Ср., например, в декларативных строках «Незнакомки» (1906) (возможно, здесь не исключен некоторый элемент самоиронии):
И ключ поручен только мне! В неоконченной поэме «Ее прибытие» выражена вера поэта в то, что угасание мистических «зорь» не отменяет надежду на светлые перемены, на «бесконечные блага»; могут быть другие знаки и приметы, и облик нового мира может быть не таким, каким представлялся прежде; но ясно одно: впереди ожидают эпохальные события:
Блок со временем приобрел своеобразный опыт ожидания. Одним из залогов терпения явилось осознание им того, что нельзя достигнуть желанного грядущего, минуя реальность. Идея Преображения, обещавшая искупление зол, победу над смертью, торжество Духа, обретение внерационального смысла бытия, прежде должна проникнуть в мир, завладеть им. Блоку в те годы кризиса утопических чаяний было близко, вероятно, мироощущение молодого Вл. Соловьева, который, пережив иллюзии юности, пришел к такому убеждению: «Мы должны исполнять свою обязанность — вот и все, а определять времена и сроки - не наше дело. Иногда далекое представляется уму близким: тем лучше, это утешает».48
Очень важным оказывался вопрос о принадлежности души и сознания поэта к разным сферам: к реальности земной и чисто духовной. Ощущение Блоком себя, стоящим как бы «на распутьи», было во многом вызвано именно этими колебаниями его духа между двумя «мирами». Поэтическое воображение и мистическая экзальтированность до сих пор помогали ему легко превращать осязаемый мир в прозрачную завесу, за которой скрывалась сфера идеальных сущностей, область видений и мечты.
Грани трагедии (1910-1921)
В письме к матери от 1 апреля 1910 г. Блок писал: «Скоро жизнь повернется - так или иначе, пора уж. Кошмары последних лет - над ними надо поставить крест» (Т. 8. С. 305). Конечно, он подразумевал послереволюционные 1907-1909 гг., которые принято считать эпохой реакции, глухого «безвременья». Хотя в тот период Блок пережил и страстные восторги, и творческие озарения, и обогатился светлыми впечатлениями (особенно в путешествии по Италии), но в целом те годы, будучи по-своему яркими и незабвенными, оказались тягостными, мучительными для него. И все же он воспринимал их не только как кризисные, но и как переходные. В который уже раз, не зная точных сроков свершения, он предчувствовал грядущие перемены. Это касалось и состояния мира, и его собственной судьбы, и его творчества. Ему представлялось, что открывается возможность «новой жизни». И рубеж 1900-х - 1910-х годов являлся своего рода границей.
Эти блоковские настроения и предчувствия нашли отражение в двух эссе, посвященных памяти В.Ф. Коммиссаржевской. Символически воспринимая безвременную смерть актрисы, Блок писал: «Это еще новый завет для нас — чтобы мы твердо стояли на страже, новое напоминание, далекий голос синей вечности о том, чтобы ждали нового, чудесного, несбыточного те из нас, кого еще не смыла ослепительная и страшная волна горя и восторга» (Т. 5. С. 416).
Живой образ В.Ф. Коммиссаржевской всегда был для поэта символом веры, надежды. Имея в виду ее, он говорил, конечно, и о себе, когда утверждал: «Есть в мире люди, которые остаются серьезными и трагически-скорбными, когда все кругом летит в вихре безумия; они смотрят сквозь тучи и говорят: там есть весна, там есть заря» (Там же. С. 417; курсив — Блока).
Еще более важной в этом смысле является программная статья «О современном состоянии русского символизма», опубликованная в журнале «Аполлон» (1910, № 8). Оглядывая пройденный путь и оценивая настоящее, Блок прослеживал картину изменений в нескольких сферах, подспудную связь которых всегда пытался уловить: в народном сознании, в символистском искусстве, в своем внутреннем мире и в мистически ощущаемых «мирах иных».
Статья обильно насыщена эзотерическими метафорами, откровенно условными образами. Она по замыслу и исполнению была, по сути, обращена лишь к «посвященным» — символистам по миропониманию, по духу и призванию. Однако важное значение статьи обусловливалось теми заложенными в ней идеями и чувствами, которые проступали сквозь текст и которые оказались внятными многим. Сложность прихотливого языка, вызванная стремлением автора адекватно передать глубину и нюансы явлений, совершавшихся в разнородных сферах, не помешала постичь нечто сущностное в переживаниях поэта - обнаженно личных и в то же время универсальных: речь шла не просто о кризисе символизма, а об отношении в данный исторический момент к миру, к искусству, к художнику, о вере в будущее, о том, хватит ли сил для исполнения миссии, свершения духовного подвига во имя этого будущего. Наиболее чуткие улавливали «голос весны», который, выражаясь блоковским языком, звал «безмерно дальше, чем содержание произносимых слов» (Т. 5. С. 419). Соглашаясь с Вяч. Ивановым в том, что смутный, мятежный период «антитезы» на исходе, Блок по-своему изобразил пограничную ситуацию. Он высказал мысль об исчерпанности путей «пророка» и «поэта». Оба виделись теперь иллюзорными (при этом Блок, разумеется, осознавал высоту художественных достижений символистов). «Услужливые двойники» (различные «я» художника, подверженные иронии и хаосу), красивые призраки фантазии, миражи и т.п. явились взамен реальной данности «тезы» (идея Вечно-женственного начала мира и его единства в Духе) и косной, безыдеальной действительности. Но обрести в них духовную опору было невозможно: они мало наполняли смыслом жизнь и творчество художника. Увлечение причудливыми образами было своеобразным наваждением, которое не обещало даже преображения собственного «я», не говоря уж о «вселенском Преображении». Чем шире становился взгляд поэта, тем темнее казалась атмосфера мира и душевный фон. Но это, считал Блок, была констатация истинного положения вещей, когда драма зыбкого миросозерцания лирика превращалась в «трагедию трезвости» (А. Белый) мужественного художника.
«Ночь искусства», по словам Блока, затопила Врубеля в годы перед смертью (Там же. С. 424). Подобная участь неизбежна для художника в той мере, в какой он способен глубоко погружаться в «безмерный океан жизни и искусства» и остро ощущать «мировой сумрак»; тем более в ту эпоху, когда неразличим «иной берег» инобытия, к которому влечет мечта и творческая воля (Там же. С. 425). Недаром тогда Блоку близко было восприятие мира искусства как инфернальной сферы: «Искусство есть чудовищный и блистательный Ад. Из мрака этого Ада выводит художник свои образы...» (Там же. С. 434). Блок имел в виду художников, «прозревающих иные миры». К ним он относил Леонардо да Винчи, Рембрандта, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Врубеля, Коммиссаржевскую, А. Белого. И себя самого, конечно, тоже.