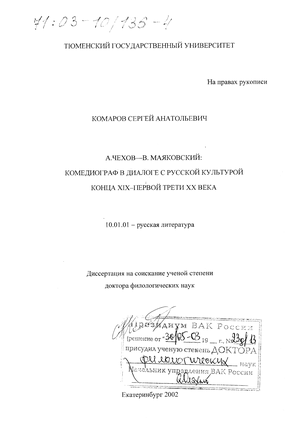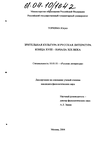Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Ситуация «смещения» в динамике русской комедии и проблема «нового слова» .
1.1. Христианская доминанта дочеховской рефлексии комедии. 21
1.2. Предпосылки, факторы и симптоматика парадигматического «смещения» в русской комедии. 35
1.3. К феноменологии чеховского поколения в русской литературе. 52
Глава II. А. Чехов - комедиограф: от «смещения» жанра к его модернизации .
2.1. Чехов на пути к модернизации комедии. 66
2.2. «Чайка»: литературность как ресурс модернизации комедии . 86
Глава III. «Чайка» и «Вишневый сад»: модернизация комедии в аспекте диалогического жеста А. Чехова.
3.1. Жизнетворческая эстетика слова в «Чайке» и диалогические схождения Чехова . 110
3.2. Поэтика «четвертого измерения» в комедии «Вишневый сад». 142
Глава IV. «Цикл идей» как механизм диалога и закономерность пути В.Маяковского к «Клопу» и «Бане» .
4.1. Стратегия творчества Маяковского и ее доминанта. 186
4.2. Диалогические схождения как фактор стратегии творчества и закономерность пути Маяковского к «Клопу» и «Бане». 208
Глава V. «Клоп» и «Баня» В. Маяковского и русская комедия 1920-1930-х годов постчеховского поколения в аспекте жизнетворческой идеи.
5.1. «Клоп» и «Баня» Маяковского в аспекте жизнетворческой идеи. 233
5.2. Русская комедиография 1920-1930-х годов постчеховского поколения в аспекте жизнетворческой идеи. 259
Глава VI. К итогам модернизации русской комедии (середина XX века).
6.1. Жизнетворческая идея как тема в комедиях Е. Шварца «Дракон» и «Обыкновенное чудо». 278
6.2. Неорефлексия жизнетворческого проекта в комедиях постмаяковского поколения (А. Вампилов, В. Шукшин). 292
Заключение 316
Примечания 322
Список литературы 383
- Предпосылки, факторы и симптоматика парадигматического «смещения» в русской комедии.
- «Чайка»: литературность как ресурс модернизации комедии
- Жизнетворческая эстетика слова в «Чайке» и диалогические схождения Чехова
- Диалогические схождения как фактор стратегии творчества и закономерность пути Маяковского к «Клопу» и «Бане».
Введение к работе
Актуальность и степень изученности вопроса. Отдавая отчет в том, что XX век был прожит по новым правилам и в соответствии с новыми (неклассическими) ценностями, сознание обращается к тому моменту, где переоценка ценностей была провозглашена и, возможно, произведена. Наука века минувшего эту веху постепенно сместила с 1910-х годов в конец девятнадцатого столетия, в 1880-е годы. Осознание радикальной перемены, вышедшей уже на поверхность процесса в 1890-е годы, пока может быть доказательно прослежено на судьбе отдельных генных цепочек культуры, каковыми являются жанровые ряды. Выбор такой генной цепочки должен быть репрезентативен для процесса в целом и иметь авторитетную, достаточно детализированную базу описания, чтобы снять по возможности соблазны отвлечения от решения заявленной стратегической задачи в пользу важных, но частных открытий.
Жанровый ряд комедии вполне отвечает этим условиям (требованиям). Комедия по своей природе обращена к массовому сознанию современников, вступает в непосредственный и плотный контакт со стандартами мышления неэлитарного читателя (зрителя). Она пытается в рамках этого процесса созидать коллективную эмоцию и реализовывать по возможности смеховую установку с опорой на базовую событийную схему: жизнь — смерть — воскрешение — жизнь. Как это делает комедия в момент глобальной и радикальной переоценки ценностей, какую стратегию избирают комедиографы в данных условиях — ясного ответа пока не существует, и сами вопросы к жанру в таком повороте не были обращены, не были поставлены во всей остроте, проблемности, с чувством историко-культурной перспективы. Очевидно, что они (вопросы) направлены не только к поэтике комедий, а прежде всего к сознанию их создателей. Как формируется стратегия работы в данном жанре, как она вписывается в общую стратегию творчества художника, как инициируется, порождается и материализуется в текстовые ходы комедиографом поле его диалога с культурными адресатами эпохи, избираемыми в качестве духовных спутников при разговоре с читателем (зрителем), — вот лишь некоторые аспекты, обойти которые невозможно при рефлексии заявленной проблемы.
Стержневое положение комедии в системе жанров русской драматургии XVIII и XIX веков сегодня авторитетно установлено (П. Н. Берков, А. И. Журавлева, О. Б. Лебедева, В. Е. Хали-зев). Зафиксирован и убедительно описан инвариант русской высокой комедии на данном временном промежутке, манифестирована ее способность «исчерпывающе воспроизводить всю целостность национального бытия, истории и характера», открыт и проблемно сформулирован феномен взаимосвязи (взаимозависимости) жанра комедии и личности художника, обращающегося к этому жанру, тем более создающего его национально и всемирно значимые образцы (О. Б. Лебедева). Не случайно в отечественной филологии наметилась в последние десятилетия линия монографических обращений, во-первых, к художнику как собственно комедиографу (И. Л. Вишневская, А. И. Журавлева) и, во-вторых, к комедийному классическому тексту как феномену национального масштаба (Ю. Н. Борисов, С. А. Фоми-чев, Т. Г. Свербилова).
Перу Чехова принадлежит, как известно, четыре крупноформатных комедии («Иванов», «Леший», «Чайка», «Вишневый сад»), перу Маяковского — два крупноформатных жанровых опыта («Клоп», «Баня»). Создавались эти тексты авторами на разных, но узловых отрезках жизненного пути, в этом смысле комедийные опыты являются метами стратегии творчества каждого из них. Характерно, что комедии венчают жизненный поиск Чехова и Маяковского, выступают в роли духовного «завещания» современникам и потомкам. Сближение имен Чехова и Маяковского, хотя и кажется парадоксальным на первый взгляд, уже имеет в литературоведении определенную традицию, идет и со стороны маяковсковедения и со стороны чеховедения. Специалисты по наследию автора «Клопа» и «Бани», зафиксировав связь творческих поисков художников еще в 1960-1970-е годы (3. С. Паперный, М. Д. Бочаров), практически не возвращались к этой перспективной идее, хотя косвенно она наличествовала в форме упоминаний о полемичности отношений Маяковского с Художественным театром. Чеховеды же, параллельно с коллегами по цеху обозначив проблему (М. Л. Семанова), в 1980-1990-е годы пусть не целенаправленно, но все же обговаривали ее аспекты (В.Б.Катаев, Э. А. Полоцкая, И. Н. Сухих). Суммарно
феномен «Чехов-Маяковский» сегодня видится так. Во-первых, художники принадлежат к разным историческим эпохам. Во-вторых, Маяковский как никто почувствовал в Чехове новое понимание красоты и предметности урбанистической цивилизации, родственное XX веку, и справедливо поэтому обозначил грань между Чеховым и его предшественниками. В-третьих, статья «Два Чехова» является программной для Маяковского, ведь в ней обсуждается природа слова, и знаково, что именно к опыту Чехова он обращается в самом начале творческого пути. В-четвертых, мышление Маяковского в его рефлексии наследия Чехова парадоксально, оно изменчиво в перспективе 1920-х годов. В-пятых, есть комплекс проблем миросозерцательного масштаба, общий для художников, в рамках которого очевидно сходство в постановке и даже решении ряда вопросов (соотношение бытия и быта, оппозиция «пошлость» — «любовь», свобода и демократичность в словоупотреблении при лаконизме и «сжатости» речи).
Чехов и Маяковский принадлежат к поколениям, возрастные параметры которых позволяют говорить о них как об отношениях «отцов» и «детей». Отец автора «Клопа» и «Бани» Владимир Константинович Маяковский был всего на три года старше Чехова, и прожил он немногим больше его. Отношения «отцов» и «детей» не идилличны, но их ценностные ряды обычно сопряжены. Есть чувство взаимозависимости и обоюдного знания при разности и полемичности задаваемых вопросов, при постановке задач и поиске их решений. Для поколения Маяковского имя Чехова было важнейшим личностным ориентиром. Специалисты по проблеме поколений в России XX века (М. О. Чудакова) однозначно это фиксируют (из письма 1924 года): «Нашему с Вами поколению ничего хорошего не видать, потому что <...> мы органически не можем уйти от того, что я решился бы назвать любовью к Чехову».
Осознание Чехова как величайшего русского стилизатора неизбежно приводит к признанию важнейшими двух особенностей его творчества — повышенной меры условности и диалогиз-ма (А. В. Кубасов). Если для сегодняшнего чеховедения это достаточная новость, то для маяковсковедов повышенная мера условности и диалогизм творчества художника (М. Д. Бочаров,
Н. Н. Киселев, Б. Л. Милявский, В. А. Сарычев, Ю. А. Смирнов-Несвицкий) были аксиоматичны с 1920-х до 1990-х годов, хотя автора «Человека» и «Клопа» не числили в последовательных стилизаторах. О стилизации у Маяковского говорили, но весьма редко (А. В. Скобелев). Аксиоматичность же условности и диало-гизма чаще «закрывала» проблему, чем проясняла ее. В последнее десятилетие Маяковского уже мыслят как художника монологического типа, в качестве монологиста противопоставляют иным фигурам поколения, например, Булгакову (В. В. Химич). В середине 1980-х годов был непродолжительный всплеск интереса к природе условности в пьесах поэта. Однако гибель «советской цивилизации» и поиск новой идентичности в России неизбежно уводили разговор об авторе «Человека» и «Клопа» из сферы филологии. Поэтому повышенная мера условности и диа-логизм не только общие сущностные черты творческого наследия Чехова и Маяковского, но и актуальное проблемное поле для исследования.
В работах последних лет логика уточнения сущностных сторон миросозерцания Чехова неизбежно приводит к анализу конкретных жанров в художественной системе автора (святочный, рождественский и пасхальный рассказ), к осознанию его «стремления «модернизировать» жанр» (А. С. Собенников). То же можно сказать и о создателе «Человека» и «Клопа». После известной монографии А. С. Субботина нет сомнений, что «в применении к поэзии Маяковского жанровая «мера» совершенно необходима». Столь же необходима она и в применении к его драматургии. Показательно, что разговор о жанре был увязан А. С. Субботиным с «творческими диалогами» Маяковского. Связь эта структурно закреплялась однопорядковостью разделов его монографии (два — о жанрах, третий — о «диалогах»). Для чеховеде-ния изучение творческих диалогов в качестве программы на десятилетия было обозначено этапной работой В. Б. Катаева. Им точно сформулированы и критерии оценки поисков в данном направлении: «важно, чтобы устанавливаемые связи были действительными, не мнимыми», и чтобы «открывали что-то новое в произведении и его авторе». Связывает феномены произведения и диалога проблема языка. Ю. М. Лотман, размышляя о театре, обозначил это четче других: «Нужна языковая общность,
некоторый общий объем культурной памяти. Только он позволяет окружить текст затекстовой смысловой атмосферой»; «Первый вопрос всякого диалога: на каком языке?»; «всякий подлинно художественный текст является своего рода «обучающей машиной», то есть, заключая в себе новый художественный язык, содержит и «самоучитель» этого языка». Поэтому произведение и способно выразить стратегию творчества конкретного художника, его искусство планово руководить собственным творчеством, основываясь на исторически перспективных далекоидущих прогнозах. В рамках такой стратегии может формироваться своеобразный диалогический жест автора. Он подразумевает зна-ковость, публичность, направленность диалогических отношений к культурным адресатам, определенность и общепонятность их (отношений) смысла.
Восприятие европейских феноменов проясняет внутренние механизмы именно русской культуры и потому мыслится в данной работе как ее «литературный факт».
Цель данного диссертационного исследования — прояснить системность диалогических отношений Чехова и Маяковского в качестве комедиографов с русской культурой конца XIX - первой трети XX века и показать закономерный характер этой системности.
Для достижения цели в диссертации решается ряд задач.
Доказать наличие христианской доминанты в дочеховской рефлексии комедии, показать предпосылки, факторы и симптоматику парадигматического «смещения» в развитии русской комедии.
Выявить основные звенья логики перехода Чехова-комедиографа от «смещения» жанра к его модернизации и роль диалогических схождений драматурга в этом процессе.
Доказать наличие установки Чехова на интеграцию с авторитетными для эпохи «голосами» постхристианской ориентации, принадлежащими преимущественно художникам его поколения, и полемичность автора «Чайки» и «Вишневого сада» в диалоге с художниками предыдущего поколения, исповедующими христианские ценности, продемонстрировать стратегию Чехова, направленную на актуализацию ресурсов национальной мифообразности.
Очертить платформу диалогического схождения Чехова-комедиографа с мифологической линией отечественной филологической мысли второй половины XIX века и обозначить перспективу диалога автора «Чайки» и «Вишневого сада» с последующим развитием русского модернизма XX века.
Выявить программный механизм диалога Маяковского с эпохой в рамках его стратегии творчества и показать, как данный механизм подводит поэта к необходимости работы в жанре комедии.
Продемонстрировать жизнетворческую направленность русской комедиографии с конца XIX до середины XX века в качестве ее структурной особенности, указать и охарактеризовать фазы существования данного явления, их сопряженность с природой жанра.
Доказать целостность и относительную завершенность процесса модернизации русской комедии на историческом отрезке с конца XIX до середины XX века, обозначить его постхристианскую основу и статус диалога, связанный с ней.
Между фамилиями «Чехов» и «Маяковский» в названии работы стоит «тире», а не традиционный в таких случаях союз «и». Это сделано по ряду причин. Во-первых, отношения между комедиографами могли носить только заочный характер и быть человечески активными лишь со стороны «младшего» — Маяковского. Во-вторых, при всей персонификации Чехова и Маяковского в замысле работы основополагающим было стремление расслышать их «голоса» как «голоса» эпохи, причем эпохи единой. Тире должно зримо воплотить, выразить эту связь «голосов» поколений в рамках единого способа ставить и решать культурно-эстетические задачи, называемого вслед за Т. Куном парадигмой. Тире показывает, что преемственность Чехова и Маяковского выстраивается опосредованно, то есть через личный диалог каждого из них с авторитетными адресатами эпохи.
Временные рамки продиктованы пределами творческой активности и физического существования изучаемых комедиографов — с 1880-х по 1930-е годы. Критерием отбора материала и естественным ограничителем хронологии является инициативность, исходящая от Чехова и Маяковского к конкретным адресатам. Исследуются только те связи, которые инициируются
Чеховым и Маяковским и которые существенны для их стратегии творчества в качестве комедиографов. Важно и то, что они (связи) так или иначе оставили след в переписке или в текстах художников. В творчестве Чехова анализируются именно крупноформатные комедии, в этом также опора на сложившуюся в отечественном чеховедении традицию, отделяющую водевили или малоформатные пьесы в специальный раздел исследования (3. С. Паперный, Б. И. Зингерман).
В качестве стержневого понятия используется «диалог» в бах-тинском понимании данного феномена. В силу того, что работа посвящена феноменальности сознания двух комедиографов и их речевой практике, в ней освещаются преимущественно мотивация Чехова и Маяковского, исходящая из их стратегии творчества и избирательно направляемая к различным адресатам — «голосам», а также то поле согласия Чехова и Маяковского с ними, которое служит косвенно или прямо созидательным, строительным материалом их комедиографии. Диалог исследуется и по соображениям более общего характера. В силу того, что нарастание свободы на различных уровнях функционирования искусства слова — несомненная макротенденция мировой литературы (Д. С. Лихачев), диалогичность не может не быть его существенной составляющей (особенно в вершинных явлениях).
Новизна исследования заключается:
в постановке проблемы системности диалогических отношений Чехова и Маяковского в качестве комедиографов с русской культурой конца XIX - первой трети XX века;
в доказательстве через конкретную генную цепочку (жанровый ряд) единства эпохи конца XIX - первой трети XX века;
в обнаружении закономерности и фазности процесса модернизации русской комедии, в открытии важности поколенчес-кого механизма для развития жанра;
в выдвижении идеи о модернистской природе комедий «Чайка» и «Вишневый сад» и открытии индивидуального чеховского мифа в них;
в существенном уточнении стратегий творчества Чехова и Маяковского и статуса диалога в них;
в установлении ряда новых диалогических «сюжетов» (Чехов — Соловьев, Чехов — Даль, Чехов — Афанасьев, Чехов —
Потебня, Маяковский — Соловьев, Маяковский — Бергсон), в превращении ряда «литературных связей» комедиографов в знаковые духовно-событийные «сюжеты» их творческого пути (Чехов — Ницше, Чехов — Розанов, Маяковский — Шварц, Шварц — Ницше), в обновленном прочтении известных «сюжетов» (Чехов — Толстой, Чехов — Мережковский, Чехов — Мопассан, Маяковский — Булгаков, Маяковский — Эрдман, Маяковский — Безыменский, Маяковский — Асеев, Маяковский — Вампилов и др.);
в обнаружении связи между структурой неклассической комедии и философией жизнетворчества, в показе актуализации архаической схемы жизнь — смерть — воскрешение — жизнь и изменения соотношений «носителей» жанра новой русской комедии конца XIX — середины XX века;
в новом прочтении ряда пьес, являющихся основой жанрового репертуара русского театра.
Методы исследования связаны с целью и задачами диссертации, ее материалом и предметом. Работа строится на сочетании элементов историко-генетического и типологического, культурологического и семиотического подходов к анализу литературных явлений. Она ориентирована на традиции отечественной филологии, на широкое современное толкование исторической поэтики. Вместе с тем учитываются достижения зарубежной славистики, направленные на глубину понимания конкретного текста и авторского послания читателю, на воссоздание реальных контекстных связей в «малом времени».
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 1) в показе механизмов неклассического миромоде-лирования и коммуникации на примере высших образцов одного из жанров драматургии на более чем полувековом отрезке его исторического функционирования; 2) в развитии парадигматического подхода к литературному процессу в аксиологическом аспекте (христианская / постхристианская парадигмы); 3) в пересмотре состава русского классического реализма и границы между реализмом и модернизмом в отечественной драме (Чехов — комедиограф 1890-1900 годов как модернист); 4) в анализе диалога как важнейшего элемента стратегии творчества художника; 5) в установлении сопряженности духовных феноменов эпо-
хи (жизнетворчество) со структурой жанра и роли смены поколений в развитии жанрового ряда.
Практическое использование результатов работы возможно в процессе чтения общих и специальных курсов, посвященных истории русской литературы XIX и XX столетий, в школьном преподавании отечественной словесности (ряд анализируемых в диссертации пьес входит в стандарт литературного образования россиян). Кроме того, итоговые материалы исследования могут быть интересны практикам театра, широкому кругу филологов-славистов, культурологов, всем, кому дороги такие имена русской культуры, как Чехов, Соловьев, Маяковский, Булгаков, Шварц, Эрдман, Вампилов, Шукшин.
Апробация результатов исследования. Основные положения работы послужили основой выступлений на международных и всероссийских научных конференциях в Москве (МГУ — 1991), Томске (ТГУ — 1982, 1985, 1988, 1992, 1995, 2001), Иркутске (ИГУ — 1987), Екатеринбурге (УрГУ — 1994, 1996; УрПГУ — 2002), Тюмени.
Предпосылки, факторы и симптоматика парадигматического «смещения» в русской комедии.
Известно, что «восьмидесятые годы завершают историю русского классического искусства XIX века и определяют характер культуры в XX веке», да и самими современниками они воспринимались «как самостоятельный период, противопоставленный в их сознании шестидесятым и семидесятым годам» [Кондаков 1997: 3-4, 10]. Б. В. Кондаков отмечает в качестве важнейших примет этого времени (1880-1893 г. г.) начало формирования установки не на переделку мира, а на изменение (самоизменение) человека, переход от приоритета «идеологии» к приоритету «культуры», ориентацию на спокойное, мирное развитие общества . И что важно — именно «литературная и театральная жизнь начинают рассматриваться как концентрированное выражение проблем, стоящих перед культурой в целом» [Кондаков 1997: 9-11, 20].
В науке бытует убеждение, что эпоха 1880-х годов была неблагоприятной для развития комедии [Штейн 1990: 306]. С этим трудно согласиться.
Подвижки в стержневом жанре русской прозы этого времени — романе — были достаточно продуктивны для комедии. Имеется в виду отслоение авторского-завершающего героев-плана от сознания и самосознания персонажей. Это создает возможность для сопоставленности двух смысловых рядов — существенную предпосылку возникновения комического эффекта. Предметом «нового» романа «является не столько лицо, сколько процесс жизнедеятельности, коллективный опыт отношений к жизни», а значит, внимание к типовому, столь важное для комедии. Развитие очерковых форм выдавало общественную потребность в «равенстве читателя и писателя и одинаковую их способность интерпретировать факты» [Дергачев 1992: 212-215, 217]. Эта демократическая договоренность между автором и читателем (зрителем) выступала также жанрообразующим фактором комедии.
Сама эпоха вела «к своеобразному отрицанию авторитарности мышления», то есть каждая позиция подозревалась в возможности субъективизма, подвергалась критическому анализу в своих тенденциях и перспективах, жестко проверялась на соответствие реальным фактам. Это также важнейшая предпосылка комедийного мышления. В литературе идут «поиски нестабилизированных жанров», потому что важно ухватить текущую действительность, вступить в острый контакт с современностью. Казалось бы, для этого приспособлен «открытый» жанр романа. Но он как раз в это время «стандартизируется», что связано «с известной неподвижностью концепции человека и его отношения к общественной среде, лежащей в основе творчества авторов этих романов» [Дергачев 1992: 210-211, 216]. Иначе говоря, внутри эпохи наличествует твердое общее знание автора и читателя, вокруг которого может строиться комедийная игра. А так как «демократическое требование равенства личности находило своеобразное выражение в равенстве сознаний, отраженных в художественном произведении, включая принципиальное равенство сознания автора и персонажей, автора и читателя», то основа для комедийной игры была достаточно широкой и прочной. Появление таких жанров, как притча, сказание, легенда, «часто вторгающихся в самые актуальные споры эпохи по социальным и нравственным проблемам» и по-своему «примиряющих» реальное и идеальное [Дергачев 1992: 219], открывало путь и комедийной мифологизации современности. А еще Шеллинг отметил это в качестве одного из важнейших механизмов мышления комедиографа [Шеллинг 1996: 421, 424].
Известно, что в повествовательных жанрах XIX века «уменьшается роль субъективного авторского начала и одновременно увеличивается роль точки зрения персонажа или персонажей», более того, «расширяется круг точек зрения, отраженных в тексте, возникают сложные пересечения разных взглядов на один и тот же предмет речи» [Кожевникова 1994: 326]. Эти макротенденции, очевидно, имеют межродовой характер. В частности, они «подпитывают» такие параметры драматургической формы комедии, как единство действия при нарастающем количественно и качественно многоголосном субъективизме действующих лиц, их ценностном выравнивании и самовыявлении в рамках художественного целого.
В недрах русского классического реализма формируется «поэтика преображения». Ее атрибутами исследователи называют «эстетическую объективность, достигаемую за счет художественного совмещения разных точек зрения на один «объект» изображения», синтез исповеди и сатиры, где освобождение от порока понимается как жизнетворчество, а не выполнение традиционных дидактических задач, причем «автор столь же открыт для сатирических обличений, как и герой», и в этом их специфическое равноправие [Ауэр 1995: 31-32]. Это постоянство сочетания самоосуждения с осуждением мира, гротескный психологизм, соединивший психологический анализ с нравственной философией, поэтика антропологических гротесков, связанная с антиномией «реальная история — идеальная история», свидетельствовали о новой телеологичности искусства [Ауэр 1995: 7, 15, 30, 32]. Она проявлялась в свободе и широте сочетаний, связей как в плане автора, так и в плане героя, причем сами эти «планы» стали более открытыми друг другу, соотносимыми и даже соизмеримыми между собой. Отмеченное было действительно коллективным завоеванием, общим вектором развития, хотя продвинутость конкретных художников относительно разных параметров данной системы вполне может быть зафиксирована и подчеркнута специалистами.
Новая телеологичность, толкуемая как новое целеполагание литературного произведения (философское, этическое, эстетическое), порождала особую широту и свободу детерминации человека, особое сочетание в герое природы, страсти и многомерности [Щенников 1987: 330-334]. Удерживать эту широту и свободу многоуровневой детерминации изображенного в рамках органичного художественного целого можно было лишь за счет усиления условно-утопических скреп. Их роль закономерно усиливается, они получают все более прочное концептуальное и предметное обоснование, проникают во все роды и жанры, в перспективе готовя русскую литературу первой трети XX века.
Тенденция многомерности и объективности реализуется в формах сопряжения самых различных эстетических категорий, эстетических регистров: грубая балаганность и утонченная ирония [Минц 1971: 139-140], отвратительное и трагическое, возвышенное и низменное, трагическое и комическое [Алексеев 1991] и др.
«Чайка»: литературность как ресурс модернизации комедии
Свою «Чайку» он назвал не драмой, не трагедией, а комедией. Для точного прочтения пьесы «нужно проникнуть в логику авторского жанрового определения, предполагая, что Чехов-то уж знал, чем комедия отличается от трагедии и драмы» [Катаев 1989: 197].
Последовательно проведенное построение «Чайки» по схеме: А любит Б, Б любит С, С любит Д и т. д. есть прежде всего средство, предохраняющее героев от драматической открытости друг другу, возможности слышать и действенно сопереживать услышанному. Это средство ограничения и замыкания комедийного героя на субъективизм его мироотношения. Статичность [Катаев 1989: 178-179, 182-183; Штейн 1990: 308], так закрепленная, позволяет Чехову оперировать множеством героев одновременно. О проекции комедии «Чайка» на шекспировского «Гамлета» написано достаточно много [Катаев 1989: 183-184]. Но диалогический контекст этой проекции обычно опускается, а он весьма специфичен.
В 1882 году в России свет увидели сразу четыре статьи, актуализирующие проблему гамлетизма и носящие во многом программный характер. Авторы статей (П. Л. Лавров, А. М. Скабичевский, П. Ф. Якубович, Н. К. Михайловский) рассматривали гамлетизм как тип современного общественного сознания, делали акцент на его слабости. В гамлетоподобных людях ими отмечалась неспособность жить как все, отсутствие энергии и деятельной воли, раздвоенность души, предрасположенность к аффектированному самобичеванию, скептицизм и пессимизм по отношению к себе и роду человеческому, склонность к помешательству, пьянству и самоубийству. В сниженном варианте такой тип именовался человеком-«тряпкой». Примечательно, что в рассказе Чехова этого же 1882 года «Барон» гамлетовская тема обретает концептуальный статус. Однако эстетика гамлетизма имеет у Чехова свои параметры, и они преимущественно положительно, сочувственно и сложно окрашены в отличие от модели гамлетизма у публицистов. То, что публичные споры о современном гамлетизме не прошли мимо внимания Чехова, наглядно показывает сопоставление степени разработанности гамлетовской темы у художника на конец 1881 и конец 1882 годов, соответственно рассказов «И то и се (Поэзия и проза)» и «Барон». В четвертой главке рассказа «И то и се (Поэзия и проза)» писателем пока безотносительно к судьбе и сознанию героя, но все же структурно зафиксирована сопряженность бытового и бытийного рядов, тем театра, жизни и любви, показано вырастание комического из трагедии. Причем у Чехова эта главка находится в ряду с четырьмя другими, где тема любви (в ее поэтически-прозаической амбивалентности) «пропущена» через героев разных возрастов, профессий и эпох. Таким образом, она разомкнута в процесс жизни, в ход времени. Вместе с тем, однопорядковостью главок схвачена общность нестыковки «духа» и «материи» в каждой из них.
В рассказе «Барон» (С. I; 452-458, 531-535) уже структурно оформились параметры чеховского героя гамлетовского типа — подчеркнутое духовное бескорыстие, нервность и страстность натуры, непосредственность, глухота к материальному, бытовому, погруженность именно в процесс духовного переживания, связь со сферой театра (игры) как аналога чистой, подлинной и братской жизни, акцентировка на реализации лучшего в себе и выявление личностных преград, мешающих этому, расположенность и потенциальная вписываемость в радикально новые неконфликтные отношения между людьми, детскость и беззащитность, непринятость в круг профессионалов определенной сферы деятельности, не проясненная до конца читателю «недостаточность» таланта героя, препятствующая его стабильному общественному признанию, способность и открытость к жертвенности, усердная сосредоточенность на любимом деле, соотнесенность начала и конца жизни. Барон как человек у Чехова завистлив, злобен, жесток в оценках, навязчив в критике других, непредсказуем и антиэстетичен в формах внешнего проявления своих впечатлений и т. д. Но все же это «ответвления» от сочувственно принимаемого художником алгоритма данного героя. Сложность явления и причин, ее порождающих, была общим моментом в виденьи проблемы современного гамлетизма автором «Барона» и, например, Н. К. Михайловским [Михайловский 1995]. Здесь «содержалась» перспектива соразмышлений деятелей культуры конца XIX века.
Итак, Чехов сразу включился в диалог о гамлетизме как живом, актуальном явлении, имел свой взгляд на проблему. «Чайка» — одно из звеньев этого диалога о гамлетизме. Соединение искусства и жизни мотивирует постановку пьесы Треплевым на естественном природном фоне (что будет удержано и в финале). Актрисой и влюбленным в нее автором пьесы ставится вопрос о возможности примирения духа и материи (Монолог о Мировой Душе). Все это сразу спроецировано Чеховым на сцену «мышеловки» из «Гамлета», заявлена проблема для героя «быть или не быть» (открытая как в духовный, так и в физический план). Тем самым для Треплева намечена и ожидаемая линия поведения — длительность рефлексии, радикализм и трагизм финального действия . Задана духовная высота героя. Перед финальным приходом Нины Чехов «организует» важнейшее для Треплева и для зрителя признание: «Как легко, доктор, быть философом на бумаге и как трудно это на деле!». Переход от философствования на бумаге к философствованию на деле и придется совершить герою, опровергнув комедийное амплуа, заданное говорящей фамилией «Треплев».
Жизнетворческая эстетика слова в «Чайке» и диалогические схождения Чехова
Есть документ, фиксирующий свободное от затемняющих условий рассуждение Чехова о мире и человеке. Это ответ дяде писателя по отцу, таганрогскому купцу (он на почти тридцать лет старше Антона Павловича), который просит разъяснения для своего тринадцатилетнего сына по поводу написания и смысла его имени Владимир. Чехов рассуждает серьезно и предельно ясно, потому что осознает интимность просьбы подростка: «Владеть нельзя міром, это правда. Нельзя владеть и миром, но называть человека владыкою міра можно. (...) народы и история имеют право величать своих избранников как угодно, не боясь оскорбить величие божие и возвысить человека до бога. Дело в том, что в человеке величаем мы не человека, а его достоинства, именно то божеское начало, которое он сумел развить в себе до высокой степени. (...) Употребляя эти названия, мы не лжем, не преувеличиваем, а выражаем свой восторг, как мать не лжет, когда говорит ребенку: «Золотой мой!». В нас говорит чувство красоты, а красота не терпит обыденного и пошлого. (...) Чувство красоты не знает границ и рамок» (П. II; 18). В рассуждении очевидна своя логика. Слова (имя) могут не отвечать реальности, возможности, причем и у народов, и у конкретных людей, но, по Чехову, это нормально. Реальность и нереальность через слово (имя) вполне смешиваемы, и стимул здесь высок (чувство красоты). Это чувство «не знает границ и рамок», оно в природе человека, оно само способно «говорить». Задача каждого — помочь природе проявиться. Отсюда высокая миссия искусства перед каждым человеком в человечестве, естественность его жизнетворческой направленности. Отсюда необходимость и оправданность «литературности» драматургии. Чехов в 1899 году прямо заявит, что пишущий пьесы как «профессиональный драматург» — это человек несвободный, что надо быть «поэтом и художником». Причем «поэтичность» он понимает предметно: интимность любви, «вдохновение и религиозное настроение», «компактность, выразительность, пластичность фразы», ощущение за человеком и словом «русской природы» и «русского искусства с Толстым и Васнецовым» (П. VIII; 171-172).
Первое, что видит читатель и зритель, — это список действующих лиц. Именование героя — максимум авторской воли, божественная функция творца, обозначающего судьбу. В «Чайке» Чехов последовательно уравнивает всех персонажей посредством их именования. Начнем с Треплева. Выше отмечалось, что в финале герой опровергает, опрокидывает смысл своей говорящей фамилии, перестает быть «треплом». Но это лишь одна из сем именования персонажа. Не менее, а может, и более важны семы иные: 1) «трепел — земля, камень кремнистой породы, идет на лощение металлов, также на огранку стекла»; 2) «трепел — птица»; «трепловая сеть, трепловка — более на куропаток, ставится вроде тенет или перевеса, на шестах, от 6 до 8 аршин вышиной, с посадкой или пузиною, и птица заганивается»; 3) «трепать, трепнуть, трепывать — теребить, тормашить, дергать» [Даль 1955: IV; 428-429]. Треплев своими театральными опытами «теребит» и «тормашит» окружающих. Искусство для него — это полет (полет собственный и Нины) и одновременно ловушка, «тенета» для Заречной (способ сблизиться, сделаться нужным, влюбить в себя, «покорить») и для себя самого (охота на чайку, предсказание смерти, самоубийство, судьбоносная сосредоточенность на любви к Нине и искусстве). Второе значение из Даля является ключом и к появлению слова «куропатки» в монологе о Мировой душе. Первое значение (земля, камень кремнистой породы, идущий на лощение металлов и огранку стекла) мотивирует жизнестойкость, твердость убеждений, необходимость поисков Треплева (это усиливается, подтверждается и именем Константин — постоянный), а также его предназначенность для таланта Нины, ожидание брака с ней на небесах. Но главное — это обозначение природной стихии (земля) и одной из ее особых пород, ведь оно будет системно смыкаться с именованием других героев.
Дорн — фамилия столь же программная. В ней есть сема «дернуть, дергать», а это, по Далю, — теребить, шевелить (что перекликается, почти совпадает с треплевскими значениями), и еще: «навел, натолкнул, соблазнил» (что оправдывает и предопределяет такие качества героя, как донжуанство и
резонерство) [Даль 1955: I; 429] х. Но символообразующей выступает сема иная: «задервеневшая земля; верхний слой почвы, густо заросший злаком, колосовою, луговой травой; луговина, печорье, травина, мурава, мур; мелкотравчатый пласт, непашь или целина»; «дерноватый крестьянин — приписанный, прикрепленный к земле, крепостной, от стар. Дернь — недвижимость в вечном нерушимом владении, собственность, собина» [Даль 1955: I; 432]. Принадлежность Треплева и Дорна к одной стихии (земля) объясняет особое понимание доктором Константина. В этих значениях очевидны и такие параметры его жизнеповедения, как нелюбовь к иллюзиям, трезвость суждений, ироничность и определенный скепсис, профессиональная деловитость, знание силы и инерции природы, повседневности.
Иную стихию воплощают, судя по фамилии, Шамраев и его семейство (семейный принцип важно учитывать, ведь и Аркадина в замужестве Треплева, ведь Шамраевы и Маша, и Полина Андреевна): «шамра (чамра) — удар, набег ветра, шквал (морск.); рябь по воде в затишь» [Даль 1955: IV; 620]. Духовные несовпадения Маши и Константина, Полины Андреевны и Дорна (они сюжетно закреплены) могут быть в определенной степени объяснены принадлежностью героев к разным стихиям: воздуха (ветра) и земли. Одна стихия в самой формуле именования персонажа указывает на другую: воздух на воду (шквал, рябь по воде).
Водная стихия представлена не только фамилией Заречная (река), но и фамилией Сорин: «сор — навоз; всякая помеха для тяги бичевой: каменья, кусты, деревья, как прибрежные, так и по венцу (кряжу), если бичева по ним проходит; отмель, поросшая камышом или кугой; поймы, род залива, более или менее постоянного; если вода и застаивается вовсе на сору, то он не зовется озером, потому что связан проливами с рекою, и всегда стоит вровень с нею» [Даль 1955: IV; 276]. Так герой «выведен» автором через фамилию на / символику «колдовского озера», объяснено, почему действие пьесы происходит в доме, принадлежащем Сорину (кремнистая земля должна соприкоснуться с миром реки). Акцент на замутненности, засоренности стихии перекликается с личным ощущением Сориным недостигнутости самого важного, сущностно предназначенного от рождения.
Фамилия Тригорин также неоднозначна, как и функции персонажа, поименованного ею. Она стилизована под тургеневский стандарт, но семы ее не столь литературны. «Гора» позволяет отнести героя к стихии земли, это подчеркивает соизмеримость по природе с Треп левым и Дорном. Соперничество с Константином закреплено начальными звуками фамилий (тр), а также возможностью рассматривать тре (три) в качестве выражения превосходной степени чего-либо в герое [Даль 1955: IV; 432]2 — правда, у любовника Аркадиной в фамилии данная особенность прорисована четче.
Диалогические схождения как фактор стратегии творчества и закономерность пути Маяковского к «Клопу» и «Бане».
Закономерно, что Соловьев и Маяковский близки в понимании «художества», его целевой направленности. Искусство для них — это не сфера зарождения и роста идей, а область их ощутительного воплощения. Искусство «в своей окончательной задаче» «должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь», на деле «воплотить абсолютный идеал», человеческое и божественное в нем придут к «свободному синтезу». И потому художественное произведение есть «всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета или явления с точки зрения его окончательного состояния, в свете будущего мира». Соловьев и Маяковский исходят из пафоса переделки мира, очеловечивания мертвой материи, одарения ее словом (способностью выражаться вовне), увековечиванием ее индивидуальных проявлений и тем самым обессмертиванием ее [Соловьев 1911: IV; 84-85, 90]. Маяковский вслед за Соловьевым считал, что «народы живут и действуют не во имя себя или своих материальных интересов, а во имя своей идеи, то есть того, что для них всего важнее и что нужно всему миру, чем они могут послужить ему, — они живут не для себя только, а для всех» [Соловьев 1899: 370]. Художественное практика поэта и драматурга, его статьи красноречиво свидетельствуют об этом.
Именно Соловьев, пытавшийся понять «общий этико-исторический закон» жизни [Соловьев 1899: 361], стал стержневой и координирующей мировоззренческой опорой для Маяковского. Другие влияния (Маринетти, Ницше, Маркс, Ленин, Бергсон), хотя и были значимы для поэта и весьма ощутимы в его творчестве, однако они дополнительны к соловьевству Маяковского, которое определило его концепцию человека, любви, войны, бессмертия и искусства. Вместе с тем, Соловьев и его концепция были достаточно открыты учениям Маркса и Ницше, учитывали их. Соловьев подчеркивал значение последних, например, в работе «Идея сверхчеловека». Конечно, в творчестве Маяковского присутствует культ молодости, силы, напора, агрессивности, презрения ко всему неживому, музейно-мертвому. Это от Маринетти, идеи которого поэт подключал к сознательно выражаемому им «циклу идей». Идеи Маринетти непрямо сопрягались с ницшеанством в его волевом индивидуализме, антихристианстве и антитрадиционализме, что у Маяковского отчасти смягчалось через его соловьевство. Непрямо Маринетти стыковался и с марксизмом во внимании к конкретно-историческим реалиям жизни, их неизбежной сменяемости, подчиненности духовно-физического мира человека историческим законам, акценте на технико-экономической составляющей существования.
Идеи социальной революции, смены формаций, классовой борьбы и исторической миссии пролетариата были усвоены Маяковским непосредственно у Маркса и Ленина. По принципу дополнительности они входили в «цикл идей», выражаемый поэтом, хотя для него они могли и опосредованно сопрягаться с идеями, изложенными Соловьевым в десятой главе «Оправдания добра». И дело не только в конкретных оценках Соловьевым, например, философии Маркса. Проблема в глубинном совпадении логики поиска русского и немецкого мыслителя, в опоре на общую философскую традицию. Вот что по этому поводу пишет П. Гайденко: «Как и в немецком идеализме, общекосмический процесс переходит у Соловьева в исторический. С той же необходимостью, с какой природно-космический процесс рождает физического человека, исторический процесс должен завершиться становлением человека духовного; так преломляется у русского философа идея прогресса в ее фихтеански-гегельянском варианте. Свободное решение, свободный выбор и деятельность отдельного индивида здесь, в сущности, большой роли не играют. Исторический процесс сам по себе с внутренней непреложностью ведет к торжеству добра: здесь позиция Соловьева совпадает не только с гегелевской, но и с марксовой» [Гайденко 1994: 95]. В поэме «V Интернационал» детерминизм выражен настолько прямо, что Маяковскому потребовалось окрасить его откровенной иронией лирического героя, чтобы сохранить живую природу идеи: «Собрать бы молнии / да отсюда / в золотоконный / в этот самый / в Мулен / в Руж.../Да не попрешь? /Исторические законы! / Я марксист, /разумеется, не попру ж! /Если б вы знали, /с какой болью /ограничиваюсь свидетельской ролью» (IV; 125).
Напомним, что и историософия ближайшего конкурента из «классиков» для Маяковского — Блока тоже во многом опиралась на гегельянскую линию — с ее верой во всеобщность, необходимость и стадиальность мирового развития, телеологизм, фатализм и т. п., как верно отмечено В. М. Паперным [Паперный В. 1979: 102]. Вообще «совпадения» в философских привязанностях символистов и постсимволистов (в частности футуристов) не случайны, ведь их культурная парадигма едина. Исследователями Маяковского, во всяком случае, это осознается. Вот что пишет по данному поводу В. В. Мусатов, имея в виду поэмы «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!»: «Маяковский не случайно так яростно отстаивал идею «слышимой поэзии», всячески подчеркивая роль исполнения в раскрытии ее смыслов. Поэт в роли исполнителя становится литургом, он не говорил, но священнодействовал. Символистская идея художника-теурга парадоксально решалась Маяковским в рамках революционного искусства, призванного творить новую действительность» [Мусатов 1993: 28].
Однако Маяковский, на взгляд Мусатова, найдя жанр, «диктовавший образ и роль поэта-теурга», «вплотную подходил к пределу этого жанра», а «его самоубийство завершило жизнетворческую линию русской поэзии, берущую свое начало в русском символизме, от которого Маяковский весьма и весьма зависим и без которого вряд ли может быть правильно понят» [Мусатов 1993: 28, 31]. «Поэтическая идея» художника, на взгляд исследователя, была полностью исчерпана, суть же духовной задачи Маяковского верно определялась как «переделка человечества по новому штату» [Мусатов 1993: 30, 31].
Та разъяснительно-популяризаторская и аналитическая работа, которая была проделана как старшими символистами (Д. Мережковский), так и младшими (А. Белый) [Иванов 1988: 345-358] была чутко, по-деловому воспринята и использована Маяковским в «сотворении» себя.
Прежде всего это касается идеи Белого о сущности «будущего искусства»: «Вот ответ для художника: если он хочет остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой. Только эта форма творчества еще сулит нам спасение. Тут и лежит путь будущего искусства» [Белый 1994: 144]. Единственным, кто реализовал к тому моменту уже на практике эту задачу, Белый называет Ницше: он «символист, проповедник новой жизни». Белый пишет, что «учение Ницше о личности — ни теория, ни психология, еще менее это — эстетика или наука», а «все более это — мораль, объяснимая в свете теории ценностей — теории символизма». Причем, «только Христос и Ницше знали всю мощь и величие человека». Суть же их учений, как и всех религий, «в гипнозе переживаний, подстилающих форму». [Белый 1994а: 182-187, 190].