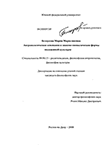Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Выявление мировоззренческо-антропологических оснований визуальной культуры 10
1.1. Соотношение вербальной и визуальной коммуникации в истории культуры 10
1.2. Технология и визуальное искусство: проблема антропологического обоснования 32
1.3. Эстетика кино и ее влияние на человека 51
1.4. Положение человека в масс-медиалъном и виртуальном пространстве 59
Глава II. Феномен визуальной коммуникации в контексте феноменологического осмысления 68
2.1. Кино как феномен визуальной коммуникации. От семиотики к философии восприятия 68
2.2. Восприятие как феномен: от отражения к конструированию 78
2.3. Феномен "горизонтного" и "заботящегося" восприятия: Э. Гуссерль - М. Хайдеггер 85
2.4. Тело и восприятие. Феноменологический проект М. Мерло-Понти 90
2.5. Формирование "перцепции в складках " в контексте критики феномена репрезентации: Ж. Делез - Э. Гуссерль 95
2.6. Символы репрезентации и археологический опыт М. Фуко 102
2.7. Феномен видения как культурный акт и философская проблема 111
2.8. Формирование феноменологической перцепции в контексте осмысления феномена кино (на материале кинофильмов А. Тарковского) 118
Заключение 135
Список использованной литературы 137
- Технология и визуальное искусство: проблема антропологического обоснования
- Кино как феномен визуальной коммуникации. От семиотики к философии восприятия
- Тело и восприятие. Феноменологический проект М. Мерло-Понти
- Феномен видения как культурный акт и философская проблема
Технология и визуальное искусство: проблема антропологического обоснования
Появление и широкое распространение в XX столетии кино и телевидения, видео и интернета, всего того, что с такой легкостью позволяет нам характеризовать современную культуру как визуальную, напрямую связано с мировоззренческим горизонтом данной эпохи.
Если внимательнее присмотреться ко всем вышеперечисленным "визуальным устройствам", то можно без особых усилий обнаружить тот факт, что перед нами не просто совокупность технических средств, но почти сложившиеся (хотя и "новые") эстетические системы. Известно с какой легкостью сегодня фотография и кино рассматриваются не просто как способы репродукции изображения, но именно как искусства визуальных эффектов.
Между тем возникает серьезный вопрос: как собственно случилось так, что чисто механическое воспроизведение реальности настолько просто миновало все возможные эстетические преграды? Почему так естественно рождение кино или фотографии? Не как технического новшества, но как того самого элемента, когда искусство тесно соприкасается с современной техникой.
Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо руководствоваться такой логикой, которая затрагивала бы некоторые сущностные моменты, относящиеся как к технике, так и к искусству.
Убедительной в этом отношении представляется позиция М. Хайдеггера. Как отмечает философ, еще со времен греков techne было связано не только с ремесленным мастерством, но и с высоким искусством. При этом и ремесло, и искусство, понятые в смысле techne, были не столько практическим делом, сколько отношением человека к сущему, тем способом, посредством которого человек выводил это сущее из потаенности в несокрытость его вида, выгляда .
Разумеется, современная техника и искусство не в меньшей степени, чем греческие, являются экспликацией того способа, каким человек реагирует на реальность. Поэтому чтобы определить причины, лежащие в основе столь характерного для современной культуры синтеза искусства и технологии, необходимо понять, чем является в своей сущности сегодняшний человек и как именно складывается его отношение к реальности.
Можно выделить, по крайней мере, два обстоятельства, значимо повлиявших на возникновение современной визуальной культуры. Оба принадлежат эпохе Нового времени и связаны, во-первых, с превращением мира в картину, а, во-вторых, с обращением человека в "представляющего субъекта". По словам Хайдеггера, мир становится картиной тогда, когда существующее превращается в принципиально просматриваемые, открытые для наблюдения вещи - объекты. При этом, составляя себе картину, человек и самого себя выводит на сцену, на которой становится репрезентантом сущего в смысле предметного. Так впервые и по существу человек становится субъектом .
Говоря о репрезентации, представлении, Хайдеггер вовсе не имеет в виду те умственные схемы, которые возникают в голове у любого человека, когда он намеревается предпринять какое-либо действие. Речь скорее идет о том, что, начиная с Нового времени, именно человеку отводится роль инстанции унифицирующей и упорядочивающей эмпирический хаос в объекты, доступные для свободного наблюдения. Представление, таким образом, мыслится именно как синтезирующий и объективирующий действительность акт.
Несмотря на то, что слова Хайдеггера относятся в первую очередь к философии, к победе картезианского способа мышления, они в полной мере иллюстрируют и самые общие тенденции отношения к видимому, например, те, которые господствуют в новоевропейском искусстве. Поскольку предметом нашего интереса выступает именно визуальное искусство, то представляется вполне уместным рассмотреть факт картинизации сущего, а так же и превращение человека в субъекта на примере новоевропейской живописи.
По мысли М.Фуко, живопись Нового времени может вполне считаться символом той субъектной позиции, которую человек занимает в эту эпоху. В этой связи представляет особый интерес тот комментарий, который предлагает Фуко одному из самых именитых шедевров новоевропейской эпохи -веласкесовским "Менинам". Как известно, в "Менинах" Веласкес изобразил не только себя самого - придворного художника, инфанту, дам, но также и двух важнейших особ - Филиппа IV и Марианну Австрийскую. Правда, лики последних лишь отражаются в зеркале, висящем среди картин на задней стене комнаты. Получается так, что главных участников сцены, изображенной Веласкесом на самой картине нет (или почти нет). Они словно "вышли из рамы", встав как раз туда, где в этот миг находимся мы, зрители. По этому поводу Фуко отмечает, что "в той мере, в какой они (король и королева - А.В.) видимы, они представляют собой самую хрупкую и самую удаленную от всякой реальности форму. И, напротив, в той мере, в какой, пребывая вне картины, они удалены в невидимое существование, они организуют вокруг себя все изображение"33.
Именно это "невидимое существование" как раз и выступает, по мнению философа, символом субъектной позиции новоевропейского человека. В самом деле, как показывает Фуко, субъект, являясь условием собранности всего сущего в некий объект, сам по себе остается принципиально не объективированным, неопредмеченным. Вывод, который делает французский философ, очевиден: место субъекта подобно "королевскому месту", распределяющему все, что есть на картине, и, тем не менее, остающемуся всегда внешним по отношению к самой картине.
Между тем, для более четкого понимания тех визуальных навыков, которые сложились в Новое время целесообразно сравнить их с навыками предшествующей эпохи - Средневековья. Отсутствие в это время субъектной позиции человека не могло не сказаться на способах видения и изображения вещей. Чтобы убедится в этом достаточно обратить внимание на принципы иконописного произведения. По мнению таких исследователей как Успенский и Жегин пространство иконы замкнуто на себя, ибо предполагает с самого начала нахождение художника не столько вне, сколько внутри изображаемого мира34. Столь странная и необычная позиция творца не в последнюю очередь связана с двуплановостью иконописного произведения. По мнению Жегина первый план иконы связан с правилом обратной перспективы, т. е. намерением художника передать то впечатление от предмета, которое мы реально получаем, осматривая его с разных сторон. Второй представляет собой процедуру суммирования различных точек наблюдения, в результате чего внутреннее пространство иконы становится статичным для внешнего наблюдателя. Говоря о сферичности иконописного пространства, Жегин настаивает на том, что первый план изображения всегда выгнут наружу, тогда как второй - всегда вогнут. В итоге то, что для внутреннего наблюдателя, т.е. творца всегда будет дальним и внешним, для зрителя будет самым близким35.
Для Нового времени характерны совершенно иные визуальные навыки. Едва ли не главной особенностью отличающей новоевропейскую живопись от средневековой оказывается появление такого способа изображения, при котором изображаются не столько вещи, сколько условия восприятия их художником, т.е. взгляд со стороны. И в самом деле, глядя на полотно Веласкеса не сложно понять, что возможность увидеть и изобразить вещь напрямую связана с умением художника отстранится, и посмотреть на эту вещь со стороны. Результатом подобного отстранения оказывается, как правило, обрамление изображаемого - прием столь типичный для новоевропейской картины и совершенно бесполезный для средневековой иконы. Действительно, икона, будучи изображением "всего", т.е. целого мира, делает излишними какие-то ни было рамки, она сама себя обрамляет, ограничиваясь, если так можно выразится, собственной целостностью. Картина, напротив, изображает не "все", не целый мир, но ту его часть, которая видна стороннему наблюдателю. В этом смысле рама как раз и является средством, отграничивающим один фрагмент мира от другого.
Несводимость тех изобразительных навыков, которые присущи Средним векам и Новому времени конституирует также и разность зрительских позиций. Мир, явленный на иконе непосредственно подступает к зрителю, как бы касаясь его, а внешний фон, выстроенный вертикально, образует иерархию, ценностно упорядочивающую окружающую человека предметную данность и, в конце концов, уводящую зрителя в бесконечность небес, к богу36. Целостность и самодостаточность иконы создает впечатление, что ей вообще нет нужды в зрителе. По мнению одного из современных исследователей, когда мы смотрим на икону, то, как бы встречаемся с взглядом нашего визави; не мы, а он созерцает и создает изображение .
Кино как феномен визуальной коммуникации. От семиотики к философии восприятия
Результатом многочисленных исследований проблемы коммуникации стало появление самых многообразных, зачастую противоречивых определений, рассматриваемого феномена. Предлагаемые различными авторами трактовки коммуникации распространяются от коммуникативной теории и техники, часто редуцируемой к обмену информацией, до всеобщего коммуникативного разума, лежащего в качестве координирующей инстанции в основе всех форм духовной жизнедеятельности общества. При этом сколь различные определения понятию коммуникации ни предлагались бы, в общем виде ясно, что коммуникация есть общение партнеров, обменивающихся информацией, которая должна быть сформулирована так, чтобы ее смысл мог быть идентифицирован собеседником и мог стать предметом обсуждения, т. е. встречных вопросов и ответов.
Между тем, в культуре есть ряд феноменов, которые хотя и не отрицают, но значимо усложняют данное определение коммуникации. Речь идет о феноменах визуального порядка. В самом деле, если кто-нибудь рассматривает живописное полотно или смотрит кинофильм, то ему вряд ли прийдет в голову, что он "общается" или "беседует". В процессе контакта с графическим или фильмическим изображением мы скорее являемся слушателями лектора, которому мы никогда не можем ответить, нежели участниками беседы. И все же это не совсем так. Как полагает У. Эко сегодня почти никто не сомневается в том, что все визуальные факты суть также феномены коммуникации. В этом смысле такая наука как семиотика вполне могла бы претендовать, пишет Эко, на роль некой "всеобщей отмычки", объясняющей визуальные феномены как ряд сообщений, выстроенных на основе определенного кода81. Сконцентрируемся на семиотическом определении коммуникации, выбрав при этом кино, как один из очевидных визуальных феноменов.
Как уже было отмечено выше с точки зрения семиотики знаки графического, а также, фильмического изображения действительно обретают свое значение строго в зависимости от кода, присущего автору-создателю, режиссеру фильма. Так, по мнению семиотика Метца, хотя смысл фильма и извлекается в значительной мере из смонтированных изображений и звуков, он, тем не менее, очевидно, был заложен кинематографистом, определенным образом сочетавшим элементы, единицы и части фильма. Закодированными представляются Метцу именно фильмические сочетания, т. е. последовательности изображений на экране. "Фильмические сочетания, -пишет французский семиотик, организуют не только фильмическую коннотацию, но также (и в первую очередь) денотацию. Функционирование фильмических сочетаний характеризуется тем, что благодаря им зритель, прежде всего, понимает смысл фильма" Сходной точки зрения придерживаются многие киносемиотики. Так, например, американский исследователь С. Уорт полагает, что упорядоченная последовательность есть "метод, с помощью которого человек придает смысл отношению нескольких информационных блоков... В этом смысле последовательность изображений, по мнению Уорта, и есть не что иное как "сочетание, произвольно применяемое для сообщения значения" Откликом на эту же тему служит мысль Ж. Митри, рассматривающего денотацию как "сообщение, кодом которого является реструктурирование, осуществляемое средствами отснятого материала". Если в литературе, утверждает ф ранцузский семиотик, смысл находится за словом, то в кинематографе "он чаще всего присутствует как бы между изображениями"84. Среди отечественных авторов выделим в этом контексте точку зрения Ю. М. Лотмана. По его мнению, в основе кинозначения лежит "механизм различий и сочетаний". При этом в киноязыке, добавляет Лотман, обычно присутствуют две тенденции, одна основывается на повторяемости киноэлементов, в том числе и таких как фильмические изображения, а другая на деформации и нарушении привычных последовательностей, фактов и облика вещей85.
Таким образом, совершенно очевидно, что согласно семиотической точке зрения кинофильм будет коммуникативен в той степени, в которой зритель действительно извлекает то, что кинематографист или автор-создатель в этот фильм вкладывает. В этом смысле сам коммуникативный процесс следует определить как "передачу сигнала, воспринимаемого преимущественно зрительно, закодированного в знаки, которые мы рассматриваем как сообщения, извлекая из них смысл или содержание" .
Между тем, существует ряд трудностей, препятствующих превращению семиотики в универсальный инструмент при исследовании визуальных явлений культуры и кино в частности. Прежде всего, выделим одно немаловажное обстоятельство. Верно, что кинематографист, создавая фильм, использует те или иные фильмические сочетания с тем, чтобы побудить зрителя извлечь из них задуманный им смысл, но правда и то, что эти фильмические сочетания сами конституируются в отношении смысла. Так, Кристиан Метц, рисуя картину разнообразных кодифицированных сочетаний используемых в фильмах, отмечает, что все они обнаруживаются только в отношении интриги. Стремиться обнаружить фильмические сочетания, не учитывая целостности диегезиса, означает, по мнению Метца, "оперировать означающими без означаемых, ибо само существо повествовательного фильма заключается в том, о чем он рассказывает". В этой связи французский семиотик делает вывод о том, что при исследовании кино необходимо наряду с семиотикой выделить также структурный анализ рассказа, рассматриваемого независимо от киноязыка как средства его (т.е. рассказа) передачи Выводы об относительной самостоятельности повествовательного слоя встречаются также у Р. Барта. На примере исследования фотограмм он заключает, что смысл фильма нередко "отслаивается" от той неизбежности и временной последовательности, которые задает ему съемка88. Отметим, наконец, книгу отечественного исследователя М. Ямпольского посвященную интертекстуальности и кинематографу. В своей работе автор рассматривает язык кино, с одной стороны, как набор кодированных элементов, а с другой, как набор фигур, организующих через интертекст совершенно разные смысловые стратегии. Весьма важно при этом, что сам интертекст находится в координатах, глубоко чуждых классической семиотике. Как утверждает Ямпольский, семиотика не оперирует ни элементами, обладающими инертной телесностью, ни невидимыми текстами, существующими вне материальных носителей, она не рассматривает смыслопорождение как своего рода маршрут от неких смысловых аномалий к невидимым текстам, расположенным в памяти зрителя.
Как мы видим, необходимость выхода за рамки семиотической перспективы, при исследовании кино как визуального феномена совершенно очевидна. Более того, если признать тот факт, что повествовательный слой существует не единственно на кинопленке, но также и в восприятии зрителя, то окажется, что процесс смыслообразования внутри фильма может по праву иметь статус коммуникации. Зримому на экране соответствует не только то, что сознательно внес в него автор, но также и то, что внес в него зритель в своем с ним диалоге. В этом случае только чтение и восприятие, делает вывод Ямпольскии, могут явиться полем научного исследования, потому что только в чтении и восприятии производится смысл89.
Разумеется, подобная позиция, с точки зрения традиции, выглядит почти скандальной. В самом деле, традиционное искусствознание, с его пиететом к автору, всегда стремилось приписывать все интенции только создателю текста или тексту как имманентному образованию. Вместе с тем, понятие автора, как уникального производителя текста все чаще ставится под сомнение сегодняшней наукой. В этом смысле необходимо отметить тот пересмотр понятия "текст", который был произведен родоначальником современной герменевтики X.- Г. Гадамером, а также представителем структурализма Р. Бартом.
В своем сочинении "Истина и метод" Гадамер утверждает, что любое понимание заключается в разработке некоего предварительного наброска, который подвергается постоянному пересмотру при дальнейшем углублении в текст При этом, следуя герменевтическому опыту, мы вынуждены постоянно отказываться, по крайней мере, от двух вещей, во-первых: ставить вопрос о начале, о некой точке, из которой возникает текст потому, что беспредельное погружение в начало показывает, что у текста в действительности нет истока, а во-вторых: выставлять некую смысловую завершенность и окончательность, ибо смысл никогда не может быть завершен, совершен, в противном случае он не является смыслом. Таким образом, в движении понимания мы изначально помещены в "середину" так, что никогда из нее не выходим, и поэтому само понимание определяется Гадамером как интерпретация - "речь-между". При этом нахождение себя в "открытости" середины вызвано, прежде всего, тем, что в движение включена экзистенция, по самой сути осуществляющая неразлагаемое интерпретирование, т.е. постоянно пробрасывающее и отсылающее вы-хождение себя за себя самого. Так интерпретация превращается из вспомогательной процедуры познания в исконную структуру "бытие-в-мире"9!.
Тело и восприятие. Феноменологический проект М. Мерло-Понти
В целом, хайдеггеровская концепция "заботящегося восприятия" получает свое продолжение и развитие (разумеется, с теми или иными модификациями) в последующей философии, в частности в работах такого мыслителя как М. Мерло-Понти. Пожалуй, главной точкой схождения обоих философов может послужить следующее утверждение французского феноменолога: "Мы не обязаны априори вкладывать в мир условия, вне которых он не может быть помыслен, поскольку, чтобы быть помысленным, он сперва должен быть замечен, существовать для меня, то есть быть данностью" Таким образом, М. Мерло-Понти един с автором "Бытия и времени" в том, что мир отнюдь, не открыт перед субъектом изначально как cogitatum, а сама интенциональность едва ли является исходным способом доступа к миру и сущему в целом.
По мысли французского автора, существование (sum) в смысле "заброшенности" неизбежно предшествует cogito, причем так, что генетический исток самого существования, в силу его " заброшенного" характера, всегда оказывается "за спиной" у субъекта. Интенциональность, в этой явно экзистенциалистской интерпретации, постепенно утрачивает смысл того инструмента, посредством которого субъект видит в вещах то, что он в них вкладывает, и становится выбором одной из возможностей истолкования субъектом своей " вброшенности" в этот мир. Именно такое понимание "конституирующего источника" предлагает нам "Феноменология восприятия". Интенциональность мыслится здесь в контексте возврата к тем структурам бытия-в-мире, которые, совпадают с некой "изначальной присутствуемостью", с тем, что Мерло-Понти называет "плотью мира".
Понимательный горизонт для понятия плоти задается французским автором в терминах топологии. Так, с одной стороны, плоть - это самое ближайшее к наблюдателю место, поскольку смотрит он именно из и через нее, но, с другой стороны, она же и бесконечно удаленное от него место, ибо не органоподобна и не пред-находима где-либо на границах обычного тела. Более того, если тело конституирует видимое для наблюдателя в регулируемых и отработанных типах дистанций, то плоть, по мысли Мерло-Понти, не знает различия между видимым и видящим, она свободно переходит от одного к другому, нередко меняя и видимое и видящего местами. "Я, созерцающий небесную синеву, - пишет французский автор, не обладаю ей мысленно, скорее она "мыслит себя во мне", я - это само небо, а мое сознание до краев наполнено безграничной синевой" .
Так, выясняется, что мир открыт нам еще до того как он станет ноэмой, открыт в неком дорефлексивном видении, которое, по словам самого философа, является "более древним, чем интенциональность человеческих актов".
Между тем, как утверждает Делез, термин "плоть мира" означает у Мерло-Понти не только открытость для света и зримого, но также для звука и голоса118. Действительно, в "Феноменологии восприятия" Мерло-Понти убедительно доказывает, что видеть означает не опираться на абстрагированные зрительные формы, но преобразовывать свое тело из суммы рядоположенных органов в некое подобие "синергетической системы", в которой и зрение, и слух не отделимы друг от друга, где они всегда промежуточны. "Есть смысл говорить о том, что я вижу звуки, или слышу цвета, если зрение или слух - это не просто обладание неким таинственным quale, но осуществление определенной модальности существования, синхронизация моего тела с ней"119. Этой модальностью как раз и является "плоть мира", некий идеальный слой чувственности, несводимый к специализированным сенсорным функциям (глаз-зрение, ухо-слух). Представляя, по мысли Мерло-Понти, "очаг единого телесного ритма", "плоть мира" именно в силу своей полифункциональности выступает в качестве особого органа познания.
В работе "Око и дух" Мерло-Понти делает одно очень важное различие, касающееся феномена видения: " Существует видение - предмет моей рефлексии, и я не могу мыслить его иначе как модус мышления, инспекцию разума, суждения... И существует видение, обладающее местом, только считающееся мышлением, мышлением по названию. Это видение, - поясняет философ, слито с видящим телом и далее добавляет, что его можно практиковать, "пробовать", но из него не удается извлечь ничего такого, что заслуживает название истины"120.
Весьма примечательно, что французский феноменолог сравнивает видение с мышлением и суждением. Возможность подобного сближения и даже отождествления существует, по мнению Мерло-Понти, уже в картезианской модели восприятия, а так же в феноменологической концепции Гуссерля. И в том и в другом случае, полагает французский автор, восприятие присутствует как некая конституирующая сила разума, а само воспринятое обязательно полагается как нечто тождественное единству предмета, конституируемому в синтезе идентификации.
Так, комментируя отношение Картезия к живописи, Мерло-Понти считает весьма показательным тот факт что, ведя разговор о картинах, Декарт берет в качестве примера офорт. По мнению французского автора, Декарта привлекает в офортах именно то, что "они сохраняют форму предметов или, по крайней мере, содержат достаточные для ее определения знаки" Называя в целом картезианскую модель видения " ощупыванием", Мерло-Понти полагает, что все видимое, действительно, кристаллизуется в ней как нечто самотождественное и совпадающее с "видом" наличного предмета.
Между тем, для основы "телесного видения" автор " Феноменологии восприятия" избирает весьма отличный от картезианского или гуссерлианского вид конституирования. Данное конституирование коренится в некотором никогда не завершенном и никогда до конца не определенном опыте, опыте в котором, по словам Мерло-Понти, "еще наличествуют интенциональные нити, группирующиеся вокруг определенного центра, но который, вместе с тем, никогда "не может завершиться интеллектуальным овладением ноэмой"122.
В действительности, феномен телесного видения очень схож с "заботящимся восприятием" автора "Бытия и времени". Так же как забота, по мысли Хайдеггера, не может быть сконцентрирована на неком самотождественном сущем, имеющим со времен греков имя "единое", или "одно", так и телесное видение, согласно Мерло-Понти, сосредоточено на "таких видах бытия, которые еще не включены в единое Бытие", на том смысле, который невозможно увидеть как "монограмму"123.
В работе "Око и дух" Мерло-Понти непосредственно связывает телесное видение с живописью таких мастеров как Клее и Матисс. Весьма удобный повод для этого предлагает та концепция "линии", которая существует у этих авторов. Как считает феноменолог, линия на полотнах Клее и Маттисса перестает быть просто имитацией вещи или предмета, но становится неким "сжатием, расслоением, модуляцией изначальной пространственности". Вследствие этого изображение освобождается от функций репрезентации, теряет свою, и без того хрупкую, исчезающую, связь с изображаемым. Например, два листа остролиста, написанные Клее никогда не расшифровываются как листья, оставаясь всегда призрачными, а женщины Матисса не являются непосредственно женщинами, но становятся ими. Так, вместо вещей в поле изобразительных знаков оказывается некая пред-образная материя образа, целые становления сил, короче все то, что делает образ видимым и исчезает, как только он появляется .
Феномен видения как культурный акт и философская проблема
Сегодня уже почти не вызывает сомнений тот факт, что все предпринимаемые человеком действия совершаются им изнутри культуры. Как замечает один из самых проницательных исследователей культуры У. Эко даже там, где говорят о естественности и непосредственности, все равно имеют дело с культурой, конвенцией, кодом и т.д. Так, смеется ли человек, танцует или просто переводит взгляд, в любом случае его жестикуляция не является естественной, природной, она целиком и полностью искусственна, т.е. культурна153.
Итак, даже самые простые и элементарные действия явлены человеку не иначе как в опосредованной культурой форме. Не составляет исключения в этом отношении и такой акт как видение. В самом деле, как отмечают исследователи, видение не есть просто функция зрения, которая принадлежит нам естественно и мы как будто обречены видеть. Нет, мы именно учимся смотреть, культивируя определенный способ восприятия. Мы видим и познаем мир не природой данными нам органами, но органами, возникшими и ставшими в пространстве самой жизни и в этом смысле органами, делающими наше видение относительно независимым от случайности того, что человек наделен природой именно данным чувствующим аппаратом и способностями интеллекта.
Между тем, сфера культуры далеко не исчерпывается присутствием в нас механизмов, позволяющих строить и культивировать восприятие. Зачастую наша неспособность разглядеть что-либо имеет также культурное происхождение. Исследователь М. Ямпольскии предлагает весьма наглядное тому подтверждение, приводя занятный пример, заимствованный им из истории кино. Предметом интереса Ямпольского стала одна характерная сцена из кинофильма "Андалузский пес" Л. Бунюэля. Речь идет о том эпизоде, в котором мы видим голову мертвого гниющего осла, лежащую на клавиатуре рояля. "Существенно,- пишет Ямпольскии,- что этот эпизод практически всеми интерпретаторами прочитывается в символическом ключе" "Рояль связан с традиционной культурой, а осел - как бы нечто, оскверняющее эту культуру, в духе сюрреализма"155. Трактуя, однако эту же сцену, но не с позиции культурного символизма, сам Ямпольский приходит к несколько иному результату: "...Бунюэль и Дали положили осла на рояль потому, что они сочли, что для мертвого осла наиболее подходящая форма гроба - это рояль... Перед нами попытка чисто внешне сблизить два предмета таким образом, что их нельзя прочитать символически"156. Как явствует из примера М. Ямпольского, иногда именно культурные конвенции и коды мешают увидеть вещь из ее собственного присутствия и поэтому приходится расщеплять свою связь с социальными и культурными символизмами, т.е. редуцировать сферу знания и представления.
С учетом всего вышесказанного будет целесообразным выделить, по крайней мере, две тенденции, присутствующие в современной культуре. С одной стороны, явное господство стремления к наращиванию объема "зрелищ", которое можно вполне расценить как попытку избавить человека от необходимости в совершении акта видения. По остроумному замечанию Ж. Бодрийара человек сегодня связан с объектом своего видения так же непосредственно как штекер подключен к электрической розетке. Иными словами, сама "зрелищность" как бы говорит нам о том, что то, что мы должны увидеть уже существует, дано в неком натуральном виде, а соответствующие органы-рецепторы лишь производят операцию узнавания, в результате которой в нашем сознании образуется некий визуальный образ. С другой стороны, можно наблюдать своеобразное "окультуривание" сознания, проявляющееся во все большей стандартизации и стереотипизации механизмов и актов восприятия, а, следовательно, в создаваемых ими мнениях и оценках. Данная тенденция, как правило, порождает не только тот факт, что "все все видят и знают", но и то, что "все видят и знают одинаково".
Как первая, так и вторая тенденция, крайне негативны, ибо приводят в конечном итоге к тому, что возможности коммуникации остаются весьма ограниченными. В том случае, когда восприятие низводится до уровня некого естественного, само собой идущего процесса, субъекту грозит опасность встречи с бессмыслицей, т.е. опасность не быть понятым другим. В том же случае когда человек не способен отделить себя от восприятий, порожденных не им самим, но другими, он, напротив, рискует быть понятым слишком многими - в действительности столь многими, что это может поставить под угрозу психологическую реальность образа "я", противопоставленного "не-я"157.
В этой связи возникает вопрос: не является ли применение феноменологического подхода одним из возможных способов избежания данного рода крайностей? Отвечая на этот вопрос, обратимся к одному из самых значительных явлений визуальной культуры, каким является кинематограф.
По оценкам современных исследователей существует далеко не одно обстоятельство, делающее применение феноменологических процедур по отношению к кино не только возможным, но и необходимым. Одно из таких обстоятельств мы, собственно, уже упоминали, в связи с примером М. Ямпольского, взятого им из истории кино. Речь шла, с одной стороны о необходимости редукции некоторых кинозначений, а с другой, о приостановке действия в нас некоторых устойчивых культурных конвенций, предопределяющих наше видение.
Другим, не менее важным элементом, подлежащим феноменологическому рассмотрению, является рамка кадра. На первый взгляд, может показаться, что с кинематографической рамкой связано только наличие ощущения ограниченности зрительского восприятия. В самом деле, зритель всегда видит тот фрагмент реальности, который вмещается в экранный контур; все остальное остается за рамкой экрана. Между тем, существуют все основания думать, что та же самая рамка носит в некотором смысле условный и гипотетический характер. Так, М. Шапиро, одним из первых рассмотревший проблему рамы на материале живописи, отмечает, что "рама принадлежит скорее к пространству наблюдателя, чем к иллюзорному трехмерному миру изображения, открывающемуся в ней и за ней. Она является устройством наведения и фокусировки, расположенным между миром зрителя и изображением"158. Откликом на эту же тему звучит мысль одного из теоретиков кинематографа, Р. Арнхейма. По его мнению, именно ограниченность кинокадра дает кино право называться искусством. Внекадровые, а значит и внезрительные ощущения рождаются при кинопросмотре в сфере творческого воображения зрителя. Вот почему контур киноэкрана является не столько ограничителем, сколько стимулятором активности зрительской позиции159.
Между тем, самым главным элементом в кино, который обеспечивает продуктивность феноменологического рассмотрения, оказывается время. Как правило, проблема временной связи между отдельными сценами и эпизодами тесно связана с темой монтажа. Напомним, что монтаж - это "скачок в новое измерение по отношению к композиции кадра. То есть, внутрикадровый конфликт на определенном градусе драматического напряжения "разламывает" рамки кадра и превращается в монтажный стык двух рядом стоящих самостоятельных кадров"160. Закон монтажа, таким образом, в том, что кадры сочетается друг с другом по законам смысловой, а не естественной смежности. Сотни изобразительных кусков снимаются и монтируются с учетом того, как они будут переходить друг в друга по закону рассказа и смысла161.
Очевидно, время неотделимое от монтажа надлежит рассматривать именно с точки зрения смысла или рассказа. Так, один из видных теоретиков кино Р. Арнхейм полагает, что если два эпизода следуют один за другим на экране, то это еще не значит, что они следуют друг за другом и во времени. По мнению Арнхейма, временная взаимосвязь между эпизодами должна быть явлена из содержания, т.е. сюжета фильма Вероятно по отношению к кино можно говорить о существовании двух времен: времени смысла или рассказа, а также экранного времени, т.е. времени демонстрации фильма. Б. Балаш в этом отношении замечает следующее: " Когда мы видим, как корабль скрывается за горизонтом, в ритме изображения отражается определенный отрезок времени. Когда же сама картина моря начинает затемняться, ко времени, в которое в нашем сознании корабль исчезает, присоединяется также в сознании еще большее, нами не измеряемое время. Теперь изображение показывает: реальное время исчезновения корабля и вызванное затемнением киновремя, действующее лишь как впечатление"163. Таким образом, если экранное время, или как говорит Балаш "киновремя", зрителем практически не ощущается, то время смысла, напротив, принадлежит в равной степени, как фильму, так и зрителю. Косвенным тому подтверждением может служить тот факт, что время смысла, по мнению исследователей, состоит как бы из двух частей. Одна из них внутренне присуща изображаемому событию. Она идет от зарождения темы до ее окончания. Вторая называется линией раскрытия темы. Как утверждает Арнхейм, это своего рода путешествие по сюжету, проделываемое зрителем .