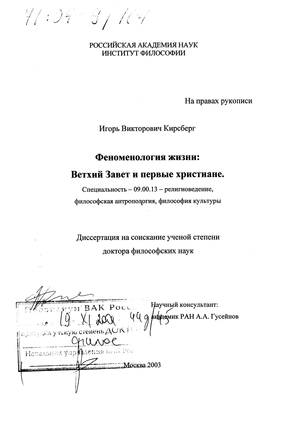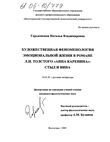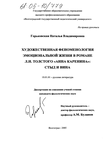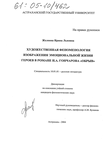Содержание к диссертации
Введение
Часть I. Ветхий Завет 34
Глава 1. Сущее как живое 34
Глава 2. Деятельность живого 67
Глава 3. Смерть живого 79
Часть II. Первые христиане 91
Глава 1. Событие Христа как исходное 91
Глава 2. Человек во Христе 103
Глава 3. Жизнь во Христе 133
Глава 4. Смерть грешника 190
Заключение. О дисциплинарной строгости библеистики 209
Примечания 211
Литература 238
Введение к работе
Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, особым явлением современности, которое в философии и богословии называют «религиозным бумом», «реваншем богов». Американский социолог Д. Белл отмечает, что в XIX веке никто из крупных философов, кроме, возможно, Шеллинга, не верил, что религия сохранится в будущем. Д. Белл, конечно, неточен. Его замечание не относится, например, к русским религиозным мыслителям, которые, напротив, исходили из представлений о «взращивании» религиозного сознания. Однако это не меняет общей тенденции - нарастающей силы секуляризации.
Уже в конце XIX века B.C. Соловьев видел качественный недостаток господствовавшего тогда типа религиозного сознания. Прошедшее столетие не решило проблемы, но лишь усугубило ее, что привело к тотальной обмирщенности. Разрыв, о котором говорил B.C. Соловьев, между сакральным и мирским, церковным и светским лишь углубился, свидетельствуя о хроническом отставании Церкви от реалий времени.
Однако в последние десятилетия процесс секуляризации замедлился. Говорят о рехристианизации, реиндуизации, реисламизации, реиудаизации мира. Влияние религии усиливается, способствуя исследовательскому вниманию к ней, ее истокам. Развитие библеистики, представляющей вопрос о древнем (конечно, религиозном) человеке и мире в целом, - показатель такого внимания. Однако исследования в библеистике в основном историко
филологические, более-менее философских (разумеется, согласованных с внеконфессиональной, научной целью) немного; в них, все-таки сбивающихся в историю и филологию, - произведениях и отдельных идеях (С. Педерсена, А. Швейцера, Г. фон Рада, Т. Бомана, К. Стендаля, В. Дэвиса, Э. Сандерса) просматриваемо различие явления древнего человека и мира для древнего сознания и для нас, вопрос возможности представления древности в современных понятиях (субъект-объекта, предмета) не возникает, или возможен только в отдельных случаях.
В отечественной библеистике философские исследования тем более редки, а некоторые явления древности (телесность) вовсе пропущены.
Последовательный вопрос - как является древним то, что представляется нам - более строго представляющий цель философской библеистики («изучение мыслей святых писателей о божественных вопросах»): в смысле древнего сознания самого по себе в соотнесенности с современным, разработанный нами в заявленных цели и задачах, необходим для последовательно философского понимания древнего человека и мира, строгого оформления библеистики(-в-целом) как науки и сокращения модернизаций в ней.
Познавательная чистота библеистики в целом - ввиду этого вопроса -способствовала бы более целенаправленному развитию богословия как именно религиозного самосознания, взаимодействующего с гуманитарной наукой, но не смешенного с ней.
Цель исследования.
Жизнь и живое как являющиеся первым - евреям и христианам (в смысле вопроса о библейском человеке и мире в целом) в отвлечении-соотнесении с современными понятиями.
Задачи:
- сокращение неконтролируемых модернизаций - вызванных неизбежным использованием современных понятий при исследовании древности, уточнение
их применимости (при этом), (и - выяснение происхождения литературных приемов Библии: метафор, гипербол и т.д.);
- начало разработки феноменологии в библеистике - попытка устранения внутрибиблеистических трудностей понимания человека и мира;
уточнение библеистики как науки (отличие от богословия, внутрисистемное размежевание).
Современное состояние исследований по теме.
Что жизнь - Бог, а живое для (первых) евреев и христиан - это любое сущее, в библеистике общеизвестно1, поэтому, кажется, ничего нового (и трудного), если не для отечественной, то для западной библеистики, нами не предлагается.
Однако ввиду современных понятий человек (тем более - Бог), (не)волъно, представляется как разумно-производящий субъект, а большинство сущего как объективное - противополагаемое человеку (и Богу) и, соответственно, как предметное - невменяемое, изготовляемое, потребляемое. Так как вместо представления жизни и живого (не связанных ни с разумом, ни с сознанием) возникает представление древности в современных понятиях, называемых нами в целом рационально-субъективным представлением, общеизвестность первых двух утверждений мнимая (ограничена формулировкой). (Возможность такого названия обусловлена определяющим новоевропейские понятия различием res cogitans и res extensa, при очевидном превосходстве res cogitans, и необходимой взаимосвязью понятий и представления (- воображения, субъективного образа объективного). Ввиду этой взаимосвязи рационально-субъективное представление и представление различимы как такие понятия и такой образ).
Даже если это представление обычно понятийно не формулируемо, оно очевидно по ходу исследования - несмотря на общепризнанное различие рационалистической традиции и (библейской) древности2. Это признание не имеет в виду проверку самих понятий, но лишь различие содержания: понятия
исправляют, но по существу (=по форме) оставляют неизменными (то есть мысль о древности по существу как современности - современном мире, подразумеваемом вместе с человеком, в понятиях рационально-субъективного представления, пусть даже лишенных строго концептуального содержания -несомненна, исходна для любого исследователя). Необходимость доказательства рационально-субъективного представления как исходного (определяющего, онтологически предшествующего) для современного человека и мира (для человека) - излишня, что оно (не)вольно представляется таким же и для древнего человека... прежде всего обусловлено фактической заданностью этого представления. Современному человеку Библия является книгой, поэтому кажется, что такой она была и тогда: ее читали, у нее были авторы. Как особое, но представление (текст - выраженное плетение смыслов) она имеет в виду автора как представляющего - разумного субъекта, и мир как содержание этого представления, этого текста, отличный от представляющего как объект-предмет не необходимо соответствующий представлению . Так возникают непредусмотренные библеистами модернизации, фактически смешивающие древность и современность - отличные от общеизвестных - обусловленных произвольными мнениями и устоявшимися концепциями. Поскольку библеисты руководствуются именно фактами, фактическая предзаданность рационально-субъективного представления препятствует его проверке по существу - не позволяет в нем усомниться. Однако факт не только скрывает этот, в библеистике обнаруженный нами вид модернизаций, но и являет его, поскольку факт как осмысленное прошедшее являет рационально-субъективное представление не только как способ мысли современного человека, но и ее содержание (то, что исследуемо). (Предлагаемое здесь определение факта кажется узким - распространяемым лишь на историю, но по нашему мнению -всеобще; любое явление доступно исследованию лишь как законченное (очевидное во всех подробностях, как бы самодостаточное). В предвидении
дальнейшего заметим: поскольку так - в законченном виде в современных понятиях, представимы и данные эмпирического (внешнего-внутреннего) опыта, и все сверхчувственное содержание сознания - даже выдуманное, это определение позволяет выявить взаимосвязь факта и феномена - их взаимопреобразуемость, доступность и достоверность феномена, значение факта, который поэтому не пропускаем, когда представляется (напр. речь пророка) лишь исповедью фантазии, и не исследуем (поэтому) лишь в поисках объективного. Кроме того, это определение факта способствует более строгому различению факта и феномена, препятствуя представлять феноменологически найденное явление как феномен без предварительного сравнения с фактом).
Впервые осознанно-последовательно рационально-субъективное
представление было осуществлено в библеистике Спинозой и Гоббсом, понятийно разработавшими методологию исследования3. В «Трактате» особенности последующей науки сказываются наиболее отчетливо.
Приступив к исследованию библейской древности, Спиноза говорит именно о познании и различии познания Бога современным европейцем и древним евреем, не подвергая осмотру его возможность — в «Трактате» «cognitio» подразумевает рациональную первооснову, обеспечивающую сравнение «cognitio relevata» и «cognitio naturalis», удостоверяя то, что принадлежит лишь представлению, является метафорой, а что принадлежит
миру4. Так что исследование древности по тексту как явлению представления
— посредством установления точного смысла — это прежде всего (сначала и в главном) филологическая работа. (Конечно, текст исследуется лишь как содержание рационально-субъективного представления — конкретное представление, ввиду конкретных субъект-объекта, но не явление его самого, и не явление самого представления). Вопрос возможности представления (тем более, рационально-субъективного представления) не возникает: человек, определяемый и в устройстве его истории как законах права общеприродными
законами , неизменен. Спиноза не сомневался, что древние пророки сочиняли как современные поэты, и то, что теперь воспринимается как поэзия, и тогда пленяло «фантазию и воображение людей». Другие понятия и представления также используются Спинозой напрямик — общая рациональная основа допускает такое использование — ведь даже если пророки еще и не знали некоторые из них, как например, понятие природы — взаимосвязи естественных причин, тем не менее ее порядок не изменился — как теперь она предстает устроенной божественным разумом по всеобщим законам, такой она была дана и пророкам — вопреки непониманию этого. Предположение общей основы объясняет, почему некоторые из новоевропейских представлений все же были по мнению Спинозы известны (идея истории как последовательности событий), и почему это произвольное мнение, не являющееся обязательным следствием рационального, все же возникло.
Так что непосредственный допуск «cognitio» вынудил рационалистические смешения, тем более, что разграничение «cognitio naturalis» и «cognitio relevata» не исторично, есть в основном гносеологический вопрос. Главное различие между людьми — это различие мыслительных способностей познания Бога, необходимо не связанное с историей. Откровение не является именно мыслью, поэтому служит примером некоторого недомыслия; прежде всего гносеологически — как другое, менее совершенное познание, и лишь ввиду этого как этап познания. «То, что мы сказали об израильтянах и об Адаме, должно сказать и о всех пророках, писавших законы от имени бога, именно: что
они воспринимали решения бога не адекватно, не как вечные истины...»7. Напротив, апостолам доступны не только откровения, но и «cognitio naturalis» — «длинные дедукции и аргументации Павла, встречающиеся в Послании к римлянам, никоим образом не были написаны на основании
сверхъестественного откровения»® — поэтому отличие апостолов от новоевропейцев малозаметно. Также не видно по изложению откровения, как и
любого познания, в отвлечении от истории, чтобы оно было возможно лишь в древности; его явление в современности очевидно не изменилось бы. Тем незаметнее различия древности и современности в «Трактате».
Верховное положение разума предопределено Спинозе заранее, не выведено в исследовании, поэтому превосходство «естественного света» перед откровением приобрело идеологический смысл. Способ исследования «все познание о Библии должно заимствовать только из нее» согласован с Библией лишь ввиду самого рационально-субъективного представления; исходно имеет в виду текст. Поэтому не предотвращает модернизации, которые мы имеем в виду
(хотя, конечно, важен, утверждая научность: фактичность и проверяемость) .
В последующей библеистике, особенно благодаря Гегелю, представления древних толковались уже исторически, но понятия субъект-объекта... (и само представление) оставались идеологическими как по существу непроверяемая первооснова, обеспечивающая недоказанное превосходство всей современности, и тем более идеологически усугубленная представлением исторического развития как однонаправленного совершенствования, на примере христианства перед иудаизмом. Мнение Спинозы о превосходстве Христа и апостолов перед евреями было продолжено.
Чувства (и даже качества характера), ощущения, тело человека, по общему признанию, по существу одни и те же и являются в истории всегда одинаково
— в соотнесенности с разумом Ю. Разумеется, и остальная природа по существу не изменилась — все так же является человеку, изменилось лишь ее понимание. Этим замечанием мы, конечно, не имеем в виду вопрос о (не)развитии природы, но лишь выявляем рационально-субъективное представление, ввиду которого природа именно так всегда и представлялась.
Хотя христианство рассматривается Гегелем относительно разума, поэтому
критикуемо 1, превосходство христианства казалось столь несомненным, что его возможная несогласуемость с разумом пропущена философом при
исследовании иудаизма. Недостатки или достижения иудаизма для Гегеля — предвестия дальнейшего как разума, или христианства, без особого различения, появляющегося изредка, например, когда Гегель в отличие от Спинозы видит обмирщвление природы в иудаизме — у евреев было «сознание некоторой
естественной связи» 12 — имея в виду предвестие развития разума прежде всего, а не христианства. «Возвышенная религия» еще абстрактно-всеобща — «духовные индивидуумы знают себя как Одно», находятся в договорных отношениях с Богом, основанных на справедливости, а не любви. Субъекту как только коллективному Бог открыт лишь извне — в законодательстве, господстве. Как только противоположность Богу человек еще не свободен,
поэтому его существование конечно — это повиновение . Такое сближение христианства и разума небезосновательно, так как рационалистическая традиция развивалась и в формах христианства или в связи с ним, но все-таки чрезмерно.
Марксизм развивал, а не подвергал сомнению само... представление (рационально-субъективное), направляя библеистику к социальным примерам — ввиду которых представления древних казались тем более превратными — тем более способствовал его идеологическому утверждению. Может быть и вследствие этой твердости, а не только советской библеистики лишь как истории, в СССР не было исследований телесности библейского человека...
Идеологичность рационально-субъективного представления, пусть только по содержанию, была ограничена в библеистике, когда было отвергнуто представление о превосходстве христианства (хотя исторически превосходство допустимо, по нашему мнению, в отдельных, особенно, далеких случаях и для христианства, и для иудаизма). Представление о превосходстве, методически укорененное в библеистике в том числе в ходе философских исследований, способствовало некритическому освоению написанного в XIII—XVIII в. в пылу
религиозных споров христиан с евреями 145 тем важнее был отказ от этого
представления. Участник новотюбингенской школы А.Гфроэрер, вновь, после перерыва 2-й половины XVIII в., обратившийся к иудаизму, впервые представляет его помимо христианства, хотя представление о превосходстве неявно сохраняется: Бог евреев — абсолютный, неличностный — недосягаем; для общения с ним евреи нуждались в посредниках, появлявшихся и в послебиблейской литературе (в Таргумах и Мидрашах это Шекина, Мемра, Метатрон), хотя посредничество не противоречит христианству (и даже апологетам указанного времени не казалось враждебным), поэтому не доказывает эту идею Бога. Однако Гфроэрер не представлял ее как главную или единственную в иудаизме (Бог мог являться и как всесовершенный человек), и не оценивал ее сравнительно с христианством. Тем не менее, во 2-й половине XIX в. Ф.Вебер представляет ее как общеиудейскую (с тем же доводом о посредниках), обосновывающую законничество: Бог возвышался над обществом, поэтому его повеления достигали людей лишь как правила, а не намерения, связаны с наказаниями и поощрениями в зависимости от
(не)согласованного с ними действия — добрых или злых дел 15.
Очевидное сходство представлений Вебера и Гегеля незначительно; Гегель (по крайней мере в зрелом творчестве) имел в виду не законничество, а нравственно-правовой смысл всех заповедей (одним из первых обратив внимание, тем самым, на целостность Торы, ведь право для Гегеля — часть нравственности) — «добрым, праведным является тот, кто... соблюдает как нравственные заповеди, так и законы ритуала». Даже только это замечание прежде всего о добром человеке и также о добром деле — хотя, если подразумевалось законничество, именно последнее следовало толковать прежде всего — свидетельствует, что отдельная субъективность Гегелем не исключалась. Будучи необходимым предшественником христианства, иудаизм содержал возможность конкретной субъективности (свободной индивидуальности, единой с Богом и общественными институтами как его
проявлениями), поэтому являлся этапом нравственности — справедливость заключалась не только в заповеди, но и в человеческой воле. Абстрактная
субъективность Бога как единого не безличностна. Представление Вебера, сложившееся ввиду христианства, прежде всего ввиду реформационно-католических разногласий, распространяло христианские идеи на иудаизм; идея Бога-абсолюта очевидно христианская и неоплатоническая (для Гегеля именно христианство — абсолютная религия), идея законничества — очевидно лютеранская критика добрых дел в католичестве. Вебер не упоминает католика Гфроэрера, тем, может быть, очевиднее конфессиональная предубежденность его исследования. Сходного представления иудаизма держались Э.Шюрер и В.Буссе, представлявшие Христа противником законничества, проповедующим, по мнению Буссе, богоотцовство — из-за идеи недосягаемости Бога невозможного в иудаизме. Буссе наиболее настойчиво противопоставлял христианство иудаизму, даже по происхождению казавшееся ему совершенно своеобразным. Обозначение Буссе доформативного иудаизма словом «поздний» усиливало представление о превосходстве; христианство оказывалось изначально значительнее, что едва ли было возможно, если иудаизм ко времени Христа сформировался не полностью...
Влияние Р.Бультмана способствовало этой идеологии и в XX в. — вопреки
критике Д.Мура17. Лишь в 70-е гг. она была окончательно отвергнута Э.Сандерсом. Сандерс утверждал, что спасение в иудаизме непосредственно зависит не от (не)соблюдения заповедей, а от намерения оставаться в завете. «Израильтянин завета наказываем за нарушения [закона] — страданием, смертью или, если необходимо, даже после смерти — и тем не менее спасен, оставаясь в
завете, который дан Богом» 1°. «Все грехи независимо от тяжести, которые совершены в завете, могут быть прощены, если только человек показывает свое основополагающее намерение хранить завет в искуплении, особенно раскаянии в
нарушении [закона]» 19. Такое толкование прекращает идеи недосягаемого Бога, покинутости отдельного человека, достигающего спасения лишь вместе с народом, зарабатывания спасения — то есть идеи, составляющие представление о превосходстве. Однако критика этой идеологии осуществлялась в пределах самого рационально-субъективного представления; его признаки в библеистике, обоснованные Спинозой и Гоббсом, хотя особо и не всегда сформулированные и не осознанные ввиду нашего различения формы и содержания, — текст как явление представления, и поэтому библеистика как прежде всего филологическое толкование, соответствующие субъект-объект и способ их различения, разум как критерий любого познания, познание как главный предмет исследования — остаются непроверяемыми и по существу неизменны. Ввиду общей первоосновы критика несколько сглажена; когда Д.Мур, например, не сомневался в возможности субъективного сознания и (субъективной) личности Иисуса — и не оспаривал такую постановку вопроса В.Буссе, но лишь возможность исследования того, что «он думал и учил о Боге», или когда замечания Мура оставались только филологическими — в пределах представления древности по значениям текста, когда Сандерс, например, высказав идею превосходства завета, не прояснил взаимосвязь завета и закона и связанных с ними намерения и праведности по делам (что было бы возможно лишь ввиду исследования самого субъекта), и тем вызвал
упреки в недооценке этой праведности .
При устранении этой идеологии само... представление несколько усилилось, поскольку такое устранение происходило не только ввиду его, но и в целенаправленном, хотя и неосознанном, распространении на иудаизм — особенно поощряемое филологией, закреплявшей представление Библии как текста, поэтому и представление текста как явления представления — там, где раньше видели коллективное, теперь видели и индивидуальное, или индивидуальность представлялась в связи с волей Бога не только по делам, но и намерению. Модернизирующе-идеологическое воздействие этого
представления не сократилось, но стало более скрытным; теперь превосходство современности навязывается библеистике прежде всего не содержанием этого представления, а формой, поскольку современность — неизбежное основание исследований, итог формирования понятий.
Неосознанное, но все-таки отвлечение от него, однажды произошедшее в
библеистике І, не могло быть последовательным, и конечно вызывало упреки в необоснованности. Ввиду этого представления Т.Боман исследует, строго говоря, не язык и мышление (посредством языка), а в основном значения, а также различие и сходство содержания мышления евреев и грекоевропейцев. При исследовании прежде всего устройства языка (правил и особенностей языковых единиц) большинство замечаний, как его не подразумевающих, не могло бы возникнуть, при них оно, вопреки убеждению Бомана, является лишь примером: устройство и значения языка, форма и содержание мышления необходимо не связаны. Соответственно нет необходимой взаимосвязи языка как средства мышления — то есть прежде всего по устройству, и мира, что подтверждено Д. Баром применительно к исследованию Бомана: «"Экзистенциальное" употребление слова "быть" семантически не совпадает [со словом] "существовать" и не выдвигает вопроса просто существования, особенно когда указано его (первого слова - И.К.) место»22. в древнееврейском есть слова, обозначающие (не)существование, с признаками существительного
— частицы «yesh», «ayin», («еп»)23? что при этой взаимосвязи невозможно. Даже если мир древних греков неподвижен, в древнегреческом нередки предложения, в которых нет глагола "быть". В современном прогреческом мире глаголы состояний могут обозначать и движение. Конечно, заметим, если значение представляется употреблением, а не соответствием означаемому, предположение этой взаимосвязи небезосновательно, но все равно безотносительно к устройству языка. Нет такой связи и между мышлением и языком: его динамика или статика не соотносима с характеристиками системы
глаголов24. Последнее утверждение Бара, связанное с новоевропейской философской традицией представления чистого умозрения Не только помимо чувственных образов, но и слов, не необходимо ввиду самого... представления и не бесспорно в отношении устройства языка и мышления (однако правильно, если различать логическую и филологическую - только ввиду последней возражает Бар - точку зрения при исследовании языка).24 ...Поэтому обратное утверждение Бомана в ответе на эту критику — сердитом и бездоказательном,
искажающем мысль Бара при внезапном обрыве цитаты - — могло быть и не напрасным, если бы исследовались мышление и язык ввиду самого... представления. Убеждение Бомана, что его исследование языка «продвигает» к мышлению и бытию как миру сущего возникло, по нашему мнению, при обнаружении бытийственности древнееврейского слова, охватывающего слово,
действие и предмет . По ходу такого представления языка, невольно отвлекающего от самого... представления, и происходило расширение предмета исследования. Хотя Боман не заметил этого отвлечения и был убежден, что имеет дело с языком и мышлением согласно принятым понятиям. Но так как отвлечение все же происходило, методологически именно Боману, по нашему
мнению, даже в отсутствие единого метода , удалось наибольшее (профеноменологическое) понимание библейской древности, хотя будучи неосознанным, отвлечение не было и последовательным. Различение древности и современности по критерию преобладания временности-пространственности, содержания-формы, (не)подвижности, наиболее полно осуществленное именно Т.Боманом, ввиду самого... представления неубедительно. Некоторые из замечаний исследователя согласно критерию вообще не продуманы. Боман обращает внимание на пространственность современного времени, а пространственность древнего пропускает; древнее и современное время различаемы Боманом как психическое и физическое, а пространство — как
качественное и формальное, но неизменно физическое . При таком разграничении конечно не видно взаимосвязи психического времени и качественного физического пространства, что и позволяет Боману представлять древность как преимущественно временную, и тем более современность по контрасту к ней как пространственную . Однако Боман заметил качественность психического времени не только как переживания, но и события, и оттенка физического тела, жеста: слово «мгновение» («rega») обозначает и удар, объединяясь со словом «глаз» (« ayin») — взгляд, но не как
видение, а трепет век О. Очевидно, эти замечания не согласуемы с психическим представлением времени: свидетельствуют о несубъективности времени и однородности пространству — тем более, что пространство — еще увидим — не являлось именно физическим. Глагол «achar», соответствующее наречие или предлог «achar» и предлог «ad», обозначающие пространственность и временность сразу — мешкать, топтаться (становиться сзади), после и за, до — еще очевиднее свидетельствуют об однородности времени и пространства библейской древности. Никаких преимуществ у времени не видно. Замеченные Боманом содержательные явления вещей не аморфны, свидетельствуют о своеобразии древних форм, а не об отсутствии или неявности в соотношении с содержанием (тем более, если иметь в виду как взаимны видение и слышание в Библии), также и формы греков, конечно, не малосодержательны, поэтому необходимость противопоставления соотношения содержания и формы при сравнении с греческой древностью (и современностью) — «красота человеческой внешности не в форме тела и телесных частей, а в совершенных
качествах, которые эта внешность различными способами показывает» 1 — не очевидна. Содержательное представление вещей — так, как оно является в исследовании, — не годно для понимания возникновения метафор (и вообще иносказаний — выражений, в которых есть какие-то отступления от прямого
(буквального) смысла); если телесность Бога — это только его качества, а не
тело32? почему эти качества «описываются» как тело, почему гнев это нос, а радость — рукоплескание? Почему сравнение Бога и интимных частей тела, человека и одежды (напр., Иер. 13:11) — сравнение невозможно кощунственное теперь, не было возмутительным тогда? Имея в виду всю природу, почему дух Бога — это и ветер, почему люди — это и травы? Ответ прояснил бы и современные метафоры — откуда берется «ветер веков», взвевающий кудри юношей и бороды старцев... Даже если жизнь евреев действенна, противопоставление покоя движению как критерий различения... сомнительно, если время и пространство древности отличны от современных; тогда необходимо обратить внимание на движение — и движение, покой — и покой, и лишь ввиду их различия на соотношение их; может быть то, что мы представляем как движение, тогда было покоем... или вовсе не определимо в таких противопоставлениях. Покой для евреев — еще увидим — это, на современный взгляд, не отсутствие движения, а одно и то же, повторяемое движение, и его замедление, а не полное прекращение (ср.: «земля же была безвидна...» (Быт. 1:2) все-таки глагол «haiyah», союз с Богом — одно состояние на пути к нему). Пустыня грешников на современный взгляд полна движений — там раскаленный ветер и вихрь песка, есть животные, но для евреев она — мертвое, неподвижна... Также современность не сводима к покою; в поэзии и кино психика все чаще передана через движения человеческого тела и предметов, пусть в основном пространственные, а не временные ...(см. Часть П., гл. 1).
По нашему мнению, различение древности и современности по предлагаемому Боманом критерию возможно только при исследовании субъект-объекта (и самого представления). Ввиду самого... представления это различение по существу невозможно — ни по качествам, своеобразие которых или не (оче)видно (в случае формы — содержания, движения — покоя), или
оказывается возможным и в современности (психическое время), ни по соотношению (поэтому). Именно само рационально-субъективное представление и есть, по нашему мнению, критерий различия, все остальное из перечисленного — лишь особенность критерия как (не)принадлежащее самому... представлению, в отвлечении от него пересматриваемое: так как не видно превосходства времени, содержания и движения в древности самой по себе, они противополагаемы современности прежде всего по качествам, поэтому, строго говоря, не пространству, форме и покою, а другому времени, содержанию и движению, и только в этом, так сказать, внешнем сравнении противополагаемы современности как более временное, содержательное и действенное (так же противополагаемы современности древнее пространство, форма и покой). Каковы они — время, пространство... необходимо исследовать вновь. В замечаниях Бомана, выявивших качественность пространства и
времени, действенность, несозерцательность и непредметность сущегоЗЗ, субъект-объектное единство, уже очевидно, пусть неосознанное, отвлечение от самого... представления, с которым они соединены, но не согласуемы.
Все другие исследователи — даже обращавшиеся к существованию Библии как текста — оставались в пределах этого представления, особенно пригодного для идеологических намерений возвысить-принизить древность — скрывая их. Оно позволяет видеть в Библии пример «религиозного скептицизма» и «богоборчества», а также «гуманизма» и «свободомыслия» как фактически
достоверный . Предполагая, что процесс сочинения Книги Иова неотличим от современного, М.И.Рижский допускает и для древнего «автора» современные приемы литературной работы — создание героев, необязательно совпадающих с
писательским «Я»35? их собственной речи, а также разбирающегося в этих приемах «вдумчивого читателя», который должен был «сообразить», что «если Иов, потрясенный явлением Бога, умолк... то ведь сам автор поэмы, чьи мысли очевидно (выделено мной — И.К.) излагал Иов в дискуссии, бога не лицезрел, а
значит так и остался со своей скорбью и сомнениями»36.
Конечно и возникновение «Книги» представляется рационалистически: вначале у автора «поэмы» зреет замысел, к нему толкают обсуждения в кругу единомышленников и «жаркие споры» с ортодоксами, затем он его осуществляет на материале древней легенды согласно здравому смыслу и
логике . Благодаря литературным достоинствам книга была канонизирована,
согласно религиозной доктрине — исправлена™. Древние теологи, которые, очевидно, по мнению Рижского не очень отличались от современных пропагандистов- , сопоставимы с ними именно потому, что занимают вместе с «автором» одинаковое с ними положение: они как разносчики реакционных идей противостоят «автору» — приверженцу и создателю прогрессивно разумного О, то есть тоже, конечно, идейного. Соответственно неудивительна общность положения исследователя и «автора» Книги Иова, представляющаяся Рижскому столь несомненной, что он позволяет себе высказываться от его
имени І. Разумеется, упоминаемая в цитируемом отрывке способность
ощущения не разбирается.. .42
Этот же вид модернизаций, скрадывающий жизнь и живое, распространен и среди исследователей Нового Завета (см. Часть II, гл. 1), так что наши замечания имеют в виду всю библеистику.
Ничто, конечно, не воспрепятствует продолжать такие исследования, тем более, что новые идеи поначалу кажутся шаткими; их некому поддерживать, кроме автора. Но теперь злободневные проповеди не столь современны. Религиозный восторг, превратившийся в историко-филологический — перед «неожиданной поэзией», «смелыми метафорами», возможный даже в книге Бомана З, лишь прикрывает нехватку мысли, тем более заставляет обратить внимание на проверку самого... представления (и представления вообще).
Обоснование темы исследования.
Проверка подразумевает осознанное отвлечение от этого представления как определяющего древность, и представление древности как являющейся помимо
него (в сравнении с ним) — как феномена . Поскольку феномен несогласуем с этим представлением, такая феноменология, возможная только в соотнесении с последним, происходит как его пересмотр.
Проверка Библии как текста по факту текста необходима прежде всего, так как ввиду текста все содержание оказывается предопределено рационально-субъективно. Ввиду текста любые различия древности и современности — даже связанные с возможностью самих представлений: при исследовании телесности и труда очевиден и вопрос о чувственном и сверхчувственном — сводимы к различию содержания представлений, поэтому их обнаружение не меняет представление древности. Исследователи предпочитают свое представление, отказывая в объективности тому, что является в Библии, чтобы таким способом отделить это явление от того, что было помимо него. Так ввиду текста человек исторически по существу устранен.
Этой проверкой начнется проверка основных (формосоставляющих) понятий применительно к древности - субъекта как разумно-производящего деятеля и объекта как предмета. Таким образом произойдет не только гносеологический (в смысле применимости этих понятий), но и онтологический пересмотр древности - поскольку, конечно, не будет обнаружена реальность, соответствующая этим (и др.) понятиям.
Другие понятия объекта — всеобщего и необходимого сущего, сущего до, вне и независимо от сознания — подразумеваются нами, так как имеют в виду, пусть не всегда явную, возможность его потребления: в качестве содержания представления объект уже как-то освоен, но не рассматриваются, так как различие древности и современности при проверке первого понятия самое очевидное.
Такое - более строгое, чем общепринятое - разграничение древности и
современности позволит и более строгую соотнесенность. Таким образом,
жизнь и живое если не будут представлены понятийно, то все же более
осмысленно, чем теперь.
Проверка подразумевает отвлечение от историко-филологических исследований (если выяснится невозможность Библии как текста — тем большее), и тем большую строгость исследования как философски библеистического; в нем «сомнительность» не будет представляться обозначением неправильного, а лишь неизбежного и тем не менее контролируемого сопутствующего мнения (в смысле самого понятия).
Как соотносится наша феноменология с общепринятой очевидно лишь предварительно: это вопрос особого исследования — однако она неоспорима при любом ответе. И связана с хайдеггеровым понятием феномена не случайно: современные понятия фактически скрывают древность, она является лишь помимо них — когда они пересматриваемы.
В нашей феноменологии тоже обнаруживаемы «эпохэ» и редукция, так как мы устраняем вопрос о существовании мира самого по себе и отвлекаемся от (не)научных понятий - их формы и содержания (то есть от естественного мира и, на примере истории и филологии, от мира наук, просматривающих - в смысле пропуска очевидного - феномен). Так как в нашей феноменологии жизнь и живое (древности) пересматриваемы от современности к субъект-объектному единству - не в смысле смешения, а выяснения происхождения (источника и подробностей существования) в Боге, такой пересмотр сходен с преобразованиями сознания к трансцендентальному субъекту (представление этого субъекта как Бога возможно, и не вынуждает новое отвлечение, так как Бог древности не трансцендентен, хотя, конечно, исследуем лишь на примере сущего - так сказать, трансцендентальных субъективностей низших порядков). Сходство тем большее, что эта жизнь и живое - не только в том, как они
являются нам (после всех этих отвлечений), но - еще увидим - и в самих себе (то есть для древнего человека) существуют помимо (для нас то есть - отлично от) эмпирического опыта, современных понятий (и представления, для нас - в феноменологическом представлении).
В движении исследовательской мысли как бы за факт и представление сказывается открытая Гуссерлем избыточность сознания.
Ввиду рационально-субъективного представления в таком единстве объекта исследования не видно сознания, однако его не видно тогда и в трансцендентальном субъекте... из обширности отвлечения очевидна непсихологичность нашего исследования, представляющего сознание как бытие.
Так как трансцендентальный субъект представляем через понятие жизни, а во всей интерсубъективной конкретности - жизненного мира, и эти понятия, в смысле непосредственной поэтому пропускаемой очевидности, доступны прежде всего феноменологически, тем более уместна феноменология жизни в нашем исследовании44 . Перечисляемые сходства тем надежнее, что феноменологические понятия изменяемы по ходу исследования, поэтому легче приспособляемы к другим понятиям, обобщениям.
Однако полные «эпохэ» и редукция, которые бы позволили после вводного осуществления исключительное внимание к феномену, думаем, невозможны: первоначально сознание направлено к предметам только в форме рационально-субъективного представления, из этой формы возникают возможности исследования, поэтому мир, представимый в сознании, не представим как только мир сознания - без постоянного возобновления «эпохэ» и редукции, и новых повторных возвратов к миру в сознании - полностью не преобразуемом. Поэтому эти возвраты не будут чуждыми феноменологии способами мысли, а ее необходимой частью (кроме того, не исключено, что эти возвраты обращают исследование к его первопричине - тогда их необходимость очевидна тем
более). Также не существует чистой интуиции несвязанного фактами непосредственного умозрения феноменов. Интуиция, кажется, не представима в строгих понятиях, позволяющих распространять на нее общенаучные критерии, - тем более, что феноменология, подвергая сомнению сами понятия, выходит за их пределы. Вряд ли даже возможна уверенность, что при осуществлении интуиции к ней не примешиваются другие формы мышления и (косвенно) опыта... При отождествлении эмпирического явления и факта, а также трансцендентального факта и феномена44 , необходимость преобразования «эпохэ» и редукции скрыта: кажется, отвлечение от такого факта уже приближает к феномену, а феномен как трансцендентальный факт не нужно фактически обосновывать. Однако, думаем, лишь строгое различие факта и феномена обеспечивает строгость исследования44 и большую последовательность в выяснении исторического развития в самих понятиях, признаваемого в феноменологии, например, под именем «эгологического генезиса». (Однако мы пока не готовы на основе наших поправок пересмотреть феноменологию для любых случаев - даже таких, когда исторические перемены трансцендентального субъекта (в самих понятиях) малозаметны, так что мир в сознании и мир сознания в большей мере едины, чем это допускаемо нами - из-за возможности не только причинно-следственной, но, думаем, и взаиморавной взаимосвязи феномена и факта и более независимого существования факта. Например, книга XVI в. - это все-таки текст и как факт истории, и как феномен; пересмотр самого понятия текста никаких изменений бы по существу не обнаружил, поэтому все наши поправки излишни - если, конечно, чистой интуиции достаточно для такого обнаружения книги)44 .
Наша феноменология прежде всего познавательна, а не онтологична: обнаруживая условность собственных методов - (как бы) устранять вопрос о мире самом по себе, (как бы) сводить его к сознанию как бытию - она допускает возможность его самостоятельности, а не только свойство сознания являть мир
таким образом, так же, как и противовозможность. В этом смысле вопрос о мире для исследователя малозначителен, тем более сосредоточиваемо внимание на объекте исследования, а исследованию обеспечиваема большая независимость от любых онтологии, при изначальности феномена как предмета исследования. Так как мир в сознании, может быть, изначален миру сознания - как его первослой с возможностью мира самого по себе, наша феноменология не притязает на обоснование, например, библеистических наук - но в качестве отдельной дисциплины обеспечивает их большую строгость, уточняет - на их же собственной фактической основе. В этом, а также в разработке общих вопросов, наша феноменология как философская библеистика превосходит другие - подготовительные библеистические науки.
Устройство предлагаемой феноменологии схоже с герменевтическим кругом, поскольку феномен как источник факта и только в этом непреходящем (для цели феноменолога) смысле — его прошлое, представляется предпониманием, а факт — как прекратившийся осмысленный феномен — пониманием. Однако познавательная чистота нашей феноменологии лишь косвенно предусматривает самоистолкование, предусмотренное нами строгое различение и, главное, удержание различия факта и феномена невозможно в
44 тг
онтологическом свершении круга . Исторически предпонимание в круге — это другое понимание, тогда как феномен не является уже сложившимся пониманием по отношению к современности и даже в самом себе, поскольку представление в нем как библейской древности еще не сложилось. Исторически феномен (особенно библейский) в большей мере предшественник понимания вообще (конечно, для феноменолога), чем предпонимание. Поэтому в нашей феноменологии предполагается выход за пределы факта — в движении к самому факту, в круге в ущерб истории такое предположение
44 1-г , невозможно . Предпонимание-понимание круга осуществляется как бы
44 само собой , в нашей феноменологии предусматривается в
целенаправленных усилиях. При этих своеобразных поправках наша феноменология является приспособлением круга к древности, а не нововведением; при исследовании трактатов философов схожего нам времени способ различия настолько очевиден — своеобразие мыслей предков бросается в глаза — а единая основа для сравнения — понимание — так несомненна, что историческое развитие самих понятий малозаметно, и наша феноменология как особый способ излишня. В отличие от круга, она нигде цельно, кроме нашего исследования, не применялась; отделяясь от конфессионального исследования, библеистика, конечно, обнаруживает рационально-субъективное представление, однако лишь по содержанию, само оно по-прежнему неосмысленно сказывается в библеистике. В обозначении древности понятием, очевидно, нет понимания, пока не выяснилась возможность взаимосвязи и взаимосвязь обозначенного и понятия. Также нет понимания в аналогии, пока не выяснилась возможность сравнения и что сходство не мнимое. При исследовании философских вопросов — этики, невозможно лишь подразумевать понятие, что прикрывало бы современность, тем очевиднее в библеистике нехватка (осмысленного) понимания. Перечисленные выяснения осуществляются в ней в отдельных, как бы случайных, попытках, а не в последовательном решении помимо феноменологии невозможном.
Методология исследования.
Это два этапа феноменологии, сходных с обозначенными Гуссерлем: 1) представление древности в отвлечении-соотнесении с рационально-субъективным представлением (с фактом, прежде всего - Библии как текста), представимое как трансцендентальный опыт (интуиция), но фактически опосредованный: связанный с преобразованными «эпохэ» и редукцией; 2) согласованное с понятиями самого... представления как с современностью (т.е. в нестрогом виде) обобщение феноменологического представления, представимое как осуществляемая в феноменологии самокритика (возможная
теперь в общенаучных критериях - фактичности и проверяемости). Использование принятых в библеистике литературной и исторической критики. Новизна исследования.
1. Впервые предложено систематически философское исследование библейского - иудаизма и христианства (что позволило философское, а не историко-филологическое понимание библейского человека и мира).
2. В библеистике открыты неконтролируемые модернизации (отличные от вызванных произвольными мнениями и устоявшимися концепциями) -вызванные неизбежным, поэтому никогда полностью не устранимым, использованием современных понятий: субъекта как разумно-производящего деятеля, объекта как предмета - противостоящей, невменяемой-потребляемой цели, представления — субъективного образа объективного, пространства и времени как форм представления, мира как представляемой целостности, текста как явления представления, чувств как психических переживаний, веры как чувства, закона как правила...
3. Впервые - насколько нам известно - поставлен вопрос о феноменологическом описании сознания библейского человека и достигнуто такое описание (жизненный мир, складываемый только в зависимости от Бога, Христа, поэтому в вышеуказанных различиях невозможный: субъект, объект - это любое сущее, всегда подвижное-деятельное (все животные, растения, земля и небо, человек), мир - это всё, через представление, незамкнутое-несформированное, неопределимый, пространство и время - это качества сущего, текст - его выразительная подробность, чувства - внутри-вовне проживаемое, вера - пре(д)-данность, закон - природа сущего... В этих подробностях видна структура жизненного мира: живое, или жизнь - текущее очевидное (непосредственно данное древнему человеку, подвижное-деятельное к Богу, Христу) и жизнь - жизнеприсутствие (несущее-поддерживающее
живое), первоживое (источник живого), сама жизнь. Ввиду этой структуры выявлено прекращение жизненного мира как смерти-греха.).
4. В феноменологию, приспособляемую к древности, внесены поправки -неполные (преобразованные) «эпохэ» и редукция - подготавливающие пусть нестрогое, но понимание в общепринятых понятиях, поэтому более доступное, как нам кажется, чем обычно в феноменологии, с сокращением неконтролируемых модернизаций (более тщательным, чем было бы возможно без этих поправок).
5. Такое понимание (на втором этапе нашей феноменологии), пусть лишь предварительно, осуществлено в исследованиях Библии впервые - на примере этики Посланий ап. Павла (общеэтическим проблемам которой -различия, несводимости должного-сущего, соотношения морали и языка, обоснования морали - представляемым в библеистике эсхатолого-сотерологически, возвращен этический смысл, и они - в пересмотре современных понятий - обнаруживают новые смыслы: различия, несводимости, действенности живого, невозможного как правило, современный текст и вне этики).
6. Впервые разработано христологически целостное представление Посланий ап. Павла (и намечено теологически целостное представление Ветхого Завета).
7. Уточнена концепция тела (и его подробностей: души, духа) в Ветхом Завете - в представлении его только в зависимости от Бога, как субъект-субъективного.
8. Эта концепция - в новом виде - распространена на эти Послания, впервые представляя тело (телесность) в них как несозерцаемое, непластичное, непредметное, неметафорическое, складываемое как субъект-субъективное в зависимости только от Христа (с обнаружением различия или совпадения
тела-плоти (и души-духа) в этой зависимости, а не самих по себе, устраняющим гностическое толкование).
9. Новая концепция закона в Посланиях (и отчасти в Ветхом Завете): отказ от понимания закона как правила, а завета как договора, отказ от противопоставления, строгого различения закона и завета, с обнаружением зависимости закона только от Бога, Христа (что позволило представить противоречивое явление закона в Посланиях как явление двух полностью различных законов - буквы и духа, для первых христиан независимое от взаимоотношений с евреями, (не)соблюдения пищевых заповедей, обрезания и праздников, а зависящее от (не)исполнения любой заповеди по мере (не)способствования жизни во Христе, т.е. ввиду современности - по мере (не)способствования усилению церкви).
10. Уточнена концепция пространства и времени в Ветхом Завете и Посланиях: качества пространства и времени только в зависимости от Бога, Христа (представляемой этически - пространство и безпространственность, время и безвременье, плотность-разреженность пространства, ритмичность времени).
11. Уточнена концепция смерти и греха в Ветхом Завете и Посланиях: впервые предложено описание смерти и греха не самих по себе, как сущего, а прекращения, в зависимости от Бога, Христа (это позволило последовательно показать, что смерть, грех для библейского человека не взаимосвязаны с жизнью (представляемы ввиду современности приблизительно как ничто, а не сущее), слияние смерти и греха, различие смерти как погибели и жизни, демифологизацию библейских сил (редко обособленных как отдельные существа, перемешанных со всем погибающим миром).
Впервые разрабатывается строгое представление библеистики как науки (предложены критерии отличия от богословия и междисциплинарного размежевания). Главные результаты:
- подготовлено понимание библейской древности - более точное (сокращающее неконтролируемые модернизации) представление в современных понятиях;
- описание феноменологического жизненного мира (показано сложение сущего как живого (для библейского человека) - в зависимости от отношения-положения к Богу (в Ветхом Завете) и Христу (в Посланиях ап. Павла). В этой же конкретности показано действие Бога и Христа как жизни: жизнеприсутствия-первоживого и самой жизни (достигнуто менее модернизированное представление всего сущего, Бога и Христа - очевидных теперь не только в вере или иносказательно));
- подготовлено понимание этики и онтологии. Впервые осмыслено очевидное представление жизни и живого как главного явления раннего -иудаизма и христианства в пересмотренных этических понятиях;
- библеистика представлена как система наук (в отличие от богословия) и особая наука, отличная от исторической и филологической библеистики.
Эти результаты разобраны в следующих тезисах, представляемых к защите. 1. Необходимость сокращения неконтролируемых модернизаций для
понимания библейского человека и мира.
Пропуск проверки самих понятий, вызывающий невольное представление древности по существу как современности. Мнимая строгость такого представления: неопределенность понятий - непроясненность взаимосвязи древности и современности. Скрытная идеологичность такого представления, навязывающего древности потребительски-господствующее положение
человека в мире для оправдания современности. Неизбежность (и - при всех недостатках - необходимость) такого представления в фактическом описании (истории и филологии). Недостаточность такого описания в философской библеистике (ввиду цели: «исследование мыслей святых писателей о божественных вопросах»).
2. Необходимость феноменологии в философской библеистике. Уточнение цели философской библеистики: как является древним то, что
представляется нам. Феноменология как способ строгого различения древности и современности: феномена и факта. Неосознанные попытки феноменологии в библеистике в целом. Поправки в феноменологии: неполные «эпохэ» и редукция. Уместность вопроса о жизни и живом в Библии ввиду феноменологии.
3. Особенности (феноменологического) жизненного мира библейского человека.
3.1. Невозможность текста как явления представления - невозможность современного субъект-объектного различения.
Несформированность представления. Невозможность антропоцентризма и антропоморфизма в Библии. Сложение сущего в Боге, Христе.
3.2. Тело как субъект-субъективное.
Невозможность тела как предмета. Неметафоричность тела. Тело и душа, дух. Телесность мира. Сложение тела как подвижного-деятельного в Боге. Качества тела в такой зависимости. Возможность соотнесения с современным представлением тела. Различие или совпадение тела-плоти (и души, духа) в зависимости от Христа, а не самих по себе в Посланиях ап. Павла. Плоть (тело) вне Христа как испорченное тело. Невозможность преобразования тела (плоти) в смысле отделения доброго от злого. Преобразование (испорченного) тела как его упразднение. Тело (плоть) во Христе как новое тело. Преемственность тела (плоти): внешний и внутренний человек.
3.3. Закон как природа сущего в Посланиях an. Павла. Невозможность закона как правила в Библии. Трудность понимания этого
ввиду современности (Библии как текста): попытки метафорического представления закона. Закон и завет: сомнительность противопоставления, строгого различения. Складывание двух законов (старого и нового) в зависимости от Бога (взаимосвязь такого представления с представлением закона в Посланиях ап. Павла). Складывание двух законов в Посланиях в зависимости от Христа: закон буквы - закон вне Христа, закон духа - закон во Христе.
3.4. Пространство и время как качества сущего (а не формы представления).
Сомнительность преобладания временности, а не пространственности в мире Библии. Сбивчивость в современность представления пространства и времени при описании сущего древности. Возможность их строгого представления как именно качеств сущего: зависимость от Бога, Христа (пространство и безпространственность, время и безвременье, плотность-разреженность пространства, ритмичность времени). Непредставимость пространства и времени вне этой зависимости, самих по себе: их неизмеримость, непредсказуемость, расплывчатость.
3.5. Невозможность смерти, греха как сущего. Невозможность смерти как сущего.
Неуместность современного представления сущего как содержания представления. Смерть как прекращение в зависимости от Бога, Христа. Смерть и мертвое. Усугубляемость смерти (невозможность смерти как живого: слияние смерти, боли, страданий, преобладание замещений, а не присоединений, повторов, а не различий, нецелостность, одинаковость, самоуничтожение). Невозможность физической смерти. Мертвый мир и отдельно мертвое. Невозможность морально нейтральной - природной смерти.
Невозможность греха как сущего.
Признаки слияния смерти и греха (содержательно-формальные совпадения сознания смерти и греха): грех как хаотизированное тело, преобладание повторов, а не различий, одинаковость, резкость перехода к смерти и греху, совпадение страданий в смерти и грехе, смерть как наказание - слияние греха и наказания. Демифологизация смерти-греха и злых сил. Различие смерти и греха: различие смерти - смерть-погибель и смерть как жизнь.
3.6. Структура жизненного мира.
Живое, или жизнь - текущее очевидное (непосредственно данное библейскому человеку, подвижное-деятельное к Богу, Христу) и жизнь -жизнеприсутствие (несущее-поддерживающее живое), первоживое (источник живого), сама жизнь. Нетривиальность этой структуры, в которой общеизвестные в библеистике утверждения о живом как любом сущем, а жизни как Боге, Христе представлены в очищенном от неконтролируемых модернизаций виде. То есть достигнуто большее понимание (в смысле представимости) сущего и Бога в древнем сознании и большее понимание этого сознания - как оно существует (неотделимое от содержания, одинаково с ним устроенное - как живое, структурно неопределенное ввиду современности: при отсутствии в нем свойств противополагать и более-менее строго отличать мир как содержание представления от себя самого, различать собственное содержание - напр. представление чувств (и др. идеального) и представление мира, смешение свойств идеального и мира в сознании: оттеночность-законченность явлений мира, чувств. Незавершенность сознания во всех проявлениях - их несамодостаточность, смешения переживаний, восприятий, впечатлений. Прекращение сознания при осознании смерти-греха.). 4. Этическая представимость жизненного мира (на примере Посланий ап.
Павла).
Эскатолого-сотерологическое представление общеэтических проблем в
библеистике. Возврат к этике: необходимость пересмотра этических понятий (для сокращения неконтролируемых модернизаций, сокращения предзаданности общеэтических проблем, для обнаружения новых смыслов в этих проблемах), необходимость представления жизненного мира в таких нестрогих понятиях, соответствующих, тем не менее, общепринятому пониманию в этике (для формирования понятийного понимания жизненного мира в приближении к пониманию предметов других библеистических наук: истории и филологии). Пересмотр общеэтических проблем в жизненном мире.
Проблема различия, несводимости должного-сущего.
Невозможность должного как правила (и вообще нематериального). Различие должного и сущего как Христа и христиан, противоположность должного и сущего как Христа (-христиан) и грешников. Своеобразие такой противоположности: непредставимость как единства. Невозможность сущего как единства (не)практикуемого должного: добро и зло в человеке как внутренний и внешний человек (невозможность единства добра и зла, их несопоставимость).
Проблема соотношения морали и языка.
Неотделимость текста и этики для Павла - по содержанию текста (эсхатолого-сотерологическая тематика как этическая) и форме (повеление-утверждение как внутриэтическая проблема).
Проблема обоснования морали.
Христос как первонорма (должное): неслучайность Христа как примера для подражания, невозможность Христа как внеэтического основания. Этика как первотема жизненного мира вообще (этичность тела (души, духа), закона, пространства и времени). 5. Представимость библеистики как науки.
Недостаточная осознанность библеистики в целом и в отдельных дисциплинах в западной и отечественной библеистике - отсутствие целостного
представления и междисциплинарного размежевания, отсутствие критерия отличия от богословия, позволившего бы также определить ее начало, недостаточно выявленная взаимосвязь с рационалистической традицией. Необходимость феноменологии для такого представления и поиска критерия.
Библеистика в целом в отличие от богословия: исследование, а не развитие конфессии, внеконфессиональность, использование научных критериев - фактичности (фактической обоснованности, отделенности факта от субъективного мнения и ценностных предпочтений исследователя, представимости факта в общепринятых понятиях), проверяемости (подтверждаемости-опровергаемости). Библеистика как система наук: история, филология и философская библеистика (= собственно библеистика, библейская теология). Возможность междисциплинарного размежевания: по способу исследования (рационально-субъективное и феноменологическое
представления), по предмету: факт и феномен. Предметное размежевание истории и филологии: исследование общества и его идеологии, текста и авторства. Соотношение с философской библеистикой. Дополнительные признаки научности в философской библеистике: различение и согласование феномена и факта, обеспечивающее сокращение неконтролируемых модернизаций и общедоступное представление феномена (как факта). Осуществление философской библеистики во всех библеистических дисциплинах.
Исследование состоит из Введения, двух частей, семи глав, Заключения, Примечаний и списка литературы (общий объем - 13 а.л.).
Сущее как живое
Феноменология жизни не доказывает утверждения библеистики и, строго говоря, не позволяет понять, но все-таки позволяет наглядно-словесно представить — выказать то, что в них пытаются подразумевать. Феномен выкажется (явится) в выказывании. Кроме жизни и живого других феноменов в Библии нет, поэтому каковы они — будет очевидно по соотношению между ними. В отсутствие современного субъекта это соотношение — еще увидим — не отличимо от них как производное; это их же распространение, поэтому такое выказывание достаточно.
Живое — ввиду жизни и являющее жизнь — тоже жизнь: «kol nephesh chaiyah» — каждое живое существо — не отличается от «kol chai» или «kol chaiyah» — это живое, каждая жизнь. «Nephesh», обычно переводимое словом «душа», не означает особой нематериальной субстанции, а тоже отдельная или совокупная жизнь. Выказывание живого в таком происхождении — не как самой жизни — фактически наиболее доступно и будет прежде всего.
Итак, если отвлечься от исходного представления, в тексте Библии не найти доказательств Библии как текста. Текст — в устной или письменной речи — органично (цельно-вещественно) срастается с жизнью: от него начинается путь народа к земле, из текста доносится направляющий голос Бога З. Текст воплощается и в скрижалях Моисея, и в словах и делах пророка, становясь молчаливым, но не менее красноречивым, воплощается во всем живом — в нерукотворной записи веления Бога. И сказал Господь: да будет — и стало, повелел через пророка или в знамении — и случилось. Каждая подробность живого, даже в простом наличии вещи, выразительна, возможна как прямая речь, а речь — и не речь вовсе, а самое настоящее действие: нет строгого разграничения живого и его выражения — везде сплошная говорящая действительность . Поэтому повествование и прямая речь не различимы как обстоятельное изложение (так сказать, изложение действительности помимо субъективного) и личностный выплеск, но лишь по степени именования (людей и вещей)-переживания (более очевидного в прямой речи). Повествование и прямая речь одинаково заполнены человеческо-вещным, предрекают друг друга: речь Азарии об Асе - повествование про Асу, победоносная речь Авии -повествование о победе. Как вязь одних и тех же подробностей они настолько схожи, что могли бы взаимно переставляться: речь Азарии в середине повествования про Асу не нарушает его, возможна в любом месте этого повествования (2 Пар. 13-16). Мы еще обратим внимание на размещение текста как особенность древнего пространства-времени..., невозможного не только вне содержания текста, но и его устройства: последовательность книг — это этапы истории, текстологическая близость и взаимопереплетенность — это географически близкое расположение и связи: Египта и Палестины, Израиля и Иудеи... Повествование и прямая речь взаимообратимы, тем более, что прямые речи различаемы не личностно, а по общим человеческо-вещным подробностям: речь Авии - это речь возможно любого праведника, причастная к Авии лишь в силу его участия в подробностях, о которых речь, молитва Езекии - при исключении имен - возможна как молитва Псалмов. И повествование, в котором действительность так же устроена - в насыщенности переживаниями - представимо как прямая речь.
Конечно, нет строгого разграничения письменной и устной речи — что опять-таки было бы возможно лишь ввиду разграничения именно субъекта и его дел как уже объективных — речь сбывается и когда написана, и когда произнесена; везде одинаково сильно присутствие Господа. Поэтому часто нельзя сказать, имеются в виду у пророка какие-то письменные изречения или они переданы ему изустно. Писание говорит, а устная речь пишется в сердце. Не только текст, но и материал, на котором сделана запись, не посторонен живому: брошенная в реку книга предвещает бедствия (Иер. 51:63). Чтение запечатанной книги открывает начало последних дней (см. Откр.) — череда потрясений происходит при снятии очередной печати. Да и сам Иоанн, чтобы рассказать увиденное, съедает книгу пророчеств.
На современный взгляд текст запечатлевает смыслы; жизнь как сущее, мир предстает в нем лишенная вещественности, но в жизни древних евреев нет особого идеального бытия или бессмысленной вещественности — пока плоть жива - сохраняется во всех подробностях - она органично текущая; ее движения не сопровождают переживание, а слагают его: ткань плоти переходит в эмоцию - ее лицо (сочетание плотности и выразительности). Жизнь течет в тексте естественно и непосредственно, она не только за текстом, она и есть текст. Все сущее - как такое подвижное-деятельное, переживающее-выразительное - это живые смыслы.
Чтение этого текста не увлекает, а учит, но не увещеваниями, а продолжающими текст примерами. Не человек занимается чтением, чтение ведет человека; читать — значит делать прочитанное: продолжить действием речь. Чтение — это и часть речи, всюду распространяемое, всегда внимающее. Народ слушает чтение и исполняет его — причастен к чтению (ср.: Неем. 8:3 и ел., Вт. 31:12 и ел., 17:19, Иер. 36:2-3 и т.д.). Все живое внимает божественной речи, возможно тоже причастно к чтению. Чтение — это принятие жизни, еще не превратилось в современное восприятие.
Даже наиболее «философские» тексты Библии не отступают от жизни в наблюдение. Обстоятельства, предшествующие речи Иова — вовсе не условная повествовательная рамка, которой можно пренебрегать, сосредоточившись на «дискуссии» — они вызывают речь. Очутившись вне благоволения Бога, в смертельном стеснении — среди разрушенного достояния, гибели детей, болезни... — из пепла Иов начинает речь.
Вопросы Иова не являются спрашиванием о причинах — ему вовсе не хочется знать — а молящим подступом к Богу. Вопросы прекращаются, когда
Бог успокаивает Иова; возвращает благоволение — говорит с ним47. Собеседники Иова прислушиваются не к его доводам, а к его бедственному положению. Логически их речи с речью Иова не согласованы, разноголосны. Они берут его речь не как основание для собственного опровергающего рассуждения, а ради напоминания о постигшем бедствии; поэтому они не цитируют Иова, а как бы случайно роняют его слова, говорят не о том, что в речи «самой по себе», а о том, почему речь говорится. Иов говорит горе — в словах нет никакого логического развития — это исступленный повтор углубляющегося страдания, столкнувшегося с праведностью друзей. Те примеры речи, которые можно было бы принять за рассуждения, возникли не с целью познания жизни, а чтобы подкрепить в страдании и быть слышным Богу. Укорененная в самой жизни речь представляется мыслью лишь в глазах исследователя, привыкшего иметь дело с сознанием...
Деятельность живого
Живое лишь утверждаемо нами как деятельное, но еще пока не очевидно. Эта глава - предварительное выявление его деятельности: дальнейшее исследование живого в жизнеприсутствии. Эта зависимость даже только в явлениях живого (а не заповедях) всегда повелительна - живое как незавершенное в подробностях и в целом происходит в постоянном творении -в повелевающих усилиях Бога, поэтому происходит необходимо не по природной закономерности, а в ответном подчиненном усилии - в подражании Богу.
Бог трудится от начала творения, и человек в Эдемском саду (Быт. 2:15) и после изгнания из рая, как и все живое, должен работать (3:23; Исх. 20:9-11 ср.: Притч. 6:6). Любой честный труд благословен (Быт. 26:12; 39:5), поэтому хозяева должны вовремя награждать работников, не смеют их обижать (Лев. 19:13, Вт. 24:14). Бог после шестидневных трудов творения отдыхает - этому примеру следуют люди и животные (Исх. 34:21, Вт. 5:12-15). По примеру Бога, освободившего людей из египетского плена и не бросившего их в нужде, в субботние и юбилейные годы хозяева отпускают рабов на свободу, и не с пустыми руками (Лев. 25:39-43, Исх. 15:13-15). Нельзя притеснять пришельца, бедного, сироту и вдову - давать деньги в рост, брать одежду в залог и не возвращать ее еще до заката; ибо Бог милосерд... (Исх. 22:21-27), он укрывает народ словно одеждой (Иез. 16:7-8). Для пропитания человека и зверя должно оставлять землю в покое на седьмой год (Исх. 23:11). В связи с этим законом возможно предположение, что часть урожая оставлялась неубранной не только для бедных, сирот и вдов, но также и для животных (Лев. 23:22, Вт. 24:19). Никакое животное (как и человека) нельзя обижать, разорять его гнезда, убивать просящее помощи - такому надо помочь . Запрещалось закрывать рот волу, когда он молотит (Вт. 25:4), портить плодовые деревья в окрестностях осаждаемых городов, «ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление» (20:19-20). Любящее отношение Бога к народу - как отца и как мужа (Ис. 54:5) сказывается и в заповедях почитания родителей и любви к ближнему. Любовь к ближнему имеет в виду и врага - враг в беде тоже ближний, ему тоже надо помочь: вернуть ему заблудившегося вола, осла, развьючить ношу, если его осел пал (ср.: Исх. 23:4-5 и Вт. 22:1-4). Речь не идет о сугубо личностном чувстве, а о природе человека, всегда живущего в обращенности к Богу. Каждое деяние Бога отзывается во всем живом, конечно, и в поступках людей по отношению друг к другу. Близость Бога к людям передана и лексически: верность (правда), вера и добро (милость) - emet, emunah, chesed - слова, употребляемые, когда речь идет о Боге и людях. Бог воздает милостью и правдой, и люди действуют таким же образом (2 Ц. 2:6; 15:20, Быт. 24:12, 2 Ц. 10:2). Так подражание происходит как соподражание: жизнь Авраама умножена в поколениях не потому, что люди повторяют его дела, однако в них так же, как и в Аврааме, воплощено повеление Бога. И так же, как Авраам, люди становятся образцом для живущих — повеление не прекращается в предках, а сохраняется во всех живых. Жизнь как жизнеприсутствие и его воплощение — вечный образец для живого; она протягивается, ее протягивают — от живого к живому, от живого к живому; вечно претворяемое повеление. В такой бесконечности подражание очевидно избыточно. (Хотя возможно, эта любовь-милость-правда человека не должна быть одинаково сильной к соплеменнику, пришельцу и врагу: пришелец (чужеземец) это не только сын завета - ger ben berit, но и ger toshab, ger arel -необрезанный чужеземец, живший среди палестинских евреев, но никогда, несмотря на соблюдение важнейших заповедей, не причисляемый к иудеям - на него не распространялся запрет ростовщичества (Вт. 23:20), он, возможно, не допускался к празднованиям; враг мог быть заклятым, аммонитянином или моавитянином - ему навсегда запрещалось быть иудеем (Вт. 23:3)). Подражание сказывается во всем живом, конечно и в тексте как живом. Как живое текст хранит образ жизни, по которому живое складывается (ср.: Исх. 20:1 и ел. и Числ. 10:29, 32). Поэтому любые формы текста - не только заповеди - повелевают. И поскольку в них - ввиду современности - этот образ описывается, они повествуют. Сохраняя этот образ текст - как и все живое -избыточен: имеет в виду в нем как тексте явно не предусмотренное; Бог дает больше, чем человек-живое просит, и люди делятся друг с другом несоразмерно, передавая то, что им было передано, в избытке.
Ввиду современности эта избыточность живого как заповеди-повествования очевидна как взаимоперетекание заповеди и повествования, как бесконечная возможность новых практик и перетолковываний текста. Поэтому заповеди перемежаются рассказами, и в самой заповеди могут разбираться конкретные случаи — Декалог переходит в Книгу Завета (Исх. 20:22, 23:33), слова о творении и исходе — в повеление. Своеобразие заповеди в том, что в ней подробности жизни сокращены до нескольких предложений, а не в том, что они утрачены или сделались голословными, и не в том, что заповедь - лишь повеление, а не повествование. Избыточность заповеди как новых смыслов и практик сказывается и в поведении пророка. Когда он - с голоса Бога - говорит заповедь, то проговаривает не отдельные повеления, а всю Тору: вместе с заповедями он вспоминает прошлое, вместе с прежними наставлениями говорит новые. Эти заповеди, эти наставления вплетаются в его жизнь; пророк терпит лишения, лежит то на правом боку, то на левом — всей жизнью служит подтверждением и продолжением заповеди, ее угрозы и обещания — ее живым повествованием. В этой избыточности заповедь-повествование, содержащая ввиду современности повеление-описание конкретных случаев, редкая в обобщениях, никогда не ограничивало живое в подражании Богу; запрет не только ограждает живое от смерти (от внеподражания), а прежде всего направляет к подражанию, поэтому столь же избыточен, как и другие формы текста («Я Господь» в конце запрета - напоминание к подражанию, положительное дополнение запрета). В этой избыточности заповедь-повествование никогда не прекращалась, могла изменяться, сохраняя однако преемственность прежних практик. Так ввиду подражания Богу любой текст представим как обобщение, не утратившее конкретности.
Сами по себе категорические заповедно не конкретны и практически неясны, казуистические законы, сколь бы ни были они типичны, не охватывают все случаи - практически ограниченны. Среди праведников нет совершенно безгрешных людей; даже Авраам, опасаясь за жизнь, вынуждает Сарру к обману (Быт. 12:12 и ел., ср.: 20:2 и ел.). Только в подражании Богу грехи не вменяются праведнику, и он служит примером праведности, а не сформулированная в заповедях и законах практика, тем не менее, прочитывается в них.
Событие Христа как исходное
Библейский иудаизм продолжается в первых христианах. Этим фактом обеспечено продолжение той же феноменологии; предполагаемое по названию работы фоновое представление (иудейской) Библии как Ветхого Завета имеет в виду только развитие, а не противопоставление дальнейшему. Речь ведь не о сформировавшемся христианстве, а о времени первых общин 30-х-60-х гг. I в. н.э., как это представляется из семи подлинных Посланий ап. Павла того же периода . Все другие тексты относятся к более позднему времени, в основном к концу I — 1-й половине II в. н.э., и поэтому не являются для нас главным источником. Неразрешенность вопроса восстановления первоначальной проповеди (керигмы) о Христе 8 способствует феноменологии, поскольку затрудняет представление о Христе как субъективно-предметно сущем. Объединяя Новый Завет, событие Христа таится... — и сказывается в различных керигмах, так что в Посланиях нет по существу недостатков перед Евангелиями. Эти тексты связаны традицией изречений Христа в Q. — предполагаемом первоначальном источнике .
Неоднозначность отмеченного в начале факта такова, что некоторые исследователи могут не согласиться с тем, как мы его формулируем: влияние иудаизма на первых христиан не всегда представляется столь значительным. Исследователи могут представлять это влияние в связи с эллинистическими заимствованиями , на фоне антииудейской тенденции Посланниці. Но для нас несомненно представление о схизме; нигде нами не обоснованное, оно, надеемся, не покажется голословным. Мы согласны с В.Дэвисом: христианство для Павла — это не антитезис иудаизму, а его кульминация . Имея в виду это представление, мы не отрицаем ни эллинистические влияния ни своеобразие Павла как именно христианина. Посредством феноменологии это представление позволяет увидеть событие Христа как исходное" .
В библеистике А.Швейцер начал последовательно христологическое толкование Посланий ввиду «бытия во Христе», то есть события смерти и воскресения, эсхатолого-сотерологически, в свете уже наступающего Царства Божьего и спасения, распространившегося на верующих — соумирание и совоскресание. Таким образом, «бытие во Христе» осуществлялось в традиции иудаизма — обетование Бога о Мессии, наконец, сбылось .
Этот способ толкования Посланий все еще недостаточно востребован в библеистике. Событие Христа прежде всего представляется в вере, поэтому вера и оправдание, праведность по вере, а не бытие во Христе, все еще является для большинства исследователей основной темой Посланий . Это господствующее представление, поддержанное авторитетом Нового Времени, именами Августина и Лютера , не выявляет своеобразия других тем Посланий (греха, закона, тела и плоти, и пр.), которые вынужденно рассматриваются поэтому наряду с оправданием по вере. Целостное понимание жизни протагонистов при таком представлении не выказано. Событие Христа, признанное для Павла основным, оказывается ограниченным. На периферию толкования попадают эсхатология и сотерология, хотя важность этих «тем» давно признана" .
Модернизирующе конфессиональный смысл этого представления теперь, благодаря К.Стендалю, В.Дэвису и Э.Сандерсу, очевиден. Дэвис и Сандерс возобновили эсхатолого-сотерологическое и христологическое толкование Посланий. Сандерс особенно значительно усилил идею Швейцера, предложив христологическое толкование греха и закона и отказавшись от экзистенциальной методологии Бультмана. «Соединяясь со Христом, верующий ввергает себя в преобразование, которое завершится лишь ко времени пришествия Христа...». «Представляется разумным назвать такой способ мышления "эсхатологией участия (participationist eschatology)"».
Вывод о греховном положении человека в мире был сделан в Посланиях вовсе не потому, что Павел разочаровался в усилиях самому достичь праведности, выполнить весь закон, а, как это ни поразительно, из самого события спасения: «...во Христе Бог действовал, чтобы спасти мир, следовательно, мир нуждается в спасении». «Поскольку спасение заключается только в Христе, следовательно, все другие пути к спасению ложны...»99.
Эсхатолого-сотерологическому толкованию способствуют наблюдения К.Стендаля и П.Фредриксен, разрушающие личностно-субъективное, психологическое представление о Павле. Отвергая протестантское представление веры, Стендаль заметил, что призвание Павла ко Христу было подобно призванию пророка (ср.: Гал. 1:15, Деян. 9:15); совершалось не как современное обращение, сопровождаемое муками совести, а сразу же повлекло апостольское служение. Единственный грех Павла — гонение церкви. В остальном Павел и впрошлом, и в настоящем — непорочен, его совесть спокойна 00.
Относительно недавнее исследование П.Фредриксен обнаружило полную невозможность вычленить какие-то крупицы дохристианского опыта Павла. То есть была еще раз подтверждена необходимость именно сотерологического... толкования Посланий .
Человек во Христе
До сих пор ознакомление с текстом было формально; пока мы не проследили за подробностями живого, как оно находится там, в жизни.
Как и прежде (в Ветхом Завете), человек находится во Христе как тело, плоть. Большая часть телесных подробностей уходит в молчание текста. Но если показываются, то даны как и прежде. Чаще всего это голова, ноги, руки, глаза, лицо и сердце. Нет современной пространственной расчлененности тела, существовавшего бы как физический субстрат вне своих функций. Как нет и современного возраста. Отдельные органы — это границы тела: промеж них находится вся другая телесность таким образом, что они не являются лишь по отдельности, а сразу многими подробностями или всей телесностью разом. На современный взгляд их положение, их время неопределенно. Речь ведь не просто о голове или ногах..., а одновременно о теле в подробностях (ср.: 1 Кор. 12:14-21). Поэтому голова и ноги не только на концах тела, но и на месте этих подробностей. В качестве места они эти подробности совмещают. Из текста видно, что они находятся на противоположных концах, но не видно вверху или внизу — телесность перечислена от ног к голове и обратно. Тем более не видно, что вместе с головой и ногами оказываются глаз и рука. Не просматриваются в теле и какие-то другие измерения; например, нет современного различения поверхности и глубины — члены тела принадлежат ему и находятся в нем (12:25), органы — сердце... могут быть совершенно отдельно, так же как и другие члены тела... В такой безразмерности тело сжато — в том, что его органы совмещают друг друга, но также и вытянуто — все-таки это разные органы, данные как границы: противоположные (по перечислению) — голова, ноги, или рядоположенные — глаз, ухо, рука. Глаз близок к уху — о нем говорится так же, как об ухе, и как отдельный член отделен от головы, — он, как и ухо, принадлежит телу (не сказано: и голове, ср.: 12:16-17). Однако глаз близок и голове — располагается по тексту и рядом с нею (12:21). Так же близки или далеки друг от друга... — ноги и голова.
Будучи так изложено, тело пространственно пульсирует и пульсирует именно в органах как местоположениях этого тела. Различаются эти места не как чистые величины, а по различной органике — ноги это или голова..., воплощающие разные стороны, расстояния. Также и совмещаются, будучи сгустками одного тела. Так качественно пространство тела. Заметим постепенное изложение тела, его органов. В таком виде они являются промежутками тела, через них происходит его рост. Поскольку все это относится к одному телу, остающемуся в этих промежутках все тем же, таким же, время тела совмещает все возрасты, — как бы без возраста, дано как одно теперь. Так качественно время тела.
Далее, тело ведет себя: его органы говорят друг другу, имеют нужды не как физическую потребность, а попечение, и страдают, славятся, радуются друг с другом. Они более или менее благородны, — здесь это благородство не является лишь внешне. Они сложены в тело этими подробностями. Подробности — качества, чувства... воплощают тело и сами являются телесными признаками: возникают вместе с органами, даны в состоянии телесного жеста: уговоры-мольба, любовь... — в простирании рук (Рим. 10:21). Или же замещают органы как дары или плоды духа, располагаясь в духе таким же образом, как и органы — в теле, то есть являются в духе не как собственно духовные качества (12:4 и ел., особ. 1 Кор. 12:4-12, ср.: Гал. 5:22-23). Они и действуют, как бы помимо своих носителей, как будто сами — это тело, органы... «Любовь долготерпит, милосердствует...».
Так же органичны и ощущения; они тоже замещают органы — вместо уха сказано «слух», вместо носа — «обоняние» (1 Кор. 12:17). Однако не только тело находится в органах, но и органы — в теле. Там они отсчитываются как рост тела в последовательности и одновременности — теперь. И само тело является членом (1 Кор. 6:15) — как бы без органов...
Это наблюдение — о качественности пространства и времени — в библеистике давно известное, еще не предотвращает современное представление, а даже усиливает, если рассматриваемо как пример понимания, психического переживания пространства и времени. Однако мы отвлекаемся от рационально-субъективного представления, так что указанное представление предотвращено.
Это предварительное ознакомление с телесностью позволяет отвлечься от представления о человеке как субъективно-предметно сущем и разрушить метафорическое толкование текста как объективное — подразумеваемое не только для нас, но и для древних. Имея в виду предметно-сущее невозможно понять, как возникают эти метафоры: почему органы, тело... замещают человека, сопоставимы между собой? Метафорическое толкование обычно даже не видит этот вопрос — не обращает внимание на Тело Христово как тело. Хотя из текста не видно, чтобы показывающееся во Христе творение скрадывалось бы само по себе. Символическое толкование метафор Библии не годится (если иметь в виду феноменологию), так как символ — единство образа и идеи Ю ц0 мы уже неоднократно видели, что никакой идеальности, пусть даже с оттенком скульптурной пластики, в Библии нет. Предварительно человек уже очевиден как живое: картинно-непредусмотренное, в себе самом заключающее и составляющее пространство и время, к использованию непригодное, — он выясняется таким образом именно во Христе. Во Христе живое дано одинаково и, таким образом, сжимается в одно — тело, дух. Но Христос живет в каждой подробности живого, поэтому эти подробности как живое отделяются от живого: живое и живое — тела. Христос живет также во всей совокупности этих тел — Теле-Храме Божием (1 Кор. 3:16 и 12:13) — как и в отдельном члене, поэтому тело — это и член. А орган (член Тела) — это и Храм Божий, Тело. Тело, органы, члены различаются и объединяются, пульсируют благодаря такой явленности Христа. То есть Тело Христово и тело строго не различаются: коллективное — индивидуальное. Из текста 1 Кор. 12:14 и ел. не видно, что человеческое тело изложено лишь коллективно. То, что сердце расширяется и вмещает людей, — подтверждает это наше замечание (ср.: Фил. 3:21, Рим. 12:4). Голова оказывается вверху — ведь Христос как глава мужу имеет власть над ним (1 Кор. 11:3 и 11:10). Ноги — внизу: «все покорил под ноги Его» (15:27), «сокрушит сатану под ногами вашими...» (Рим. 16:20, ср.: 1 Кор. 15:25), ведь Христос выше всего живого, такое же высокое положение к Богу занимают и христиане. Все антихристово, низменное лежит внизу, под ногами... Христос подчинен Богу, поэтому и другие головы как отдельное живое складываются иерархически. Продолжая находиться во Христе, они образуют иерархическое единство: как головы, дары... — люди (ср.: 1 Кор. 12:28-30 и 11:3), и так как даны одинаково, вытягиваются в линию.
Сердце находится во глубине человека (Рим. 2:29) — как сосредоточие духа, то есть во Христе (2 Кор. 4:5-6). Ведь именно в таком положении сердце противоположно внешнему, наружному — тому, что лишено Христа — обрезанию или лицу (Рим. 2:29 и 2 Кор. 5:12, Гал. 2:6). Но сердце сопоставляется с устами: «устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать... потому что сердцем веруют... а устами исповедуют...» (Рим. 10:9-10), то есть оказывается и близко к поверхности, а поверхность приближается к глубине; они сходны — в обращенности ко Христу, и различаются в нем, когда, например, сердце больше приближено ко Христу, чем лицо, и поэтому выказывается из глубины человека, а лицо — с поверхности (1 Фес. 2:17). Столь же глубоко — на месте сердца — бывает и лицо: открытое, словно сердце, — во взоре на славу Господа, приближенное к его лицу не как поверхность, а такое, что достигло самого главного (2 Кор. 3:15 и 18, 1 Кор. 13:12).