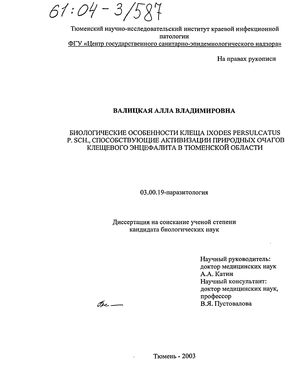Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Анализ взаимосвязи особенностей эпидемического проявления очагов клещевого энцефалита в пределах нозоареала с некоторыми природными и социальными факторами 9
1.1. С численностью и зараженностью переносчиков - таежных клещей 9
1.2. С ландшафтными особенностями природных очагов 11
1.3. С биологическими свойствами возбудителя 12
1.4. С погодными условиями 17
1.5. С хозяйственной деятельностью человека 18
Глава 2 Анализ некоторых природных факторов в связи с особенностями зараженности основных переносчиков клещевого энцефалита 23
Глава 3. Материалы и методы 33
Глава 4. Анализ многолетней динамики заболеваемости как важнейшего компонента эпидемиологического надзора при клещевом энцефалите 35
4.1. Уровень заболеваемости КЭ 35
4.2. Структура заболеваемости населения КЭ с учетом пола 43
4.3. Возрастная структура заболеваемости населения КЭ 46
4.4. Заболеваемость КЭ в отдельных контингентах населения 50
4.5. Доля городских и сельских жителей в структуре заболеваемости населения КЭ 52
4.6. Местности, где происходило заражение КЭ населения сравниваемых очаговых территорий 57
4.7. Сезонность заболеваемости населения КЭ в сравниваемых очагах 59
4.8. Заболеваемость населения КЭ с учетом клинических форм 62
4.9. Смертность от КЭ 65
Глава 5. Характеристика факторов (как прогностических критериев для эпиднадзора), способствующих повышению риска заражения клещевым энцефалитом в природных очагах с различной ландшафтной приуроченностью в современных условиях 69
5.1. Показатели иммунитета населения 69
5.2. Зараженность таежных клещей вирусом КЭ 73
5.3. Численность переносчиков возбудителя КЭ 76
5.4. Показатели прокормления таежных клещей 81
5.5. Контакт населения с клещами 85
5.6. Вакцинация населения против КЭ 88
5.7. Погодные условия 91
5.8. Оценка корреляционной связи различных фактов риска заражения КЭ и их влияние на уровень заболеваемости населения 96
Заключение 100
Выводы 109
Литература 111
Приложение
- С ландшафтными особенностями природных очагов
- Структура заболеваемости населения КЭ с учетом пола
- Доля городских и сельских жителей в структуре заболеваемости населения КЭ
- Численность переносчиков возбудителя КЭ
Введение к работе
Актуальность проблемы: Хотя с момента открытия клещевого энцефалита (Зильбер, Левкович, Шубладзе, Чумаков, Соловьев, Шеболдаева, 1938; Панов, 1938; Шаповал, 1938) прошло более 60 лет, проблема этой классической нейроинфекции не теряет своей актуальности не только из-за перспектив хозяйственного освоения огромных, но малонаселенных территорий, в частности, Сибири и Дальнего Востока, но и из-за периодических вспышек этой тяжелой болезни в уже освоенных районах. Так, по сравнению с 70-ми годами, очередной подъем заболеваемости (в 2-3 раза), который впервые определился в начале 80-х годов, составил в наиболее активных очагах (Уральском и Западно-Сибирском) от 1,7 до 8,7 случаев заболевания на 100 тыс. населения (Лашкевич, Иванова, 1990), а в Российской Федерации - от 1,6 до 2,4. В период 1990-2000 гг. заболеваемость продолжала нарастать и по Российской Федерации составила 3,5 - 6,79, а в тех же наиболее- активных очагах - от 20 до 74 случаев на 100 тыс. населения (Матущенко, Ястребов, 1998; Ястребов, 1998; Хазова, Ястребов, 2001).
Причины современной неблагоприятной эпидемической ситуации по клещевому энцефалиту (КЭ) объясняются по-разному. Одни авторы (Лашкевич, Иванова, 1990) видят причины в сокращении объема мероприятий по неспецифической и специфической профилактике КЭ на фоне резкого увеличения риска заражения за счет формирования антропургических очагов. Другие - в изменении иммунореактивности населения, в частности, снижении не только показателей иммунной прослойки сельского населения, но и титра специфических антител в крови обследованных (Караванов, 1998; Наумов, 2001).
Н.Г. Жукова, Н.И. Команденко (1998) возможные причины современного роста заболеваемости объединили в 3 группы: 1) факторы социального характера, способствующие росту населения, соприкасающегося с природными очагами болезни; 2) усовершенствование диагностики и учета заболевших; 3) погодные условия и связанные с ними колебания численности клещей и их
зараженности. А.Д. Ботвинкин с соавт. (1998) также придают большое значение не только частоте контактов населения с клещами, но и степени их зараженности.
Однако определенной ясности в вопросе о роли таких «традиционных» факторов риска заражения КЭ как численность переносчиков и их зараженность - нет. По мнению одних (Коренберг, Ковалевский, 2000), между ними и динамикой заболеваемости населения прослеживается корреляционная связь, по мнению других - она отсутствует (Бахвалова, 1994; Леонова, 1997; Хазова, Ястребов, 2001; Рябов и соавт., 2001).
Таким образом, вышеприведенный анализ показывает, что четких и обоснованных фактов, объясняющих рост заболеваемости КЭ на современном этапе, недостаточно. Кроме того, специальных сравнительных исследований о роли социальных и природных предпосылок в формировании и проявлении очагов КЭ в «спокойные» годы и в годы их резкой активизации (с начала 80-х годов) в доступной нам литературе не обнаружено, что и определило направление наших исследований.
Цель и задачи исследований. Цель работы - сравнительный анализ эколого-паразитологических факторов по их роли в резкой активизации природных очагов КЭ на современном этапе (на примере Тюменской области, входящей в западную часть Западно-Сибирского очагового региона).
Для достижения этой цели предусматривалось решение следующих задач. На фоне анализа заболеваемости (по тяжести клинического течения, профессиональному и возрастному составу заболевших, сезонности, соотношению городских и сельских жителей среди заболевших), дать сравнительную оценку (за последние 30-40 лет) динамики некоторых эколого-паразитологических и социальных предпосылок как возможных причин формирования активных очагов КЭ с различной ландшафтной приуроченностью (северной и средней лесостепи, южной тайги и подтайги):
а) зараженности переносчиков (таежных клещей) вирусом клещевого энцефалита;
б) численности переносчиков и их прокормителей (мелких
млекопитающих);
в) частоты контактов населения с переносчиками;
г) иммунной прослойки среди населения;
д) объема специфической профилактики;
е) погодных условий (температуры и относительной влажности воздуха,
количества осадков).
Научная новизна. Впервые методом сравнительного анализа некоторых эколого-паразитологических и социальных факторов и их роли в функционировании очагов клещевого энцефалита в "спокойные годы" и в период их повышенной активности установлено, что одной из важных причин резкого обострения эпидемической ситуации по клещевому энцефалиту на современном этапе является рост численности зараженных переносчиков.
Внедрение в практику. Материалы и положения диссертации были использованы:
В информационно-методическом письме «Особенности риска заражения в очагах с различной ландшафтной приуроченностью», изданном ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Тюменской области» в 2002 г для главных врачей Центров Госсанэпиднадзора городов и районов Тюменской области.
В «Кадастре очагов клещевого энцефалита в Тюменской области», изданном Тюменским научно-исследовательским институтом краевой инфекционной патологии в 2001 году.
В «Методическом письме по правилам сбора, хранения и транспортировки проб для вирусологических и серологических исследований в вирусологической лаборатории», изданном ФГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Тюменской области» в 2002 г для главных врачей Центров Госсанэпиднадзора городов и районов Тюменской области.
4. В лекциях по медицинской вирусологии, прочитанных в Тюменском медицинском колледже (2000, 2001 гг.), в Тюменском училище повышения квалификации средних медицинских работников (1999, 2000 гг.), на факультете повышения квалификации и последипломной подготовки врачей Тюменской медицинской академии (2001, 2002 гг.).
Положение, выносимое на защиту: Обоснование ведущей роли плотности популяции возбудителя как в формировании очагов КЭ в пространстве с различным уровнем заболеваемости населения, так и в их резкой активизации в современных условиях.
Апробация. Результаты и основные положения диссертации обсуждались: на XXYII межвузовской научно-практической конференции по проблемам биологии и медицинской паразитологии (Санкт-Петербург, 2000); на международных симпозиумах "Медицина и охрана здоровья" (Тюмень, 2001, 2002); на юбилейной научно-практической конференции Омского НИИ природноочаговых инфекций (Омск, 2001); на международной научно-производственной конференции "Проблемы ветеринарной арахноэнтомологии в новом тысячелетии" (Тюмень, 2001); на YIII съезде эпидемиологов, бактериологов и паразитологов (Москва, 2002); на межлабораторном совещании Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии (г. Тюмень, 2002).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 статей, в которых отражены ее основные положения.
Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 125 страниц текста, 40 таблиц, 7 рисунков. Состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных исследований, заключения, выводов, списка использованной литературы и приложения.
Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю работы доктору медицинских наук А. А. Катину, научному консультанту доктору медицинских наук, профессору В.Я. Пустоваловой, ученому секретарю диссертационного совета доктору биологических наук, профессору Н.В.
g Солопову, главному врачу ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Тюменской области» кандидату медицинских наук Ю.В. Устюжанину, директору Тюменского НРШ краевой инфекционной патологии доктору медицинских наук, профессору Т.Ф. Степановой, а также энтомологу ФГУ «Центр Госсанэпиднадзора в Тюменской области» Г.А.Рязанцевой.
С ландшафтными особенностями природных очагов
С другой стороны, исходя из принципа экологической сущности эпизоотического и эпидемического процессов природноочаговых болезней (Павловский, 1947; Беклемишев, 1959; Львов, 1975; Коренберг, 1985; Беляков, 1987), более важная причина активизации их природных очагов должна зависеть от природных предпосылок, влияющих на популяцию возбудителя. В связи с этим некоторые авторы (Катин, 1984; Катин, Якина, 1994) считают, что если учесть, что иксодовые клещи, являясь основной средой обитания популяций возбудителя клещевого энцефалита (Чумаков, Найденова, 1944) в процессе своего сложного метаморфоза (от 3 до 6 лет) испытывают всю сумму воздействия биотических и абиотических факторов, то показатель их зараженности возбудителем можно взять за основу как интегральный экологический фактор, отражающий динамику воспроизводства и сохранения популяций возбудителя в очагах. Поэтому поиском соответствия между показателями численности клещей, их зараженностью и заболеваемостью пронизана вся история изучения этой инфекции. Однако при этом также накоплены противоречивые факты. Так, по данным Л.А. Вереты (1975), периодичность заболеваемости находится в высокой корреляционной связи с показателями зараженности клещей. По данным других авторов (Минаева, 1971; Ботвинкин с соавт., 1998; Леонова, 1997; Коренберг, Ковалевский, 2000; Хазова, Ястребов, 2001) такая зависимость выявляется не всегда. 1.2.
С ландшафтными особенностями природных очагов Важнейшим принципом развития нового направления учения о природной очаговости болезней - ландшафтной эпидемиологии - явилось представление Е.Н. Павловского (1944, 1957) о природном очаге как об элементе географического ландшафта. Исходя из этого принципа, логически вытекает, что ландшафт является первичным местом заражения человека, а, следовательно, и началом эпидемического процесса. Установлено, что различный уровень заболеваемости населения зависит от особенностей ландшафта, к которому приурочены поселения человека. Так, в Западной Сибири (на примере Омской и Новосибирской областей) она была выше в предгорной тайге и лесостепи, чем в лесной зоне (Пригородов с соавт., 1973; Бусыгин с соавт., 1973); в Красноярском крае - в предгорной тайге, по сравнению с подтайгой и лесостепью (Фастовская и соавт., 1963); на Дальнем Востоке - в зоне хвойных широколиственных лесов, чем в южнотаежных (Верета, 1975); в Западной Сибири (на примере Тюменской и Томской областей) - в подтаежных лесах, чем в южнотаежных (Карпов и соавт., 1964; Филатов и соавт., 1974); в пределах Среднего Поволжья - в лесостепной зоне по сравнению с лесной (Лапшина, 1975; Бойко, 1975). Однако некоторые авторы (Павлухин, 1962; Петрищева, 1972) придают большое значение ландшафтам с выраженной неровностью рельефа (горные и предгорные леса). То есть, с позиции ландшафтной эпидемиологии очень важно выделить те участки территории ландшафтов, где обеспечивается стойкая циркуляция вируса - ядра очага (Кучерук, 1972), несмотря на то, что различные ландшафты не во всех случаях соответствуют его границам (Воронов, 1972; Коренберг, 1974; Окулова, 1980). Установлено, что в разных типах ландшафтных очагов имеются различия и в клинических проявлениях и исходов заболевания (Иерусалимский с соавт., 1961; Митрохина, 1961; Вотяков с соавт., 1978; Шаповал, 1980), и что наиболее опасные в эпидемическом отношении ландшафты сочетаются с более высокими показателями на их территории численности переносчиков и их зараженности (Никифоров, 1968; Гольдфарб, 1970). 1.3.
С биологическими свойствами возбудителя Несмотря на то, что изучению особенностей биологических свойств возбудителя (в частности, его вирулентной активности для экспериментальных животных) посвящено большое количество исследований, однако их роль в активизации очагов клещевого энцефалита и в инфекционной патологии человека практически не изучена. По мнению одних авторов, четко дифференцировать штаммы возбудителя (циркулирующие на очаговых территориях с различным уровнем заболеваемости) по вирулентной активности не удается (Чумаков, 1943; Чумаков, Беляева, 1949; H.Libikova et al., 1964; Баннова с соавт. , 1972, 1973 а, б; Погодина, 1964; Гире, 1975; Гладышев, 1975; Пустовалова, Катин, 1984 а, б). М.П. Фролова (1964, 1965, 1967, 1968), наблюдая связь между степенью выраженности патологического процесса в центральной нервной системе обезьян и тяжестью клинического течения болезни, объясняет ее не различием исследуемых штаммов, а индивидуальной реакцией макроорганизма, так как глубина этих поражений колебалась при заражении одним и тем же штаммом у разных животных. Различные по географическому происхождению штаммы также не вызывали особых морфологических изменений как в первичных однослойных эмбриональных клетках (человека, овцы, свиньи, коровы, белой мыши, морской свинки, курицы), а также в перевиваемых клетках. Цитопатогенное действие наблюдалось на некоторых клеточных линиях, но зависело не от происхождения штамма, а от его адаптации и условий культивирования (М. Pinter, J. Beladi, 1954; L. Danes, 1956, 1957, 1958; H. Libicova, 1959; H. Libicova, J. Vilchek, 1959; V. Mayer, 1962 а, б; Вотяков, Банкетик, 1962; Анджапаридзе, Богомолова, 1961; Hey строев с соавт., 1968). Вместе с тем, существует мнение и о гетерогенности штаммов не только по своему географическому происхождению, но и циркулирующих на определенной очаговой территории. Так, А.В. Дубов считает, что в очагах с высокой заболеваемостью циркулируют штаммы с высокой вирулентной активностью (с индексом инвазивности для белых мышей от 1,0 до 3,0 лог. ЛД5о/мл; вызывающих развитие парезов и параличей у обезьян и активно размножающихся в культурах клеток при температуре 40).
В очагах же с отсутствием заболеваемости в течение многих лет циркулируют слабовирулентные штаммы (с индексом инвазивности от 3,5 до 6,0; не вызывающие заболевание у обезьян и не размножающиеся в культуре клеток при температуре 40). Однако большинство штаммов (93,8 %) из числа изученных автором (81) были отнесены к высоковирулентным. Поэтому четких доказательств рассматриваемой автором связи - нет. Аналогичные связи были выяснены и на других очаговых территориях: в Свердловской области (Закирова, 1962); на Дальнем Востоке (Верета с соавт., 1983). Различие штаммов, циркулирующих в пределах одной географической зоны, по своей вирулентной активности для обезьян и других животных подтверждают и другие исследователи (Сотникова, 1962; Татаринова, 1962; Cresikova и др., 1972). Более того, один и тот же штамм (при клонировании) по своей биологической характеристике может быть неоднородным (Сергеевич, 1968). В.И. Ильенко и соавт. (1968, 1971, 1974 а, б) также выявляет гетерогенность вирусных популяций в различных природных очагах по признаку вирулентности для обезьян, но считает, что какой-либо строгой закономерности по частоте встречаемости штаммов с различным уровнем этого показателя в определенной географической подзоне (с характерным для нее уровнем заболеваемости) установить не удается. Такого же мнения придерживается В.Я. Пустовалова с А.А. Катиным (1984 а, б), которые при изучении 92 штаммов, изолированных в очагах с уровнями заболеваемости (в Свердловской и Тюменской областях), различающимися в 10 и более раз, показали, что процентное соотношение гетерогенных групп штаммов по признаку их вирулентности для белых мышей в сравниваемых очагах оказалось сходным. В этом плане важно отметить, что прямая зависимость между тяжестью клинического течения болезни и вирулентностью возбудителя проявляется не всегда (Кветкова с соавт., 1973 а, б; Погодина с соавт., 1986). Более того, имеются факты, свидетельствующие о том, что штаммы вируса с резко сниженной нейровирулентностью для лабораторных животных (и
Структура заболеваемости населения КЭ с учетом пола
В связи с тем, что подробные данные о структуре заболеваемости по возрастному, профессиональному, половому признакам больных КЭ и по клиническим формам болезни имеются только с 1984 по 2000 гг., проанализирована временная динамика заболеваемости за восьмилетние периоды с 1985 по 1991 и с 1992 по 2000 гг. (табл. 5). При сравнении показателей заболеваемости по восьмилетним периодам выяснилось, что существенно увеличилась заболеваемость по всем климатогеографическим подзонам, кроме подзоны северной лесостепи. В южной тайге заболеваемость составила 6,9 ± 1,0 и 16,1 + 3,6; t = 2,5. В подтайге - 8,33 ± 1,3 и 15,7 ± 2,6; t = 2,5. В средней лесостепи - 7,0 ± 2,3 и 21,8 + 6,8; t = 2,1. В северной лесостепи уровни заболеваемости в анализируемые периоды были гораздо выше, чем других подзонах (32,6 ± 5,8 и 43,9 ± 7,3; t = 1,2). 4.2. Структура заболеваемости населения КЭ с учетом пола Распределение заболевших КЭ по полу за период с 1984 по 2000 гг. представлено в таблице 6. В подзоне южной тайги среднегодовое количество больных за период с 1984 по 2000 гг. составило 18 ± 3,2; из них -13 + 2,3 мужчин и 5 ± 1,1 женщин. Доля мужчин составила от 50 % в 1988 г и до 100 % в 1991, 1995 гг. В среднем удельный вес мужчин был 75,4 ± 3,6 %, женщин - 24,6 ± 3,6 %. В подтайге среднегодовое количество случаев КЭ составило 99 ± 13,6; из них мужчин - 68 ± 8,7; женщин - 31 ± 5,1. Доля мужчин, больных КЭ, за период с 1984 по 2000 гг. составила от 62,6 в 1999 г. до 77,1 % в 1992 г. В среднем за описываемый период КЭ болело 69,7 ± 1,1 % мужчин и 30,3 ± 1,1 % женщин. В северной лесостепи в среднем зарегистрировано 102 ± 12,1 случаев КЭ в год. Мужчин болело 74 ± 9,1; женщин - 28 + 3,9. Доля мужчин в структуре заболевших КЭ составила от 58,2 в 1984 г до 85,1 % в 1988 г. В среднем в северной лесостепи болело КЭ 71,9 + 1,9 % мужчин и 28,1 ± 1,9 % женщин. В подзоне средней лесостепи среднегодовое количество больных было -9 ± 2,4; из них мужчин - 7 ± 2,0; женщин - 2 ± 0,5.
Доля мужчин составила от 100 % в 1984, 1987, 1994 гг. до 40 % в 1997 г. В среднем болело 78,6 ± 4,7 % мужчин и 21,4 ± 4,7 % женщин. При анализе распределения больных КЭ с учетом пола, установлено, что среди заболевших преобладают мужчины, но удельный вес мужчин в структуре заболеваемости КЭ в сравниваемых очагах различен. Так, минимальная доля мужчин зафиксирована в подтайге (69,7 %), максимальная (78,6 %) - в средней лесостепи, однако эти различия несущественны (t = 1,8). По абсолютному количеству заболевших и процентному распределению с учетом пола подзоны подтайги и северной лесостепи схожи (среднемноголетний абсолютный показатель соответственно - 99 и 102 случая в год, доля заболевших мужчин - 69,7 и 71,9 %). Для выявления тенденций распределения больных КЭ по половому признаку во времени проведено исследование существенности различий по этому признаку в 8-летние периоды (табл.7). Установлено, что в подзоне южной тайги, в подтайге и средней лесостепи за периоды 1985 - 1992 гг. и 1993 - 2000 гг. заболеваемость существенно увеличилась (табл.5), распределение же больных по полу практически не изменилось. Так, мужчины составляли соответственно по периодам в южной тайге - 74,1 ± 6,3 % и 75,5 ± 4,7 % (t = 0,2); в подтайге - 71,4 ± 1,7 и 68,4 ± 1,6 (t = 1,3); в средней лесостепи -71,6 + 13,3 и 81,2 +7,0 (t = 0,7). С другой стороны, в северной лесостепи заболеваемость за анализируемые годы существенно не изменилась (табл.5), как и процентное соотношение мужчин и женщин в структуре больных КЭ. Доля заболевших мужчин составила соответственно в те же периоды - 73,5 ± 3,0 и 72,0 ± 2,2 (t = 0,4). Таким образом, несмотря на значительное увеличение уровня заболеваемости в южной тайге, подтайге, средней лесостепи и стабильно высокого уровня заболеваемости в северной лесостепи, изменений сложившегося соотношения мужчин и женщин в структуре больных КЭ за период с 1992 по 2000 гг. не произошло. Установлено, что в подзоне южной тайги (табл. 8, рис. 1) в среднем за период с 1984 по 2000 гг. из 18 заболевших было 4 ребенка и 14 взрослых. Доля детей составила от 0 в 1985, 1991 гг. до 66,7 % в 1990 г. В среднем в данной подзоне зарегистрировано детей, больных КЭ, 21,1 ± 4,7 %, взрослых - 78,9 ± 4,7 %. При анализе заболеваемости по возрастным группам (рис. 1), установлено, что кроме детей, большой удельный вес заболевших был среди 20 - 29 -летних (20,6 %) и 30-39 -летних (18,3 %). Наименьшая доля (11,1 %) больных КЭ в возрасте от 15 до 19 лет. В подтайге (табл.8) при среднемноголетней заболеваемости - 99 случаев в год, болели 20 детей и 79 взрослых. Доля заболевших детей составила от 8,5 в 1987 г до 24,5 % в 1995 г. Среднемноголетняя доля больных детей в структуре заболеваемости КЭ составила 18,8 ± 1,1 %, взрослых - 81,2 ±1,1 %. По возрастным группам (рис. 1) в подтайге превалировали лица от 50 лет и старше (23,6 %), велика доля (17,8 %) лиц в возрасте от 30 до 39 лет. Минимальный удельный вес больных (8,8 %) в возрастной группе от 15 до 19 лет. В северной лесостепи (табл.8) из 102 случаев КЭ в среднем в год, зарегистрировано 25 детей и 77 взрослых. Доля детей колебалась от 9,4 в 1987 г до 40,5 % в 1986 г. Среднемноголетний удельный вес детей составил 24,4 ±1,7 %, взрослых - 75,6 ± 1,7 %.
По отдельным возрастным группам (рис. 1) в северной лесостепи преобладают дети, затем лица от 50 и старше и от 30 до 39 лет (соответственно - 19,0 и 18,6 %). Самый малый удельный вес (10,9 %) среди заболевших в возрастной категории от 15 до 19 лет. В средней лесостепи (табл. 8) из 9 больных КЭ - 1 ребенок. Доля детей составила от 0 в 1984, 1987, 1988, 1991, 1996 - 1998 гг. до 23,8 % в 1999 г. В среднем удельный вес детей составил 8,8 ± 2,1 %, взрослых - 91,2 ± 2,1 %. В средней лесостепи (рис. 1) большинство больных (32,1 %) в возрасте от 50 лет и старше, затем - от 30 до 39 лет (20,2 %). Наименьшее количество больных (8,8 %) среди детей до 15 лет. Установлено, что КЭ болеют в основном взрослые люди независимо от места их проживания. А по отдельным возрастным группам в южной тайге, подтайге и северной лесостепи наибольшая доля детей в возрасте до 15 лет. В средней лесостепи удельный вес детей был минимальным - 8,8 ±2,1 %. Также, во всех очаговых территориях большой удельный вес лиц от 50 лет и старше, а в средней лесостепи лица этого возраста составляют большинство больных КЭ. По всем очаговым подзонам (кроме средней лесостепи) среди больных КЭ минимальная доля лиц в возрасте от 15 до 19 лет В таблице 9 приведены сведения о временной динамике возрастной структуры больных КЭ за периоды 1985 - 1992 и 1993 - 2000 гг. Несмотря на существенное увеличение заболеваемости в южной тайге, подтайге и средней лесостепи (табл.5), существенных изменений в возрастной структуре во всех четырех подзонах за 1985 -2000 гг. не произошло. Во всех подзонах в структуре КЭ преобладают взрослые. Наибольшая доля детей (26,4 ±1,5 %) была в 1993 - 2000 гг. в северной лесостепи, наименьшая -7,4 ± 3,8 % -в средней лесостепи в период с 1985 по 1992 гг.
Доля городских и сельских жителей в структуре заболеваемости населения КЭ
Соотношение городских и сельских жителей, больных КЭ, за период с 1984 по 2000 гг. представлено в таблице 10. В южной тайге из 18 больных в среднем, - 12 - городские и 6 - сельские жители. Доля горожан в разные годы варьировала от 38,5 % в 2000 г до 100 % в 1990 г. Среднемноголетний удельный вес заболевших КЭ горожан в данной местности составил 64,9 ± 4,4 %, сельских жителей - 35,1 ± 4,4 %. В подтайге в среднем из 99 больных - 63 были горожане, 36 - сельские жители. Доля горожан составила от 48,1 в 1997 г до 86,8 % в 1985 г. Среднемноголетний удельный вес городских и сельских жителей составил соответственно - 66,2 + 2,9 и 33,8 ± 2,9 %. Если в южной тайге и подтайге в структуре заболевших КЭ превалировали городские жители, то в северной лесостепи ситуация складывается иначе. Из 102 больных - 28 -городские жители, 74 - сельские. Доля больных КЭ горожан в разные годы составила от 0 в 1992 г до 57,1 % в 1986 г. В среднем удельный вес городских жителей в северной лесостепи составил 27,7 ± 3,1 %, сельских - 72,3 ± 3,1 %. В средней лесостепи из-за отсутствия городского населения КЭ болели лишь сельские жители.
Таким образом, если в подзонах южной тайги и подтайги из числа больных преобладало городское население, то в северной лесостепи - сельское, а в средней лесостепи болели сельские жители. Для анализа изменчивости структуры больных КЭ по месту проживания, проведено сравнение по данному признаку за периоды с 1984 по 1990 и 1991 2000 гг. (табл. 11). Во всех очаговых территориях существенных изменений в соотношении городских и сельских жителей среди больных КЭ с течением времени не произошло, хотя в подтайге удельный вес городских жителей снизился (с 70,7 + 5,2 до 58,3 ±1,4 %). Это представляет интерес, .так как за последние 40 лет население юга области увеличивается за счет подтаиги (рис. 3), а население подтаиги в свою очередь, увеличивается лишь за счет городского населения (рис. 4), количество сельских жителей остается стабильным. При многолетнем (1984-2001) анализе выявлены местности, где произошло нападение клещей, приведшее к заболеванию людей КЭ. Ниже перечислены населенные пункты, вблизи которых наиболее часто происходило заражение людей вирусом КЭ. Южная тайга - всего зафиксировано 312 случаев (сл.) в 96 населенных пунктах (н.п.). Из них в
Тобольском районе - 269 сл. в 83 н.п. (г. Тобольск - 69, п.п. Винокурово - 17, Сетово - 10; случаи заражения со смертельным исходом - д.д. Ершовка, Аремзяны). В Уватском районе - в 13 н.п. 43 сл. (Туртас - 13, Уват - 9; в т.ч. 2 со смертельным исходом в д. Солянка). Подтайга - 1630 случаев заражения в 302 н.п: Аромашевский район - в 46 н.п. - 121 сл. (в т.ч. с. Аромашево - 23; д.д. Малоскаредное, Малиновка - по 8; Слободчики, Кармацкая - по 7 случаев). Вагайский район - в 30 н.п. 65 сл. (с.с. Туктуз - 9, Казанское, Вагай - по 5; Осиновская - 4). Викуловский район - 79 сл. в 33 н.п. (с.с. Викулово - 20; Каргалы - 6; Березино - 5). В Викулово - 1 летальный исход. Нижнетавдинский район - 49 сл. в 49 н.п. (п. Нижняя Тавда - 11; д. Иска - 5; д. Велижаны - 4). Сорокинский район - 106 сл. в 23 н.п. (п.п. Б.Сорокино - 47; Черемшанка —11; д.д. Александровка, Знаменщики - по 2). В Б. Сорокино - 2 летальных исхода. Тюменский район - 993 сл. в 104 н.п. (из них - дачи и н.п. по Велижанскому тракту - 225; по Салаирскому тракту - 190; по Московскому тракту - 118 случаев заражения КЭ). Юргинский район - 34 сл. в 13 н.п. (с.с. Юргинское - 16, Зоново - 3). Ярковский район - 83 сл. в 32 н.п. (Ярково -20, д. Новоалександровка - 9) Ялуторовский район - 100 ел. в 26 н.п. (г. Ялуторовск - 34; д.д. Памятное - 12; Зиново - 7) Одно заражение с летальным исходом в с. Заводопетровск. Северная лесостепь - 1884 ел. в 377 н.п.: Абатский район - 234 ел. в 71 н.п. (п. Абатское - 54; д.д. Ленинка - 20; Ощепково - 16; Шевырино - 15). Случай со смертельным исходом с. Болдырево. Голышмановский район - 221 ел. в 48 н.п. (с.с. Голышманово - 39; Гладилово, Боровлянка - по 18). Случаи заражения со смертельным исходом - в п.п. Голышманово, Б. Чирки, Бескозобово. Заводоуковский район - 194 ел. в 40 н.п. (г. Заводоуковск - 58; д.д. Тумашова, Боровинка - по 11; п.п. Комсомольский, Дроново - по 7сл.). Смертельные случаи заражения - г. Заводоуковск, д.д. Дроново, Падун - по 2; Мичурино - 1. Исетский район - 194 ел. в 40 н.п. (с.с. Исетское - 12, Слобода Бешкиль - 9 ел.). 1 смертельный случай - с. Шорохово. Ишимский район - 806 ел. в 114 н.п. (г. Ишим - 116; д.д. Плешково - 48; Тоболово - 42 ел.). Заражения со смертельным исходом - Карасуль, Синицына - по 2; Ишим, Стрехнино, Тоболово, Второе-Песьяново - по 1 ел. Омутинский район - 100 ел. в 30 н.п. (п.п. Омутинский - 22; Ситниково- 16; Б. Краснояр - 10). Смертельные исходы - с. Ситниково - 3; с. Омутинское, д. Кашевская - по 1. Упоровский район 135 ел. в 34 н.п. (с.с. Упорово - 32; Емуртла - 22; Пятково 11). Смертельные исходы - с.с. Кашаир - 2; Упорово, Крашенинино - nol. Средняя лесостепь - 202 ел. в 74 н.п.: Армизонский район - 48 ел. в 16 н.п. (с.с. Армизонское - 13; Прохорово - 8; Орлово - 7). 1 - со смертельным исходом в д. Снегирево. Бердюжский район - 66 ел. в 23 н.п. (с.с. Бердюжье - 11; Пеганово - 8; Мелехино, Полозаозерье - по 6). 1 смертельный исход - д. Останина. Казанский район - 78 ел. в 27 н.п. (с.с.Казанское - 13; Смирное - 7; Новоселезнево - 6). Сладковский район - 10 ел. в 8 н.п. (д.д. Маслянка, Новоандреевка по 2 ел.).
Численность переносчиков возбудителя КЭ
Природные факторы играют ведущую роль в формировании уровня заболеваемости людей КЭ. Численность основных переносчиков возбудителя инфекции - клещей Ixodes persulcatus - по результатам многолетних наблюдений в подтаежном очаге КЭ отражена в таблицах 25, 26. В 1977 - 1980 гг. наблюдения велись в Ярковском районе с апреля по октябрь по трем фиксированным маршрутам. Первый маршрут проложен в лиственном лесу. Древостой представлен липой, осиной, березой, редко - сосной; подрост состоит в основном из березы и осины. В подлеске - ива, смородина, черемуха, малина. Травостой средней густоты из злаков, осок и разнотравья. Выпас скота на данном маршруте не осуществлялся. Второй маршрут проложен в старом ельнике со слаборазвитым подростом из ели и пихты. В подлеске - рябина, смородина. Лес захламлен, местами заболочен. Травостой хорошо развит, представлен злаками, широкотравьем, ягодниками (брусника, костяника, черника), багульником. Крупный рогатый скот посещал лес редко. Третий маршрут проложен в липняке с подростом из липы, березы, осины. В подлеске - черемуха, смородина, ива, крушина. Травостой густой, состоит из широкотравной растительности. На маршруте осуществлялся свободный выпас скота. В 1990 - 2000 гг. наблюдения велись в Тюменском районе по следующим трем фиксированным маршрутам. Первый маршрут - смешанный лес, разделенный лесными зарастающими дорогами.
Основные породы - береза, ель, сосна. Подлесок - рябина, шиповник, малина, боярышник; местами - ива, черемуха, черная и красная смородина. Подрост - из основных пород. Травостой - широкотравные и злаковые (вдоль дорог и на дорогах), местами - очень высокий, густой, хорошо развитый, за исключением некоторых стаций, где произрастают только сосны. Подстилка - рыхлая, почти везде обильная. Участок незатопляемый, пересечен двумя оврагами. Второй маршрут - лиственный лес, одна дорога и берег реки. Основные породы - береза, осина, редко - сосна. Подлесок - черемуха в начале маршрута, боярышник, смородина черная и красная и местами - ива. Подрост -береза и осина, черемуха, боярышник, рябина. Травостой широкотравье, развит, от перегона скота - тропы. Подстилка хорошая, рыхлая. Третий маршрут - ельник с тремя лесными зарастающими дорогами. Основные породы - ель, сосна, редко - береза и осина. Подлесок - малина, черемуха, рябина. Подрост - ель (густо) и сосна, береза (редко). Травостой хороший, высокий, с июня - разнотравье. По краю биотопа - свободный выпас частного скота. Длительность активности переносчиков варьирует. Самый короткий учетный период составил 9 декад (на маршруте № 1 в 1980 г; на маршруте № 2 в 1990 г; самый длинный - 15 декад (на маршруте № 1 в 1995 г). Пик активности переносчиков также варьировал: самый ранний зафиксирован в III декаде апреля (на маршруте № 3 в 1995 г); самый поздний - во II декаде июня (на маршрутах № № 1, 2 в 1996, 1998, 1999 гг.; на маршруте № 3 в 1998, 1999 гг.).
Аналогичный результат получен по среднедекадным показателям. В целом за наблюдаемый период времени пик активности чаще приходился на II - III декады мая. Обращает внимание факт смещения пика активности переносчиков на II декаду июня в конце 90-х годов. Минимальная численность клещей была зафиксирована в 1978 г - 23,7 ± 11,2 (суммарная численность на маршруте); 7,7 ± 3,2 (численность в пик активности); 2,4 ± 0,9 (численность на 1 км маршрута за сезон). Максимальная численность клещей зафиксирована в 1996 г - 201,7 + 61,9 (суммарная численность на маршруте); 39,7 ± 11,3 (численность в пик активности); 17,5 ± 4,9 (численность на 1 км маршрута за сезон). В 1986 - 1990 гг. наблюдения проводились по одному маршруту в Тюменском районе, средняя численность клещей на 1 км маршрута составила соответственно 9,1; 7,5; 4,5 и 5,4. Сравнение численности клещей во времени (табл. 27) показало, что произошел существенный ее рост за последние 10 лет 20-го века. Так, среднесезонная численность клещей на 1 км маршрута возросла с 4,8 ± 0,7 в период с 1977 по 1990 гг. до 9,6 + 1,5 в 1991 - 2000 гг.; t = 2,8. Особо заметный рост численности переносчика КЭ произошел в 1996-2000 гг. по сравнению с 1977-1980 гг. (соответственно по периодам - 13,5 ± 1,4 и 3,1 ± 0,4 экз. на 1 км маршрута; t =7,2). То есть, перед началом подъема заболеваемости КЭ средняя численность переносчиков была в 4 раза ниже, чем в последней пятилетке на фоне продолжавшегося подъема заболеваемости. Основными прокормителями личинок и нимф таежных клещей являются: полевка красная, полевка рыжая, мышь лесная, бурозубка, полевка серая, мышь полевая. Индекс обилия прокормителей предимагинальных стадий развития клещей (число зверьков на 100 ловушко/ночей) за период с 1991 по 2000 гг. колебался в больших пределах (табл. 28). Так в 1991 г он составил 5,4; а в 2000 г - 23,08 на 100 ловушко/ночей.
В среднем за 11 лет показатель составил 12,3 ± 1,8 на 100 ловушко/ночей. Показатели прокормления личинок также претерпевали большие изменения в разные сезоны. Минимальный показатель - 14,64 - был в 1992 г, максимальный - 139,1 - в 1997 году. Среднемноголетний показатель - 54,3 ± Доля зверьков, имевших антитела к вирусу КЭ в крови, в разные сезоны изменялась в больших пределах - от 5,5 ± 0,8 в 1995 г до 23,5 ± 2,6 % в 1992 году. Всего за 11 лет исследовано 6021 сыворотка крови зверьков. Среднемноголетний процент положительных проб составил 12,7 ± 2,0. Для оценки временной динамики показателей прокормления предимагинальных стадий развития клещей в подтайге проведен сравнительный анализ за периоды 1991 - 1995 и 1996 - 2000 гг. (табл. 29). Так, индекс обилия прокормителей в течение 10 лет не претерпел существенных изменений. Если в период с 1991 по 1995 гг. в среднем он составил 13,5 ± 2,2, то в период с 1996 по 2000 гг. - 12,4 ± 3,1 на 100 давилко / ночей. Различие статистически несущественно, t = 0,3. Установлено, что также существенно не изменились и показатели прокормления личинок и нимф. Так, индекс обилия личинок (среднее количество личинок на одного прокормителя) за сравниваемые периоды