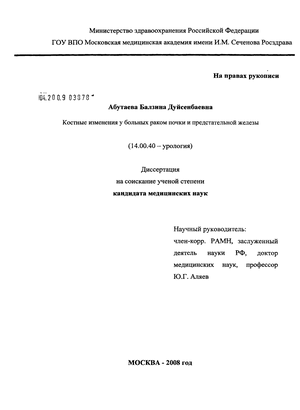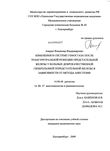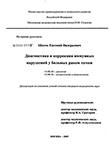Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Обзор литературы 13
1.1. Особенности метастазирования в кости рака почки и предстательной железы 13
1.2. Диагностика костных изменений при раке почки и предстательной железы 19
1.3. Биохимические маркеры костного ремоделирования .29
1.4. Лечение рака почки и предстательной железы с костными метастазами 34
Глава II. Общая характеристика обследованных больных и методов исследования 58
2.1. Общая характеристика больных 58
2.2. Методы исследования 61
Глава III. Результаты обследования и динамического наблюдения больных раком почки и простаты с костными изменениями дегенеративно- дистрофического, травматического характера и доброкачественными опухолями костей 70
3.1. Оценка данных больных раком почки с костными изменениями 73
3.2. Результаты динамического наблюдения за больными раком почки с костными изменениями 87
3.3. Оценка данных больных раком предстательной железы с костными изменениями 94
3.4. Результаты динамического наблюдения за больными раком предстательной железы с костными изменениями 102
Глава IV. Результаты обследования и динамического наблюдения больных раком почки и простаты с костными метастазами 111
4.1. Оценка данных больных раком почки с костными метастазами 113
4.2. Результаты динамического наблюдения за больными раком почки с костными метастазами 128
4.3. Оценка данных больных раком предстательной железы с костными метастазами 136
4.4. Результаты динамического наблюдения за больными раком простаты с костными метастазами 147
4.5. Применение зометы в лечении рака предстательной железы с костными метастазами 155
Заключение 170
Выводы 179
Практические рекомендации 181
Список литературы
- Диагностика костных изменений при раке почки и предстательной железы
- Биохимические маркеры костного ремоделирования
- Результаты динамического наблюдения за больными раком почки с костными изменениями
- Результаты динамического наблюдения за больными раком почки с костными метастазами
Введение к работе
Заболеваемость злокачественными опухолями в России, как и во всех развитых и развивающихся странах неуклонно растет (29). В структуре онкологической заболеваемости на долю урологических локализаций приходится 9,4%. При этом около 68% составляет рак органов мочевыделительной системы и 32% - рак предстательной железы (2).
РПЖ является в настоящее время одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин и в некоторых странах (Швеция, Германия) занимает второе место в структуре онкологической заболеваемости, а в США вышел на первое место по показателю заболеваемости среди всех злокачественных опухолей у мужчин и 2-е место после рака легкого в структуре смертности (178, 189). В России РПЖ составляет 4% всех онкологических и 31,7% - онкоурологических заболеваний (1, 106). Среди главных причин смерти рак предстательной железы находится на 5-м месте у мужчин 55—69 лет и на 4-м — у мужчин 70 лет и старше (2).
Опухоль почки составляет от 2 до 3% всех злокачественных новообразований у взрослых (80, 93, 146). Почечноклеточный рак среди урологических опухолей занимает 3-е место после новообразований предстательной железы и мочевого пузыря (21, 81). На долю ПКР приходится около 90% всех опухолей почки. В структуре умерших от злокачественных новообразований на его долю приходится 2,7% (2).
При злокачественных опухолях предстательной железы и почки нередко возникают метастатические поражения костей и нарушения минерального обмена (51, 134, 190). Частота метастатических изменений в скелете при РПЖ составляет 54-85%, а при ПКР - от 20 до 33-40%, с преимущественной локализацией поражений в позвоночнике, костях таза, проксимальной части бедренной и плечевой кости, ребрах, костях свода черепа (40,105,134).
Метастатические изменения в костях вызывают выраженные функциональные и морфологические изменения, и, в конечном счете, являются главной причиной значительного ухудшения качества жизни больных и могут быть причиной смерти (51,190, 195).
Клиническое распознавание и дифференциальная диагностика метастатических опухолей костей представляют трудную и ответственную задачу.
Диагностика метастатических опухолей скелета основывается на данных клинического, рентгенологического и радионуклидного исследований. Отдавая должное успехам существующих клинико-рентгенологических и морфологических методов исследования скелета, все же следует отметить, что процент диагностических ошибок продолжает оставаться высоким, поскольку обычное рентгенологическое исследование скелета оказывается полезным лишь в прогрессирующей стадии (67). Следует отметить, что рентгенологические признаки костных метастазов разнообразны, а патогномоничные проявления скудны. Применение остеосцинтиграфии с остеотропными РФП позволяет визуализировать изменения в скелете в целом на ранних этапах их развития (67). Несмотря на высокую чувствительность остеосцинтиграфии в выявлении метастазов, метод весьма неспецифичен. Повышенное накопление РФП может наблюдаться при различных по своей природе патологических процессах (130). Выраженный полиморфизм метастатических поражений определяет и значительную вариабельность сцинтиграфических проявлений (67). При радиоизотопном исследовании вообще результаты принято считать сомнительными, если имеет место накопление препарата, менее чем на 40% превышающее накопление в симметричном участке здоровой кости, особенно на фоне нормальной рентгенологической картины. В этих случаях необходимо повторить исследование через 1-3 месяца. При первичном или вторичном злокачественном процессе в костях через этот срок накопление изотопа существенно увеличится (33).
При неоднозначных результатах сканирования и нормальном рентгенологическом исследовании показано выполнение КТ или МРТ, при котором чаще всего выявляется литическое поражение, не определяемое ранее при обычном исследовании (174).
Метод КТ показывает изменения костных структур, но не оказывает существенной помощи в ранней диагностике костных метастазов (108, 222). МРТ позволяет изучить структуру опухоли, определить распространенность опухолевого компонента и его соотношение с сосудисто-нервным пучком. В целом большинство авторов приходят к выводу, что при МРТ-исследовании только на основании оценки интенсивности сигнала на ТІ-взвешенных изображениях нельзя дифференцировать злокачественную инфильтрацию костного мозга и другие патологические процессы (209, 222). Таким образом, используемые в клинической практике инструментальные методы исследования скелета обладают недостаточной чувствительностью и специфичностью, что затрудняет раннюю диагностику метастазов в кости, правильное планирование терапии, а также наблюдение за течением процесса и оценку эффективности проводимого лечения (78,212).
Достижения последних лет в изучении молекулярных механизмов костного ремоделирования способствовали поиску чувствительных и специфичных биохимических показателей, отражающих интенсивность процессов резорбции и формирования костной ткани, а также оценку их значимости в диагностике и мониторинге поражения скелета.
Появление бисфосфонатов в клинике значительно расширяет возможности врача в терапии больных с костными изменениями, облегчает участь пациентов, значительно улучшает их качество жизни (176, 199).
Таким образом, отсутствие единого мнения по поводу тактики обследования и наблюдения больных раком почки и предстательной железы с костными изменениями на сегодняшний день, подтверждает то, что данная проблема еще не до конца изучена и является актуальной с практической и научной точки зрения.
Следует отметить, что большинство исследований посвящено изучению маркеров костных метастазов и выработке тактики лечения при различных метастатических поражениях рака почки и предстательной железы, в то время как вопрос тактики в отношении больных раком почки и предстательной железы с различными пограничными костными изменениями практически не изучен.
Если учесть, что последние десятилетия характеризуются выявлением «маленьких», нередко бессимптомных новообразований почки и у этих больных при технической осуществимости резекция почки в пределах здоровых тканей признана целесообразной и допустимой в правовом отношении, становится очевидным, насколько важно установить достоверность характера костных изменений у этих пациентов. Понятно, что при наличии костных метастазов целесообразность осуществления органосохраняющей операции у таких пациентов весьма сомнительна при отсутствии абсолютных показаний. Более того, если костные изменения трактуются как метастазы, у больных с повышенным риском операции и нефрэктомия представляется нецелесообразной. Очевидно, насколько важно установление истинного характера костных изменений, на определение лечебной тактики (оперировать, не оперировать) и объема пособия (нефрэктомия, резекция почки).
Также, точная диагностика и правильное определение стадии процесса имеет решающее значение в выборе тактики лечения больных раком предстательной железы. Необходимо отметить, что радикальными методами являются оперативный (радикальная простатэктомия) и лучевой (дистанционная или интерстициальная лучевая терапия). Поэтому, стандартные виды лечения при локализованном и местно-распространенном раке простаты включают лучевую терапию, радикальную простатэктомию или динамическое наблюдение. Результаты лечения таких пациентов весьма обнадеживающие. Пациентам, у которых диагностируется распространенный РПЖ, гормонотерапия является методом выбора и позволяет добиваться
стойкой объективной и субъективной ремиссии. Данный вид лечения имеет паллиативный характер, как правило, существенно не влияет на общую выживаемость, однако значительно улучшает качество жизни. Таким образом, своевременная диагностика и определения характера поражения скелета необходима для правильного планирования лечебных мероприятий при раке простаты. Следовательно, имеющиеся в арсенале современного уролога диагностические возможности должны быть использованы для наиболее точного стадирования рака.
Объем наших исследований включает 54 больных раком почки и 96 больных раком предстательной железы.
Цель работы: Улучшение результатов диагностики и лечения больных раком почки и предстательной железы с костными изменениями.
Задачи исследования:
Уточнить частоту и характер «костных изменений» у больных раком почки (прежде всего метастатических).
Уточнить частоту и характер «костных изменений» у больных раком простаты.
Определить наиболее информативные методики выявления костных изменений и установления их характера, а также последовательность и объем их выполнения.
Оценить влияние костных изменений на выживаемость больных раком почки и раком простаты.
Уточнить информативность маркеров костного обмена при лечении метастазов бисфосфонатами.
Определить влияние костных изменений на тактику лечения у больных с впервые выявленной опухолью почки и впервые выявленным раком простаты.
Научная новизна
Уточнен алгоритм использования методов лучевой диагностики для раннего выявления костных метастазов и дифференциальной диагностики выявленных костных изменений, подозрительных на метастаз, у больных раком почки и простаты, а также для динамического наблюдения за установленными костными изменениями. Определена диагностическая значимость маркеров костного обмена для оценки динамики метастатического процесса у больных раком простаты. Предложены тактические варианты лечебной тактики у пациентов с неустановленным (не смотря на исчерпывающие методы исследования) характером костных изменений (обязательное установление, вплоть до биопсии; операция с последующим регулярным наблюдением за костными изменениями; операция с последующим использованием бисфосфонатов).
Практическая ценность работы
Внедрение в практику результатов проведенного исследования позволяет повысить эффективность диагностики и лечения больных раком почки и простаты с различными костными изменениями. Разработан выбор диагностической тактики при раке почки и простаты с различными костными изменениями метастатического и неметастатического характера. Уточнено место определения маркеров костного обмена при лечении бисфосфонатами.
Основные положения, выносимые на защиту:
Основными методами диагностики и динамического наблюдения за костными изменениями метастатического и неметастатического характера у больных раком почки и простаты являются остеосцинтиграфия и МРТ/КТ.
Костные изменения при раке почки установлены у 7,5% больных. Костные метастазы при раке почки составляют 2,2%.
Костные изменения при раке простаты установлены у 8,5% больных, среди них метастазы при раке простаты составляют 5,9%.
Наличие костных изменений неметастатического характера не должно влиять на выбор лечебной тактики.
При костных метастазах у больных раком почки предпочтительна органоуносящая, а не органосохраняющая операция
С целью уменьшения клинических проявлений метастазов в кости эффективна терапия бисфосфонатами.
Внедрение в практику
Результаты проведенного исследования используются в практической работе при обследовании и лечении больных раком почки и простаты, в обучении студентов, интернов и ординаторов в клинике и на кафедре урологии ММА им. И.М.Сеченова.
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 12 научных работ.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, 4 глав, включающих обзор литературы, собственные данные, заключения, выводов, практических рекомендаций, указателя литературы. Диссертация изложена на 201 страницах машинописного текста, включает 38 таблиц, 18 диаграмм, 52 рисунков.
Диагностика костных изменений при раке почки и предстательной железы
Костные метастазы могут проявляться выраженным болевым синдромом, развитием патологических переломов и компрессией спинного мозга (106).
Боль является наиболее частым симптомом при метастатическом поражении костей и встречается у 70-80% пациентов (50). Во многих случаях болевой синдром - доминирующий фактор, ухудшающий качество жизни пациента (121). Локализация болей обычно соответствует локализации метастазов, за исключением конечностей, где боли могут быть проводниковыми - из-за сдавления нервных корешков при метастатическом поражении позвоночника (18).
Болевой синдром при костных метастазах формируется в результате взаимодействия многих патогенетических факторов (50, 52, 55, 99, 213), таких как: 1. Раздражение нервных окончаний медиаторами боли — простагландинами, кининами и гистамином в результате остеолитического процесса. 2. Стимуляция остеокластов опухолевыми медиаторами и активация костной резорбции. 3. Периостальное напряжение. 4. Патологические переломы. 5. Локальная опухолевая инвазия. 6. Компрессия и инфильтрация нервных стволов. 7. Рефлекторный мышечный спазм.
Основными лабораторными показателями, косвенно свидетельствующими о вторичном неопластическом процессе в костях, являются лейкоцитоз, повышение уровня щелочной и кислой фосфатаз костной фракции сыворотки крови, гиперкальциемия (200).
Некоторыми исследователями отмечается, что изменение уровня ПСА не всегда позволяет однозначно судить о метастатическом поражении костной системы (175).
По своей природе ПСА — это гликопротеин, вырабатываемый секреторным эпителием простаты. Считается, что ПСА влияет на инсулиноподобный связывающий фактор роста, ответственный за регуляцию IgFs, который обладает митогенной активностью в отношении нормальных и раковых клеток предстательной железы и вовлечен в процесс трансформации клеток (36). Начиная с 1987 года ПСА широко используется в диагностике рака простаты, установлении стадии процесса, оценке эффективности лечения. Существует высокая зависимость между частотой обнаружения костных метастазов и уровнем ПСА. Считается, что костно-метастатическое поражение костей может иметь место при уровне ПСА выше 20 нг/мл. При повышении ПСА выше 58 нг/мл частота метастатического поражения составляет 79% (36).
По данным ряда авторов лишь у 1% больных при уровне ПСА менее 20 нг/мл определялись отдаленные метастазы (175, 136). Вероятность обнаружения костных метастазов у больных с уровнем ПСА до 10 нг/мл чрезвычайно мала (136).
Исследования Rana et al. (1992) показали, что при концентрации ПСА в сыворотке крови больше 100 нг/мл отдаленное метастазирование встречается практически в 100% случаев.
Некоторые авторы высказывают точку зрения, что этот маркер не имеет прямого отношения к процессам костного метаболизма и поэтому возможно не является в полной мере специфичным (58, 163).
Относительно высокая выживаемость больных раком почки и предстательной железы с метастатическим поражением скелета, а также появление новых эффективных подходов к лечению метастазов в кости делает весьма актуальной проблему своевременной их диагностики (101).
Клинические симптомы костных метастазов проявляются лишь на поздних этапах заболевания, что увеличивает важность использования лучевых методов диагностики (34).
До настоящего времени рентгенологический метод исследования имеет большое значение в диагностике метастатических поражений скелета (32, 34). Это связано с тем, что данный метод позволяет изучить не только форму, но и структуру костной ткани (57, 68).
Следует признать, что большинство изменений, выявленных по данным рентгенографии, не специфичны (57). Однако их анализ играет важную роль в диагностике и дифференциальной диагностике опухолевых изменений (57, 68). Его чувствительность относительно невелика, пока участок деструкции не достигает 1,0-1,5 см. Рентгенологически определение очага опухоли в костной ткани возможно при уменьшении количества кальция в области поражения не менее чем на 30-50%, при декальцификации 25-30% - выявить первичную опухоль или метастаз в костях при рентгенологическом исследовании невозможно (123). На рентгенограммах особенно трудно диагностируются метастазы в костях с преимущественным содержанием губчатого вещества (64).
Традиционно все авторы на основе морфологических и рентгенологических данных выделяют три типа костных метастазов: остеолитический, остеопластический и смешанный (31, 32, 34).
Остеолитические метастазы представляют собой деструкцию костной ткани в результате истончения и потери трабекулярных структур. Краевая зона состоит из области частичного разрушения трабекул. Ширина этой зоны отражает агрессивность процесса (193).
Остеолитические метастазы бывают милиарные или очаговые. При очаговых дефектах форма их чаще округлая, края нерезкие. Встречаются дефекты с четкими краями, однако, без склеротических ободков (24). При слиянии нескольких очагов на рентгенограммах определяется зона деструкции неправильной формы с нечеткими, иногда фестончатыми краями.
Биохимические маркеры костного ремоделирования
Достижения последних лет в изучении молекулярных механизмов костного ремоделирования способствовали поиску чувствительных и специфичных биохимических показателей, отражающих интенсивность процессов резорбции и формирования костной ткани.
Костное ремоделирование происходит в организме человека на протяжении всей жизни и представлено последовательными процессами разрушения костной ткани (костная резорбция) и последующего синтеза нового костного матрикса и его минерализации (костное формирование). Более того, костное ремоделирование является такой же частью системы кальциевого гомеостаза, как функции почек и кишечника, направленные на регуляцию кальций-фосфорного обмена (69).
Кость состоит в основном из минеральных компонентов, органического матрикса, клеток и воды. Главный минеральный компонент, составляющий 2/3 сухого веса кости, это гидроксиапатит. Органический матрикс (35% от веса кости) представлен на 90% коллагеном и на 10% неколлагеновыми белками. Клетки разных типов играют важнейшую роль в костном обмене. Остеобласты участвуют в образовании новой костной ткани: они формируют на поверхности кости покровный слой (подобный эпителию) и секретируют компоненты органического костного матрикса, откладывающегося на поверхности кости. Следующая стадия формирования кости заключается во внеклеточной кальцификации этого матрикса. Целый ряд веществ, в частности фториды и паратгормон, ускоряют формирование новой кости. Другие гормоны, например кортикостероиды, замедляют процесс костеобразования (90, 127).
Противоположностью остеобластов в функциональном отношении являются остеокласты — клетки, ответственные за резорбцию кости. Процесс резорбции контролируется в основном тремя гормонами — паратгормоном, кальцитонином и кальцитриолом (витамин D). Паратгормон и кальцитриол усиливают резорбцию, а кальцитонин тормозит этот процесс (90, 127).
В настоящее время описан широкий спектр новых маркеров костной деятельности (ранее основными показателями костного обмена считались активность щелочной фосфатазьт (ЩФ) и ее костного изофермента, экскреция оксипролина и экскреция кальция с мочой натощак). Было показано, что уровни этих маркеров в крови или моче тесно коррелируют с показателями костного метаболизма, измеренными гистоморфометрически (ПО). Хотя одна часть маркеров специфична для костного формирования, а другая - для костной резорбции, в большинстве клинических ситуаций оба эти процесса имеют тенденцию меняться в одном направлении (69).
Количество исследований, посвященных оценке значимости маркеров костного ремоделирования как критериев поражения скелета, весьма ограничено, однако в целом уже накоплен материал, свидетельствующий о возможности использования этих показателей в клинической практике. Будущие исследования покажут, пригодны ли биохимические маркеры костного обмена для новых диагностических задач. Прежде всего, представляется возможным их применение для выявления костных метастазов злокачественных опухолей (60).
В этом аспекте представлялись важными с теоретической и практической точки зрения изучения основных биохимических закономерностей костного ремоделирования у онкологических больных на основе определения маркеров резорбции и формирования костной ткани, а таюке оценка их значимости в диагностике и мониторинге поражения скелета.
Маркеры костного формирования. Среди экспериментально и клинически изученных биохимических маркеров костеобразования является щелочная фосфатаза (ЩФ) и, прежде всего, ее костный изофермент (184, 214, 215, 220). Фермент относится к группе фосфогидролаз, принимает активное участие в минерализации костной ткани, отщепляя неорганический фосфор от органического фосфата кальция (157). Резкое повышение ее уровня характерно для болезни Педжета и костных метастазов (122, 111). Однако, обнаружение у взрослых высокой активности общей ЩФ может быть связано как с костной патологией, так и с поражением печени и желчного пузыря, в связи с этим, этот маркер характеризуется недостатком чувствительности и специфичности (60).
Наиболее чувствительными маркерами костного формирования являются остеокальцин и паратгормон.
Остеокальцин — основной неколлагеновый белок костного матрикса, состоящий из 49 аминокислотных остатков. Остеокальцин вырабатывается главным образом остеобластами и одонтобластами и является наиболее специфическим маркером остеобластической активности. Он замедляет преципитацию гидроксиапатита и может быть вовлечен в регуляцию минерализации матрикса (97, 100). Остеокальцин отражает уровень костного обмена и свидетельствует о высоком уровне костного метаболизма (69).
Результаты динамического наблюдения за больными раком почки с костными изменениями
При динамическом наблюдении за больными с поражениями скелета дегенеративно-дистрофического характера, отмечено отсутствие «трансформации» ранее выявленных костных изменений в метастазы. При контрольной остеосцинтиграфии констатирована стабилизация (у 8 (21 %)), либо нормализация сцинтиграфической картины (у 4 (10,5%)). Это доказывает зависимость включения радионуклида в костную ткань от кровотока и обмена веществ в исследуемой зоне. При рентгенологическом исследовании также отмечено отсутствие признаков метастатического поражения костей.
При наблюдении за больными с костными изменениями травматического характера также выявлена положительная динамика. У 3 (7,9%) больных с анамнестическими компрессионными переломами поясничного позвонка по данным рентгенографии отмечена стабилизация поражения с нормализацией сцинтиграфической картины (рис.4).
У 3 (7,9%) больных с переломами ребра в анамнезе до оперативного лечения при контрольной остеосцинтиграфии установлено снижение интенсивности накопления РФП в области бывшего перелома. Ни в одном наблюдении не выявлено появления дополнительных очагов поражения.
У 12 (31,6%) больных с сомнительными очагами гиперфиксации индикатора (ложноположительные результаты), связанные с бывшей травмой, при контрольном обследовании отмечено снижение интенсивности накопления радионуклида у 5 (13,2%) пациентов, а у 7 (18,4%) — нормализация сцинтиграфической картины.
В группе больных с первичными доброкачественными опухолями костей отмечено отсутствие малигнизации. Следует отметить, что характеристика изменений костей соответствовали картине полученной на дооперационном этапе основного заболевания. При динамическом наблюдении не отмечено увеличение размеров или изменения структуры образования. В 1 (2,6%) наблюдении требовавшем дифференциальную диагностику между гемангиомой и метастатическим поражением 1 поясничного позвонка, при проведении контрольной МРТ через 12 месяцев после нефрэктомии метастатическое поражение 1 поясничного позвонка не обнаружено, подтверждено наличие гемангиомы.
Таким образом, проведенный анализ результатов исследования показал отсутствие прогрессирования процесса в костной ткани у всех больных с первичными опухолями, что свидетельствует, скорее всего, о доброкачественности процесса и целесообразности операции по поводу рака почки с дальнейшим наблюдением за пациентами.
Приведем клинический пример.
Больная П., 37 лет (и/б № 14049) поступила в Урологическую клинику ММА им. И.М. Сеченова 19 мая 1997 года с жалобами на тупую, тянущую боль в поясничной области справа. Из анамнеза известно, что больная более 10 лет страдает хроническим пиелонефритом. В мае 1997 года при УЗИ по поводу артериальной гипертензии выявлено объемное образование левой почки, подтвержденное впоследствии данными КТ. По данным КТ в нижнем сегменте левой почки определяется опухоль 4,0x3,Осм, деформирующая чашечно-лоханочную систему. Регионарные лимфатические узлы не увеличены (рис.5).
Для дообследования и оперативного лечения госпитализирована в клинику. При обследовании в клинике выявлено снижение суточной экскреции мочевины и мочевой кислоты, а также снижение колебания удельного веса мочи по пробе Зимницкого - от 1002 до 1017 при диурезе 950 мл, что трактовано как проявление латентной ХПН вследствие нефросклероза. В анализах мочи без патологических изменений. При УЗИ в проекции нижнего сегмента левой почки по медиальной его поверхности видно эхоплотное объемное образование 3,0x3,7 см с гипоэхогенными включениями, расположенное на 1/3 экстраренально (рис.6). Правая почка без патологических изменений.
При проведении комплексного сосудистого исследования почек признаки опухоли левой почки. На отсроченной экскреторной фазе отмечается расширение лоханки справа.
При рентгенографии органов грудной клетки и костей скелета данных за вторичное очаговое поражение не выявлено. В правой подвздошной кости на границе с крестцово-подвздошным суставом определяется плотное образование размером 2,5 см., с четкими, ровными контурами -рентгенологическая картина соответствует остеоме. При остеосцинтиграфии в области гребня правой подвздошной кости визуализируется очаг гиперфиксации препарата, неправильной формы, без четких контуров, с негомогенным распределением препарата, не характерный для метастатического очага, но вероятно, для дистрофических изменений. Результаты проведенного обследования свидетельствует о наличии у больной доброкачественной опухоли - остеомы подвздошной кости справа
Результаты динамического наблюдения за больными раком почки с костными метастазами
Мы провели динамическое наблюдение за состоянием костной ткани у этой группы больных. Все пациенты проходили контрольное обследование. При контрольном обследовании, проведенном в сроки от 2 месяцев до 5 лет от начала лечения, всем пациентам была выполнена сцинтиграфия скелета, при необходимости рентгенологическое исследование и дополнительные методы лучевого обследования.
За время наблюдения 3 (18,7%) пациентам после выполненной радикальной нефрэктомии проводилась дистанционная лучевая терапия солитарного костного метастаза грудного и поясничного отделов позвоночника с целью обезболивающего эффекта (суммарная очаговая доза от 30 до 40 Гр). Оценку результатов лечения проводили сразу же по окончании лечения и при дальнейшем наблюдении за больными. У 1 (6,3%) больного из них, учитывая, вторичные изменения в легких дополнительно проведена иммунотерапия Рофероном-А, у второго — терапия золедроновой кислотой (бисфосфонат). Эффект от лечения получен у всех пациентов, который выражался в прекращении болей, уменьшении мягкотканого компонента опухоли и появлении на рентгенограммах репарации костной ткани. Указанные результаты проявлялись через 2-3 месяца после окончания лучевой терапии. Таким образом, в результате лучевой терапии наступила репарация костной ткани, прошли боли, и больной продолжал трудовую деятельность. Из этих пациентов умер 1 больной через 28 месяцев от начала заболевания от прогрессирования опухолевого процесса. У второго пациента через 24 месяца от начала заболевания наступила прогрессирование опухолевого процесса, которое выражалось в появлении болей, ограничение физической активности и на рентгенограммах вновь выявлялись разрушения костной ткани. В связи с чем проведена повторный курс лучевой терапии. В настоящее время пациент жив, после проведенной лучевой терапии установлено уменьшение боли в костях, но отмечается резкое ограничение физической активности и снижения качества жизни. Третий пациент жив без прогрессирования опухолевого процесса (за время наблюдение в течение 6 мес).
Также адъювантную иммунотерапию (роферон-А) получили 2 (12,5%) пациентов. Остальные пациенты находились под наблюдением без назначения специфического лечения по поводу костных метастазов.
За время наблюдения после проведенного лечения (хирургическое, лучевое, иммунотерапия) по данным сцинтиграфии и рентгенографии частичная регрессия костных метастазов установлена - у 3 (18,7%) больных, стабилизация — у 6 (37,5%) и прогрессирование — у 7 (43,7%) пациентов. Ни в одном наблюдении мы не отмечали полной регрессии метастатического процесса.
Выживаемость пациентов оценивалась на основе логранговой модели Каплана-Мейера, а также путем прямого наблюдения (диаграмма №10). За время наблюдения из них умерло 10 (62,5%) больных: 9 (56,2%) — от прогрессирования опухолевого процесса, 1 (6,3%) — от сердечно сосудистой недостаточности. Остальные 6 (37,5%) пациентов находится под наблюдением без прогрессирования опухолевого процесса в сроки от 2 до 33 месяцев.
У этих больных в динамике отмечена стабилизация костных метастазов (2 больных после проведенной лучевой терапии) а также у 1 (6,3%) пациента - стабилизация вторичных изменений в легких. У 4 (25%) из этих больных была выполнена нефрэктомия, у 1 (6,3%) - резекция почек по поводу двустороннего рака, у 1 (6,3%) - эмболизация почечной артерии с паллиативной целью. Больные находятся под наблюдением, без назначения специфического лечения по поводу вторичных изменений.
Приведем клинический пример.
Больной М., 52 лет (и/б № 5293 и № 25642) поступил в Урологическую клинику ММА им. И.М. Сеченова 06 февраля 2007 года. В августе 2006 года впервые отметил эпизод тотальной безболевой макрогематурии без сгустков, лабильность артериального давления. При ультразвуковом исследовании по месту жительства выявлены образования почек, подтвержденные компьютерной томографией. Госпитализирован для дообследования и определения лечебной тактики. В анализах крови и мочи без патологических изменений.
При ультразвуковом исследовании в нижнем сегменте правой почки интраренально определяется объемное образование размером до 6,8x6,3 см, неоднородной структуры. Опухоль вдается в синус почки.