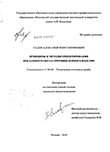Содержание к диссертации
Введение
Часть I. Символическое в романтизме и романтическое в символизме. Опыт интерпретации на примере эволюции садово-паркового мотива в русском искусстве 17
Часть II. Символическая реальность предромантического и раннего романтического пейзажа. Образы садов и парков в творчестве художников конца XVIII — начала XIX века 79
Часть III. Образы садов и парков в интерпретации художников русского символизма 118
Глава 1. Образы садов и парков в творчестве М.В. Якунчиковой и художников группы «Мир искусства» 118
Глава 2. Сады на грани видимости: иконография сказочного пространства в творчестве М.А. Врубеля 146
Глава 3. Стилистическая роль садово-паркового образа в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова 162
Глава 4. 1. Образы садов и парков в живописи художников «Голубой розы» 195
2. Художественный ансамбль «Новый Кучук-Кой» —
символический сад «Голубой розы» 218
Заключение 246
Библиография 289
- Символическое в романтизме и романтическое в символизме. Опыт интерпретации на примере эволюции садово-паркового мотива в русском искусстве
- Символическая реальность предромантического и раннего романтического пейзажа. Образы садов и парков в творчестве художников конца XVIII — начала XIX века
- Образы садов и парков в творчестве М.В. Якунчиковой и художников группы «Мир искусства»
- Сады на грани видимости: иконография сказочного пространства в творчестве М.А. Врубеля
Введение к работе
Создал я в тайных мечтах Мир идеальной природы, -Что перед ним этот прах: Степи, и скалы, и воды. В. Брюсов Садово-парковый образ в живописи русских символистов имеет свою линию эволюционного развития, корни которого одновременно связаны как с историей формирования пейзажного жанра в России, так и с динамикой духовной жизни, наибольшая амплитуда колебаний которой приходится на время двух рубежей: конца XVIII - начала XIX века и конца XIX — начала XX века. Усиление романтического мироощущения, черты которого в России начинают проявляться уже в период предромантизма - прежде всего, в садово-парковом искусстве (под влиянием художественных масштабов освобожденного новой английской планировкой пространства) и в пейзажах художников, специально призванных «снимать виды» с разбиваемых в новом духе резиденций (Сем. Ф. Щедрина, А.Е. Мартынова, В.П. Причетникова, Г.С. Сергеева, Е.И. Есакова, Г.Д. Молчанова и других), - идет на постепенном усложнении эмоционального плана, обрастающего глубинными внутренними смыслами, которые приводят к трансформации восприятия пространства и времени, способных быть отраженными средствами изобразительного искусства. Внутренние процессы, связанные с ростом индивидуализма и раскрепощением чувства, обостряющие ощущение ирреальных элементов видимой природы вещей, приводят к зарождению нового типа символа — символа, обладающего обратной личностной перспективой. Изобразительный символ эпохи рубежа XIX -XX веков, проходит путь двойной символизации, обозначая не только общие и устойчивые значения, но и сакрализуя невербальные пласты душевных и
даже духовных переживаний художника. На этом уровне одной из задач исследования было показать тот диапазон совпадений и расхождений, который характеризует особенности восприятия символа в творчестве символистов и художников предромантизма и раннего романтизма, деятельность которых приходится на переломный период смены ценностных ориентиров в русской культурной жизни. Внутренние религиозные устои, влиявшие на понимание символа в визуальной системе, стали уступать место светским идеалам в духе западноевропейской образованности, допустившей большую художественную свободу и в трактовку символических элементов окружающего мира. Книги по эмблематике, иконологические лексиконы, гравюры, философская и художественная литература, имевшие хождение в России с первой трети XVIII века, показывают тот путь внутреннего освоения, в поле которого возник совершенно новый виток символистского диалога видимых форм и их внеположенных художественных смыслов. Введением символа в свое искусство символисты стремились не столько акцентировать конкретное значение, визуализировать определенную идею, сколько создать многоплановый образный контрапункт, обладающий эмоционально насыщенной перспективой разновременных ассоциаций, промежуточных, межсмысловых импульсов, исходящих из особенностей восприятия видимой формы как части непрерывного творческого становления художественного целого. При этом, важным сквозным лейтмотивом в двух рассматриваемых периодах выступает образ сада как модель идеального пространства, привлекавшего русских художников рубежа XIX -XX веков своей органичностью иллюзорной природе фантазии, мечты, миражей, что привело к сложению нового типа символистского пейзажа, симптоматичного с точки зрения духовных мотивировок визуального формотворчества.
Общее семантическое единство образа сада в живописи художников эпохи модерна вырастает из романтической тоски по идеальному
пространству, по райскому Эдему или античному «элизиуму теней», из культа иллюзии, который внушал потребность создания собственной пейзажной конструкции, наделенной внутренними голосами потусторонней реальности. У М.В. Якунчиковой, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова, художников группы «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, К.А. Сомова) и «Голубой розы» (П.В. Кузнецова, П.С. Уткина, братьев Н.Д. и. В.Д. Милиоти и др.) за образами садово-парковой природы, трансформированной в свете индивидуальных для каждого интересов, стоит нечто большее, чем передача непосредственного натурного мотива. За ними звучит символистский диалог с незримой жизнью, перешедшей порог исторического времени, достигшей в защищенных и непроницаемых границах собственного камерного пространства убедительной внутренней подлинности, при которой иллюзорная реальность обретала художественную явь мира искусства.
Уединенный и таинственный, облагороженный памятью и призрачными тенями вполне реальных предков, сад становится той часто встречаемой в русском символизме пейзажной конструкцией, которая выражает определенное внутреннее настроение личности, душевный уровень ее жизни: «Образ, как модель переживаемого содержания сознания, есть символ. Метод символизации переживаний образами и есть символизм»'. Лирическое направление творческих устремлений художников-символистов, берущее свои истоки в характерной для них манере восприятия мира, позволяет увидеть и за символом сада как выразительную краску поэтизации изображаемого пространства, так и глубоко интимную интонацию тоски по вечной красоте, позволяющую рассмотреть тему с более частных позиций.
При общей симптоматичной тяге к изображению садово-паркового пространства, каждый художник подходил к образу со своей внутренней предпосылкой, рождаемой личными жизненными обстоятельствами и индивидуальной реакцией на «сложные вопросы» нового искусства. Поэтому даже парки К. Сомова и А. Бенуа будут совсем не похожи друг на друга, а
тем более - образы садово-паркового пространства у М. Якунчиковой,
В. Борисова-Мусатова и П. Кузнецова, совершенно отошедшего от реальных
исторических контекстов места в область грез, снов и абстракций.
Однако общие качества, позволяющие говорить о символистской трактовке этого мотива в живописи модерна не менее сильны, чем индивидуальные: напряженное психологическое состояние, игра смыслами, дающими дополнительные внутренние ассоциации реальным или ирреальным сценам, вводимым в контрапунктическое (обладающее собственным значением и памятью) пространство сада. Столкновение мертвой и живой природы, протекающее на волнах встревоженной эмоциональной восприимчивости, раскрепощает воображение художников, пробуждая за видимыми формами сада ощущение скрытого сокровенного символа души: «На всех небесных картах выбит / Незабываемый рельеф!»". Искусственное пространство сада или парка на полотнах художников-символистов воспринимается не только как романтическое слияние с иллюзией совершенной природы, но как психологически острая духовная потребность в реальной атмосфере, точно совпадающей с настроением и бытием искусства.
Историография. Поставленные в данной работе вопросы были так или иначе затронуты в разных областях искусствоведческой и философской мысли. Однако, подробный синтетичный анализ конкретной иконографии изображенного пространства, рассматриваемой как визуальное отражение духовных тяготений символистского мировоззрения и взятой в масштабе роста романтических тенденций внутри русской культуры, предпринимается впервые. В связи с подобным теоретическим аспектом был привлечен корпус литературы, наработанный учеными по четырем главным областям исследования: символизму как художественному направлению, садово-парковому искусству, предромантическому и раннему романтическому пейзажу, иконологии.
Первоначальный этап освоения роли, задач и художественных образов символистского направления в живописи, неразрывно соотнесенного с мировоззрением, приходится на начало XX века, отчасти отражая его следы в характере самих исследований, непосредственно подходящих к развитию герменевтического метода. Н. Врангель, А. Бенуа, И. Евдокимов, С. Маковский, П. Муратов, А. Ростиславов, В. Станюкович, Я. Тугендхольд, С. Яремич в своих критических статьях, опубликованных в журналах «Мир искусства» (1899-1904), «Золотое руно» (1906-1909), «Весы» (1904- 1909), «Аполлон» (1909-1917), наметили тот круг тем, связанный с проблемами ретроспективизма, сочиненности, двойственности, иллюзорности, духовности, который до сих пор очерчивает поле теоретической мысли. После революции стихающий процесс осмысления нашел отголосок в журнале «Жар-Птица» (Берлин - Париж, с 1921 года). Некоторые из выше упомянутых критиков стали и первыми биографами художников-символистов: В.К. Станюкович - В.Э. Борисова-Мусатова (1906); СП. Яремич, А.П. Иванов — М.А. Врубеля (1911 год и 1916 год соответственно); И.В. Евдокимов -В. Борисова-Мусатова (1924), М. Врубеля (1925), В.В. Вульф-Якунчиковой (1925); СР. Эрнст-К. А. Сомова (1918), А. Бенуа (1921). До сих пор не потеряли своей актуальности «Профили» A.M. Эфроса (1930).
В 1937 году в Москве под редакцией И.С Зильберштейна был опубликован сборник «Русский символизм», отчасти отражающий то отношение к «декаденству», которое в еще больших степенях господствовало в советском обществе, толкая даже непосредственных создателей символистских произведений, например П. Кузнецова, к политике умалчивания. Однако, несмотря на компрометирующий тон вступительной и ряда последующих статей, здесь были помещены и важные материалы, например, статья В. Гофмана «Язык символистов». Современный этап научного освоения и открытия символизма после длительного перерыва
берет свои истоки во второй половине 1960-х годов. Период более чем тридцатилетнего неприятия искусства символизма, вызванный очевидными причинами, в настоящее время восполнен почти таким же периодом неослабного интереса к нему. За последнее время в этой области вышел ряд значительных работ, как авторских, так и коллективных, отражающих направления научной мысли в вопросах восприятия истории и специфики символизма. После монографии 1934 года Н. Соколовой «Мир искусство» в 1965 году издана книга М. Эткинда, посвященная творчеству одного из лидеров этого объединения А.Н. Бенуа. Среди работ, отражающих новую стадию изучения символизма, следует отметить исследования А. Русаковой «В.Э. Борисов-Мусатов» (1966), «П.В. Кузнецов» (1977), Н. Лапшиной «Мир искусства» (1977), М. Киселева «М. Якунчикова» (1979), Е. Журавлевой «К. Сомов» (1980) и других. Теоретико-культурологические вопросы, связанные с проблемами естественного роста и заимствований символистского умонастроения в России, нашли отражение в исследованиях Д.В. Сарабьянова «Русская живопись XIX века среди европейских школ» (1980); «Модерн. История стиля» (1989), «История русского искусства конца XIX -начала XX века» (2001); Г.Ю. Стернина «Художественная жизнь России 1900-1910-х годов» (1988), «Два века. Очерки русской культуры» (2007); «Русский Модерн» (1990) в соавторстве с Е.А. Борисовой; М.Г. Неклюдовой «Традиция и новаторство в русском искусстве конца XIX - начале XX века» (1991); Гофман И.М. «Голубая роза» (2000), «Русский символизм. "Голубая роза"» (каталог выставки ГТГ, 2005), «"Золотое руно". У истоков русского авангарда» (каталог, ГТГ. 2008); А.А. Русаковой «Символизм в русской живописи» (2001); И.А. Азизян «Диалог искусств Серебряного века» (2001); Киселева М.Ф. «Символизм и модерн в художественной культуре конца XIX - начале XX века. Проблема стиля» (2002); А. Пайман «История русского символизма» (2002); а также в сборниках «Русская художественная культура второй половины XIX века. Картина мира» (ответственный редактор Г.Ю.
Стернин, 1991), «Мир искусства. К столетию выставки русских и финляндских художников 1898» (1998); «Модерн и европейская художественная интеграция» (ответственный редактор И.Е. Светлов, 2004), «Европейский символизм» (ответственный редактор И. Светлов, 2006); From Russia/ French and Russian master paintings 1870 - 1925 from Moscow and St. Petersburg. Royal Academy of arts 26 January - 18 April 2008. Museum Kunst palest, Dusseldorf 15 September 2007 - 6 January 2008. L., 2008 и других.
При этом хочется подчеркнуть, что сама проблема символистского пейзажа с конкретно прослеженной концепцией еще не была вынесена в отдельный предмет исследования, хотя уже П. Муратов в статье «Пейзаж в русской живописи. 1900-1910» (Аполлон, 1910, №4) пытался привлечь внимание к этой богатой и, по существу, базисной теме в вопросах метафизики вещей.
В отечественном искусствознании общие проблемы пейзажной живописи в свете духовных тенденций времени одним из первых стал изучать А.А. Федоров-Давыдов («Русский пейзаж конца XVIII - начала XIX века», 1953; «Русский пейзаж концаXIX-начала XX века», 1974). Значительный интерес в сфере понимания особенностей ландшафтной живописи в России представляют работы СВ. Усачевой. Составленный в 1913 году А.И. Успенским «Словарь художников в XVIII веке, писавших в Императорских резиденциях» систематизирует забытые имена. Определенные точки соприкосновения пейзажной живописи и садово-паркового искусства в рамках существования «Канцелярии от строения» были намечены Д.Е. Аркиным в его материале «Положение об архитектурной экспедиции» (1940-е годы), хранящемся в РГАЛИ. Среди работ, посвященных синтезу искусств конца XIX - начала XX века, прежде всего, садово-паркового и изобразительного, наиболее значительны исследования Э.В. Пастон (посвященные Абрамцевскому кружку) B.C.
Турчина, а также А.А. Галиченко, Б.М. Соколова и М.В. Нащокиной, обращавшихся к ряду проблем ансамбля «Новый Кучук-Кой».
В связи с необходимостью уяснения художественной и смысловой разницы между натурой и садово-парковым символистским образом важными представляются работы, посвященные конкретному анализу садово-парковых стилей, истории их развития, сложению усадебного комплекса и практическому отражению романтических идей в символических конструкциях искусственно спланированной природы. Эволюцию внутренней ситуации в этом вопросе демонстрируют материалы, помещенные в журналах «Сельский житель, экономическое в пользу деревенских жителей служащее издание»» (1778-1779), «Экономический магазин» (1780-1789), «Журнал садоводства» (издавался с 1841 года), «Художественные сокровища России» (1901-1907) и других. Среди ключевых работ по исследованию усадебной культуры, необходимо выделить труды Общества Изучения русской усадьбы (ОИРУ), прежде всего, одного из его основателей А.Н. Греча (рукопись «Венок усадьбам», 1932, о. Соловки), а также публикующиеся в сборниках «Русская усадьба» материалы М. Нащокиной, В. Турчина и других ученых. Особое место в раскрытии понимания романтического духа и символики усадебного парка занимают следующие исследования: О. Докучаевой (диссертация «Пейзажный парк в России второй половины XVIII века в сознании современников», 1989), Д. Швидковского, Е. Кириченко, книги Д. Лихачева «Поэзия садов» (1981); В. Турчина и М. Аникста «.. .в окрестностях Москвы. Из истории русской усадебной культуры XVII-XIX вв.» (1979); Каждан Т.П. «Художественный мир русской усадьбы» (1997); О. Евангуловой «Художественная "Вселенная" Русской усадьбы» (2003); Е. Дмитриевой и О. Купцовой «Жизнь усадебного мифа: утраченный и обретенный рай» (2003); А. Вергунова и В. Горохова «Садово-парковое искусство России. От истоков до начала XX века» (2007); а также сборники «Мир русской усадьбы. Каталог выставки» (1995); «Три
века русской усадьбы. Живопись, графика, фотография. Изобразительная летопись. XVII - начала XX в. Альбом-каталог» (2004). Общим вопросам понимания внутренних контекстов «ландшафта» как такового, посвящен недавно вышедший сборник статей: «Ландшафты культуры. Славянский мир» (2007).
Не менее важным представляется корпус исследований, связанный с проблемой восприятия символа и вопросами синтеза искусств на основе внутренних метаморфоз. Ощущение духовной атмосферы, в которой развивались и трансформировались художественные и ценностные идеалы от самых истоков романтизма, дают важные в области эстетики и культуры исследования В.В. Ванслова («Эстетика романтизма», М., 1966; «Образный мир романтического искусства» в сборнике «Эпоха. Стили. Направления», М., 2007), Ю.М. Лотмана, Н.Я. Берковского. Непосредственно проблеме изучения «символа», «знака», «эмблемы» посвящены труды по семиотике и русской культуре Ю.М. Лотмана, в частности «Предварительные замечания по проблеме "Эмблема - символ - миф" в культуре XVIII столетия» / Труды по знаковым системам (1987 (Т) 20, выпуск 746); А.Ф. Лосева «Проблема символа и реалистическое искусство» (1976); А.Е. Махова «Эмблемы и символы» (2000); Е. Григорьевой «Эмблема. Очерки по теории и прагматике регулярных механизмов культуры» (2005) и другие работы. Важные смысловые пласты эволюционирующего духовного состояния, космогонические поиски символизма были подняты в каталогах-сборниках: «The spiritual in Art. Abstract painting. 1890-1985», Los Angeles, 1987; Traces du sacre. 7 mai au 11 aout 2008. Centre Pompidou. Paris, 2008; а так же рассмотрены B.C. Турчиным в статье «"Другое искусство" при свете теософии. Опыт рубежа веков и "Русский вклад"» (Символизм в авангарде, 2003).
В западно-европейском искусствоведении проблема символистского пейзажа получила большее, хотя, пока еще также недостаточное освещение.
Интересна опубликованная в 1982 году статья Т. Гринспана «Чарльз Мари Дюлак. Идиллические и мистические пейзажи символизма (Т. Greenspan. Charles Marie Dulac. The idyllic and mystical landscape of symbolism (Gazette des Beaux-Arts. 1982 (XCIX). № 1359), а также исследования, ведущиеся специалистами музея Г. Моро (Париж, Франция), музея Изящных Искусств Реймса и ряда других центров, отраженные в катологе-сборнике «Paysages de reve de Gustave Moreau (Catalogue). Monastere royl de Brou a Bourg-en-Bresse (12 juin — 12 septembre 2004) et au Musee des Beaux-Arts de Reims (octobre 2004-Janvier 2005)».
Непосредственными источниками исследования послужили как практические данные - произведения художников предромантизма, романтизма и символизма из разных музейных собраний (ГТГ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГРМ, ГЭ, СГХМ им. А.Н. Радищева), садово-парковые ансамбли «Царицыно», «Кусково», Павловска, Петергофа, Версаля, усадебных комплексов; так и теоретические - архивные материалы, редкие книги и гравюры, хранящиеся в музейных и библиотечных фондах Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова, периодические издания, оригинальные каталоги символистских выставок и современных музейных экспозиций, мемуары и теоретические суждения художников и их современников об искусстве.
Хронологические рамки работы охватывают два рубежных периода: конец XVIII — начало XIX века и конец XIX - начало XX века. Данные временные границы связаны с избранным ракурсом исследования. Исходя из восприятия символизма рубежа XIX—XX веков как высшего этапа романтического мировоззрения, садово-парковый мотив рассматривается как симптом внутренних процессов духовной жизни, берущих свои непосредственные истоки в атмосфере первых предромантических и романтических тенденций конца XVIII - начала XIX века.
Объектом исследования являются живописные (отчасти графические) работы русских художников конца XVIII - начала XIX века и конца XIX -начала XX века, несущие связь с садово-парковой символикой.
Предмет исследования - изучение эволюции садово-паркового иконографического мотива в символистский образ.
Цель исследования — показать трансформацию символических элементов в символистский образ внутри русского изобразительного искусства на примере эволюции конкретного, наиболее существенно выражающего отношение к пространству и времени художественного мотива, каковым явился сад.
Метод исследования обусловлен синтезом нескольких подходов в анализе материала — исторического, типологического, иконографического, сопоставительного, интерпретационного. Подобный комплексный метод работы обусловлен сложной полифонической структурой образа-символа сада, формирующегося как в процессе своего художественного рождения, так и в момент визуальной расшифровки (то, что мы видим, например, Версаль, существующий в современности, и то, что мы чувствуем, глядя на картины А. Бенуа или М. Якунчиковой, как выражение умонастроения художника, видевшего и писавшего парк сквозь призму собственных ощущений и даже «галлюцинаций»). Эти особенности связаны с тем, что символ в живописи символистов лишен повествовательности и линейной перспективы. По существу, он становится самостоятельным художественным образом, призванным выразить абстрактные внутренние переживания, вызванные романтическим эмоционально-чувственным отношением к миру, понять которое было возможно только через исследование документальных данных и литературных источников. Образная ткань символистского искусства настолько тонка и одухотворенна, что логическое ознаменование элементов, входящих в композицию художественного полотна, недостаточно для проникновения в характер произведения. Чтобы его понять, необходим
глубокий анализ символистской специфики трактовки символов, частью которых становятся не только конкретные предметные прототипы, такие как сад или радуга, но и весь художественный язык, включая технические особенности. Именно в силу того, что символический мотив, встречаемый и в другие эпохи, превращается на рубеже XIX—XX веков в символистский образ, не сводимый к традиционным статичным смысловым схемам и обладающий эмоциональной, индивидуальной природой, интерпретационные задачи выносятся на первый план, и один подход не способен удовлетворить требованиям исследования. Таким образом, само искусство символизма влияет на существующие методы исследования, давая новые возможности развития иконологии, на данном этапе получившей наиболее яркое воплощение на материале изучения искусства Ренессанса (в отечественном искусствознании, прежде всего, это работы М.Н. Соколова). Обращаясь к описанию символа в символизме с позиций, заложенных Э. Панофским, Э. Гомбрихом, представляется, что уже сама иконография (как первая стадия толкования образа) в символизме (для точного понимания, что мы имеем дело с полотном именно этого направления) не может восприниматься без неразрывного ощущения внутренней психологии предметного прототипа, что повышает и расширяет роль герменевтического метода в пределах иконологии как теоретического раздела искусствоведения в целом.
Научная новизна работы заключается в синтетическом анализе садово-паркового образа природы как нового типа символистского пейзажа, несущего в своей иконографии связь с духовной природой художественных иллюзий. В диссертации предпринята попытка адаптации иконологического метода к анализу пейзажного материала на базе тех смещений, которые дает в этом жанре изобразительное искусство символизма. Концепция исследования складывается на основе введения в научный оборот не привлекавшихся ранее документов, как гуманитарного характера (архивных
материалов из ведомственных и личных фондов, а также впервые комплексно проанализированных и выявленных из забвения книг и рукописей по эмблематике, имевших хождение в России), так и изобразительного (прежде всего имеется ввиду обнаружение и систематизация произведений художников предромантизма, раннего романтизма и символизма, отражающих садово-парковую тему, и открытых в результате личных поисков в музейных фондах).
Диссертация состоит из Введения, трех Частей: «Символическое в романтизме и романтическое в символизме. Опыт интерпретации на примере эволюции садово-паркового мотива в русском искусстве», «Символическая реальность предромантического и раннего романтического пейзажа. Образы садов и парков в творчестве художников конца XVIII — начала XIX века», «Образы садов и парков в интерпретации художников русского символизма», состоящей, в свою очередь, из четырех самостоятельных Глав — «Образы садов и парков в творчестве М.В. Якунчиковой и художников группы "Мир искусства"», «Сады на грани видимости: иконография сказочного пространства в творчестве М.А. Врубеля», «Стилистическая роль садово-паркового образа в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова», «Образы садов и парков в живописи художников "Голубой розы"», Заключения, списков источников и использованной литературы, а также четырех Приложений: 1. Краткий список литературы по символике, эмблематике и гаданиям, имевшей хождение в России в XVIII-XIX веках, составленный в хронологическом порядке. 2. Список произведений русских художников из собрания Государственного Эрмитажа, в которых встречается садово-парковый мотив. 3. Краткий список символистских произведений, с явно выраженным садово-парковым образом. 4. Поэма Сергея Васильевича Шервинского «Пруды ушли, но все ручей бежит...» (РГАЛИ. Ф. 2050. Оп. 1. Ед. хр. 344. С разрешения наследников фонда Н.А. Венкстерн).
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Символическое в романтизме и романтическое в символизме. Опыт интерпретации на примере эволюции садово-паркового
мотива в русском искусстве
В саду привычное сближенье начал, хранящих вес и корм, и нежность: вечное скольженье неявленных и явных форм.
А в средоточъе, где по-птичьи фонтан щебечет, гений дней все сказывается в различье своих невидимых корней.
P.M. Рильке. Сады.
Предваряя главу, хотелось бы отметить, что в исследовании выбран особый ракурс изучения проблемы, при котором «символическое» рассматривается в связи с особенностями восприятия романтиками и символистами природы в ее идеальной гармонической пространственной модели, частым воплощением которой являлись сады и парки -общественные, частные (усадебные) или кладбищенские. Индивидуалистическая тяга к далеким от житейской обыденности местам, к трансформированному в зеркале возвышенных чувств земному
пространству выявила два излюбленных романтиками пейзажных типа : гордое воображение пленялось вольными стихиями - морями, горами, пустынями, скалами4; а чуткое сердце искало камерных интонаций в укромных, райских обителях, прототипом которым служили утраченные
сады безгрешного времени. Этот идеал хранила обетованная земля Италии5 и отражали реальные парки. Пространство сада служило воплощением той заветной области счастья, где можно было если не обрести его, то хотя бы подышать представлением о нем, помечтать. В русском изобразительном искусстве рубежа XVIII-XIX веков именно эти образы позволили проявиться первым росткам романтического мировосприятия. В конце XIX века в творчестве ряда художников эпохи модерна этот мотив поэтической метафоры превращается в полноценный художественный символ, позволяющий говорить о самостоятельной образной проблематике символистского искусства в России. Эволюция мотива, демонстрируя непосредственную смысловую и настроенческую связь романтизма и символизма, позволяет углубиться в более широкую сферу внутренних причин такого сближения, что подводит к принципиальному вопросу о понимании символа в искусстве на грани XVIII-XIX веков и XIX-XX веков.
Для романтиков и символистов художественное осмысление пространства и времени становится важнейшей задачей. Эти главные координаты мыслей и чувств меняют свои привычные точки отсчета. Расширяя пространство диалога между разными эпохами, символисты внутри времени открывают источники вечности, которая накладывается идеальным образом на горизонталь перспективы реального пространства, увиденного в свете одухотворяющего движения вперед. Таким образом, земное пространство обретало сакральное звучание, при котором каждое видимое явление получало духовное насыщение одновременно и в реальном пространстве, и в условном - временном, вечностью охватывая картину мира по горизонтали и вертикали. Небесные и земные явления синтезировали в себе прежние границы высокого и низкого, расширяя сферу видения до обширной целостности, в которой религиозные идеалы переносились в иллюзорную область искусства. В атмосфере этой
предельно условной панорамы, в которой вечность, как основа, таилась под формами реального пространства и настоящего времени, и рождалось новое ощущение символа — образа-контрапункта, собирающего в себе несколько уровней художественных внушений - эмоциональный, идейный, метафорически-поэтический, свободно (музыкально) ассоциативный, пластический. Символ, вырастая из конкретного знака, в искусстве эпохи модерна развивается в синтетический художественный образ, живущий внутри собственной вечности — области мечты артистически мыслящей личности, рожденной тем грандиозным индивидуализмом, который особенно остро стали ощущать романтики в творческой тоске одиночества.
Пространство течет, время движется, но в каждой из этих стихий возникают некие внутренние паузы, которые расставляет жизнь человека. В искусстве эти темы раскрывались по-разному, но почти всегда несли символические подтексты, неразрешимые в простых эмоциях переживания. Пространство насыщалось архитектурными и скульптурными символами, разбивалось границами, садами, парками. Сложные, излюбленные XVIII веке лабиринты были не только символическим выражением тяги к игре, к занятному и поучительному времяпрепровождению6, но и выражением запутанности и непознаваемости пути. Достаточно вспомнить средневековые монастырские манускрипты. В XIX веке ощущение зыбкости границ, сознание протяженной длительности пространства и мгновенности наполняющих его впечатлений нарастают на crescendo, врываясь в зеркальную гладь безупречного равновесия классицизма через порывистый романтизм, одновременно эмоциональный и созерцательный импрессионизм, психологически глубокий символизм. В живописи пространство, прежде всего, связано с жанром пейзажа. В конце XIX -начале XX века он трактуется неоднозначно. Мы можем встретить
разные интерпретации — от натурных, реалистических (В. Поленов, С. Жуковский, С. Виноградов и др.) до поэтически-символических, творчески включенных в систему целостного образа, например у А. Бенуа, К. Сомова, В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова, П. Уткина и др. Стиль модерн, строящийся согласно логике уподоблений и преображений, в творческом процессе акцентировал вопросы, связанные с выразительностью художественной формы, наполнял ее повышенно эмоциональной содержательностью, превышающей буквальное понимание символа поэтической нерасчлененностью смысла:
Все слова тебе мешают.
Чем ты поражаешь?
Стол букеты украшают,
Ты преображаешь .
В живописи стиль модерн обостряет интерес художников к вопросам композиции, к артикуляции пространства, ракурсам (особенно это видно у М. Якунчиковой и А. Бенуа), настроению образа, раскрываемому через присутствие постоянных мотивов символически. Одним из таких символических мотивов в русской живописи и графике становится сад, парк. Именно в окружении его пейзажа оживают и начинают интенсивно звучать интонации, связанные с образами прошлого, перемешанного с мечтой и зыбкой реальностью (у М. Якунчиковой, мирискусников и В. Борисова-Мусатова), образами грез и сна, уплывающей почвой настоящего (у художников «Голубой розы»): «Какая эпоха?» -переспрашивал он, улыбаясь, и отвечал: «Это, знаете-ли, красивая эпоха - и больше ничего»8. Образы парков в русской живописи рубежа веков синтетичны и имеют несколько реальных смысловых регистров: исконное библейское понимание сада как заповеданного Эдема, философские мечты об античном Золотом веке и исторический идеал
усадебной жизни . При этом художественное сознание, непрерывно ищущее совершенное пространство, накладывает свои оттенки индивидуального понимания. В этой связи представляется знаменательным ответ П. Кузнецова на вопрос, когда он почувствовал себя художником: «Когда я нашел свое пространство»10.
Возникновение садово-паркового пространства в живописных композициях конца XIX — начала XX века уже само по себе символично: «...тайна отношения к прекрасному в искусстве или природе, заключается в перенесении нашего внутреннего мира на внешний мир, в сочетании скрытого в нашем сердце с идеей, присущей вещам, какую мы в них угадываем и воспроизводим»11. В русском искусстве эта тема не новая. Интерес к природе, диалог с ней на языке души — одна из главных особенностей романтического умонастроения, а с образами садов и парков связан важный этап формирования пейзажного жанра в русском искусстве конца XVIII - начала XIX века. Этот мотив активно начинает развиваться в живописи раннего романтизма, несущего на себе еще сильно ощутимые условности классицизма и барокко. Но, может быть, именно потому что условность не противоречит искусственной природе сада, в интерпретации этого мотива проявляются первые интонации поэтического переживания, лирического восприятия символической жизни парка: «...предметом, объектом изображения складывающейся пейзажной живописи становилась в первую очередь парковая природа»12. На рубеже XVIII -XIX веков среди художников, в творчестве которых начинает проявляться индивидуальная манера интерпретации образа, можно выделить Сем. Щедрина, А. Мартынова, В. Причетникова, Е.' Есакова, Г. Молчанова и других. В контексте исследуемой нами темы, интересно обращение к садово-парковому мотиву в связи с проблемой восприятия природы: «Мир духов есть столь прекрасный, как благоустроенный сад. <...> Благо юноше, которого Натура с ранних лет
возводит на цветущие свои поля! Каждый шаг изощряет разум его, облагораживает сердце и распространяет радость в его жизни»13. Романтическое чувство, шедшее на crescendo в живописном пространстве, в области мировосприятия окутывалось символическими интонациями, позывами проникнуть, а, может и создать, тайну природы: «В природе все есть откровения, все зов к единству, все — явление высших сил. <...> Откровение в вещах становится тем же самым, что и откровение в слове, это стирает различие между вещами и словами»14. Символическое, живя в сознании русского человека XVII века религиозными и нравственными категориями, постепенно, начиная с
XVIII века, перемещается в другие пласты осмысления, допуская не
только более свободные ответы, преремежающие философию и суеверия,
но и художественное воображение в область веры. Этот процесс во
многом отражают книги по эмблематике и символике, в том числе и
лубочные картинки с аллегорическими сюжетами, собранные Д.А.
Ровинским в III томе «Русских народных картинок» (СПб., 1881), а также
литература филосовско-масонского характера15, выходившая в России в
XVIII—XIX веках, и занимавшая значительное место на полках
уединенных усадебных библиотек: «.. .в Натуре от одной силы все
происходит; она есть чувственный образ происхождения, бытия и
исчезновения вещей»16. Но, несмотря на то, что романтизм ищет
сравнений по силе равных только вечной (в земных пределах)
метафоричности природы, понимание символа в конце XVIII - начале
XIX века и конце XIX - начале XX века строится по-разному. Исходя из
материала, который мы имеем по части понимания эмблем и символов,
можно сделать вывод, что в XVIII и XIX веках символ входит в
аллегорический образ как текстовой знак изобразительной ленты
эмблемы, разворачивающей цепочкой зрительных акцентов главную
идею композиции . Воспитательная функция выделяется как основная, в
следствии чего эмблематические изображения для детей строятся также, как и для взрослых (например, «Полезные и занимательные эмблемы, избранные из лучших и превосходных писателей. Для детей» М., 1816, или «Иконологической лексикон или руководство к познанию Живописного и резного художеств...» СПб., 1763). Выделяется художественная структура мысли, акцентируется существенное в тайне. Например, в природе подчеркивается иерархическая сущность: «Пирамида есть чувственный образ Природы»18, - такова мысль. В художественном плане она передается соответственно: «Пирамида блющем обранная. Я буду зеленеть, и расти, поколе ты стоять будешь. Твое бытие есть моя зелень» . Смысловым рубежом многих художественных образов служит та вера, которая не позволяла переходить опасных границ: «Кто тайну знает, тот все имеет»" . Такое восприятие, отраженное в книгах по эмблематике, выходивших в России с XVIII века, находит отзвук в художественных композициях, декоративных фейерверках и театральных пьесах. Однако, хотя символ в XVIII веке, прежде всего, опирается на конкретное знание и трезвое уразумение смысла, подобное образочтение развивало художественную фантазию, умение мыслить категориями сравнения и уподобления: «...фигура сидит на утесе и смотрит чрез отверстие на пространство океана - чувственный образ, что от истин природы должно достигать истин духовных. Утес есть чувственный образ внешних физических истин. Океан — чувственный образ духовных истин, подобно ему неисчерпаемых и неизмеримых»21. В эпоху романтизма художники используют отдельные символы (часто из тех же книг) — цветы, колосья, пирамидки в парках — в качестве поэтических намеков, внося чувство в смысл. Символисты устраняют дистанцию между этими категориями, превращают символ в художественный образ, ощущаемый, но не расшифрованный, насыщающий полотно неоднозначным, напряженным
настроением, преодолевающим своей глубокой эмоциональностью считываемую константу знака-иероглифа. Действуя в пределах доступных сознанию, символизм обращается к тому, что недоступно, исходя из сознания двойственности, двуликости видимого. Ветер, вода, луна, поляна, зеленый луг, гобеленная дымка, словно патина, ложащаяся на призрачные лица, сны, фонтаны, изогнутые овалы клумб и напряженные позы архитектуры старинных дворцов и парков, вдумчиво всматривающейся в пространство — становятся выразителями мира по ту сторону реальности: «...мы говорим: плохая погода, война, стоянка экипажей, освещенный ресторан, цветущий сад - всем понятно, о чем именно идет речь; если бы реальность заключалась только в этом, достаточно было бы чего-то вроде синематографической съемки этих вещей, а понятия «стиль», «литература», отошедшие от своих первоначальных величин, стали бы просто искусственным приложением.
Но разве реальность в этом?»""
Несмотря на то, что «главный интерес романтиков относился к невоплощенному»2 , все же еще твердая нравственная почва, спасительная любовь к созерцанию («Придите и видите дела Божий», псалом 65, с.5) сдерживала порывы к недостижимому, переводя их в область романтических садов и переживаний поэтического плана: «О чувствование блаженное, восхищающее нас упоением, когда на украшенной мураве око повсюду созерцает высокие прелести природы! Здесь обитаем мы в Злотом веке спокойства и беззаботы, мы чаем быть в стране волшебной, ощущаем себя сближенных к состоянию богов, и едва ли согласны с ними поменяться. Счастлив, троекратно счастлив тот, который ощущает красоту твою, природа, и коего воображение с приятностию занимается твоими изображениями! Сердце чистое сожительствует с тобою в согласии! Нелюбящий природу, не может
9 Л
любить и добродетель»" . Несмотря на то, что в это время еще
господствует соборное представление о добродетели, нарастание романтического индивидуализма усиливается с оглушающей быстротой и развивается к концу XIX века до крайних масштабов чувства личности, для которой эстетика жизни становится высшим проявлением идеального мира: «Так, куда бы мы не пошли по земле, мы всегда увидим самих себя в самой середине горизонта, и все радуги небесного свода польются в наше сердце» . Присутствие и нарастание романтических установок в символизме, близость и разница внутренних идеалов в границах трех эпох, важны для понимания того образного направления, которое возникнет в России на рубеже XIX—XX веков в контексте искусства модерна: «Не наступило ли для нас уже время томиться той же мечтой, что уже увлекала поэтов и мудрецов столетие тому назад»26, — напишет уже в 1909 году, на закате символизма, С. Ауслендер, призывая искать «голубой цветок» мечты в искусстве, также как в жизни ищут вечность.
Символизм стоит на колеблющейся духовной почве. Романтические приступы отчаяния, тоски, жажды уединения и перемен, путешествий и забвения в символизме получают превосходную степень. И не случайно в умах теоретиков возникает спор о том романтичен ли символизм: «Романтика ли - современный символизм, или пророчествование? Вопрос, так поставленный, естественно вызывает недоумение. Прежде всего, в каком объеме принимается термин символизм? Поспешим разъяснить, что не искусство лишь, взятое само по себе, разумеем мы, но шире - современную душу, породившую это искусство, произведения которого отмечены как бы жестом указания, подобно протянутому и на что-то за гранью холста указующему пальцу на картинах Леонардо да Винчи. Речь идет, следовательно, не об отдельных теоретических утверждениях новой мысли, но об общей ориентировке душевного пейзажа, о характеристике внутренних и наполовину подсознательного
тяготения творческих энергий»" . Поиск связи с предшествующими
эпохами, постоянные оглядки назад вскрывают в символизме важную тему — тему прошлого, куда пытаются проникнуть через природу: «Вспоминать с болью можно только мертвых. Но они так быстро разрушаются там, в земле, и вокруг их могил остается лишь красота природы, чистый воздух, тишина» . Несмотря на то, что в основном искусство символизма — это творчество молодости, темы ухода, смерти и воскрешения, модифицирующего, изменяющего формы, превращающего их в отголоски цветов и трав, оказываются одними из самых волнующих. Жизнь, смешанная со смертью, не только придает образам особое настроение, но и обостряет поиск пространства, адекватно выражающего их полифоническую структуру. Иконография пространства — это та фразеология, которая заставляет живопись символизма говорить средствами живописи, а не речевыми оборотами, «она не имеет никакого содержания, передаваемого словами»^9. Комбинируя реальные мотивы, художественная логика уводит понимание картины за пределы сюжета, обогащая его потенцией незримой жизни, называемой «чистое искусство», той жизни, в которой «все странно изменены, как изменяется действительность во сне, или в воспоминаниях» . Тема прошлого и мечты обращала взгляд художников на мир полуреальный или вовсе ирреальный, которому в контексте изобразительного искусства необходимо было особое пространство. Таким идеальным фоном-героем, как отмечалось выше, и становится сад, парк, понимаемый в самом широком значении совершенный отрывок «натуры», конструируемый воображением художников уголок природы. Намечая основную линию в развитии изобразительного искусства конца XIX — начала XX века, можно заметить, что на фоне других тем, образ сада звучит неким лейтмотивом, в котором исторические интонации прошлого живут также естественно и уютно, как и выдуманные персонажи, игривые маски, античные божки и сонные грезы. Романтизм подводит восприятие к миру
природы. Стиль модерн возводит искусство в категорию второй природы. Стихия преображается гармонией, выстроенной согласно внутреннему слуху художника. Натурный, прямолинейно взятый вид удовлетворяет не всех. С определенной точки зрения в символизме происходит обращение к принципам искусственного пейзажа, построенного по памяти, комбинирующего несколько образов, к принципам, на которых развивался пейзаж XVIII века, но уже на ином уровне, задаваемом памятью и временем. Переживаемый русским пейзажем с конца XVIII века период выработки собственного художественного языка через обращение к садово-парковым мотивам, привел к тому, что в конце XIX века в творчестве символистов садово-парковый фон или целостная пейзажная композиция становятся частью выражения темы Времени, берущего свое русло в Прошлом. Почему? Потому что замкнутое не только по своей структуре, но, прежде всего, по своему настроению садово-парковое пространство дает мечте безусловность, приглушая властность настоящего, преображая, трансформируя время, давая почувствовать, что прошлое - это не столько втоптанные и постепенно сглаживаемые следы на мягких дорожках, сколько невосполнимые вмятины памяти. Прошлое — это реальность наоборот: «Тишина и пустынность будней дают воображению сосредоточиться, они не мешают процессу «проявления» лучшего из того, что было в прошлом, и это лучшее, как видение, постепенно проступает на фоне реальных форм. <.. .> В эти дни Версаль есть Версаль - место, не имеющее себе равного в
мире, некий исполинский храм под открытым небом...» При этом сад всегда остается природой, т.е. стихией, дающей иллюзию свободы: «Приветливая роща встречает Вас и открывает Вам в своей глубине трогательный памятник, являющий собой природу, окруженную природой»3 .
Проблема жизни за гранью видимости и жизни в пространстве мечты у. одной из первых возникает в творчестве М. Якунчиковой. Она начинает воспринимать пространство сквозь призму времени, что будет подхвачено и доведено до новой степени интерпретации мирискусниками. В искусстве раннего романтизма вид сада или усадьбы служил, прежде всего, своеобразным портретом конкретной местности, наделенной определенной символикой, но нивелированной искренне-романтическим чувством поэзии. В конце XIX века сад предстает сложным метафорическим пространством, наполненным особым художественным временем, включающим не только настоящее, как в конце XVIII - начале XIX века, но и минувшее. Так, например, в картине М. Якунчиковой «Чехлы» (1897, ГТГ) возникает тема изъятия вещей и героев из времени. Это состояние двоемирия будет характерно не только для М. Якунчиковой или «пассеистов»-мирискусников, но и для В.Э. Борисова-Мусатова, а также художников «Голубой розы». Реальное пространство сада у М. Якунчиковой и мирискусников преображается и усложняется, поднимающимися из зеленых теней сада воспоминаниями: «...в Натуре от одной силы все вещественное происходит; она есть чувственный образ происхождения, бытия и исчезновения вещей» . Пластическая выразительность художественного языка вскрывает накал настроения, затаенного внутри изображаемого вида, например «Парк в Сен Югу» (1898, Нижегородский Государственный Художественный Музей) или «Ваза» (1890-е годы, Частное собрание) М. Якунчиковой. Интонации парка, тем более столь любимого символистами «первой волны» Версаля, неоднозначны и пропитаны интригой двойственных эмблем. Доминирующий ритм Версаля - горизонталь, ровный, но беспредельный язык плоскости, настойчиво уводящей взор в открытое течение пространства. Живописные образы символизма всегда строятся полифонически, что приводит к смешению жанров: так о работах К.
Сомова или В. Борисова-Мусатова часто писали как о пейзажах. Однако чистым пейзажем их назвать трудно. Они всегда несут, не раскрывая ее до конца, интригу смысла. В романтизме жанровая структура прослеживается еще очень точно. Однако внутри видов садов и парков мы часто можем встретить изящные фигурки, символические памятники, руины, монументы «среди рощиц, посвященных трауру и печали», пробуждающие исторические воспоминания и лирические чувства: «Сколько веков, сколько достопамятных происшествий приводят нам на память развалины сего моста? Воспоминая часто о прошедшем, лучше познаем настоящее и научаемся проникать в будущее» . Связаны эти мотивы не только с идеей украшения места, но и с осмыслением времени через пространство. Романтизм с самых первых своих шагов начинает приуготовлять восприятие к эмоциональной концентрации символизма, что проявляется даже в таких утилитарных изданиях, как «Собрание Новых мыслей для украшения садов и дач». «Надгробные памятники в Героическом стиле», «саркофагоподобные гробницы» с покровами из белого мрамора на круглых, усыпанных желтым песком площадках смешивают высокопарность стиля с печальной проникновенностью духа. Романтизм стремился к монументальности, к масштабности, символизм же (прежде всего в России) отличает пронзительная камерность, камерность не в смысле форм творчества, а в смысле интенсивности настроения. Нам представляется это очень важным отличием, но в тоже время и развитием, т.к. камерность К. Сомова или В. Борисова-Мусатова - это проявление глубины, вдумчивости и даже, порой, болезненности. Если что-то мгновенно изъять из времени, то этого можно и не почувствовать, а если из пространства? Художники постоянно взаимодействуют с ним, и в такую насыщенную историческими событиями эпоху ломки духовных суставов, как XIX - начало XX века, они не могли не почувствовать его метаморфоз. В пространстве
начинают возникать пустоты, противостоит которым духовный идеал гармонии, идущий из детства, из его дачной глуши и усадебного уединения. Вещи еще помнят чье-то присутствие, присутствие, смешанное с призвуками разных эпох: «Таинственная цепь зачатий и рождений роднит Симонетту с глубокою древностью. Ее образ, видоизменяясь, мягко уходит в глухие дали прошлого»35. Пространство более изобразительно, чем полотно-время. Через него живопись получает то выразительное средство, которое вскрывает затаенное напряжение чувства времени, в невидимости которого сложно ориентироваться без координат пространства. Такой координатой для русских художников «Серебряного века» становится пространство сада — пространство мечты, наполненное руслами воспоминаний. Память - это безграничность, дающая возможность жить в любое время, вернее любимое время включать как реальность в нашу жизнь, что и делали символисты. Не это ли мы находим у В. Борисова-Мусатова? Его сады насыщены символами, которые изменяют реальное расстояние между образами во времени. Само пространство сада наделяется значением образа-символа. Парк у него — метафора, которую художник искал настойчиво, упрямо, что видно не только из его картин, но также из писем и стихов:
Лишь снилось вечернее небо
И крупные звезды на нем,
И бледно зеленые ивы
Над бледно лазурным прудом.
И весь утонувший в сирени Твой домик и ты у окна -Вся в белом, с поникшей головкой, Прекрасна, грустна и бледна.
Ты плакала. Светлые слезы Катились из светлых очей, И плакали гордые розы, И плакал в ветвях соловей.
И с каждою новой слезою
Внизу, в ароматном саду,
Мерцая, светляк золотился,
И небо роняло звезду . Тема утопленных звезд, которые «силою своею господствуют в жилах и влекут человека в свой образ»37, была центральной для романтиков, вспомним, например «Генриха фон Офтердингера» Новалиса, сочинения Гофмана, Флобера или музыку Р. Шумана. Этот фантастический мотив вечного пути к прекрасному отзывается живописным эхом и в творчестве В. Борисова-Мусатова, и М. Врубеля, и художников «Голубой розы». (Однако в их трактовке природы можно найти не только отголоски «приятного, небесного и святого», но и «яростного, адского и жадного», вскрывающего противоречивую сущность натуры, смотрящей на нас с языческим прищуром глаз, например, «Пан» М. Врубеля). Пробуждение природных начал, присутствие их в сплетении дней вызывали к жизни идеальные ландшафты, порой кажущиеся сочиненными, выдуманными, но по истокам все же остающиеся в кругу данных нам образов, обнаруживающих незримые контексты в зримых формах:
Кто во сне бы не хотел
увидать среди террасы
представительницу расы, существующей без тел.
Но природа зорче нас, и, любительница сути, видит явственный до жути
контур призрака подчас .
Фаустовская мечта романтиков об обращении времени вспять, двойственное постижение жизни на границе видимого и невидимого создает всегда ситуацию неоднозначного восприятия символистского полотна. Невозможно сказать «про что» полотна П. Кузнецова, П. Уткина или какую конкретную ситуацию и в каком парке изобразил К. Сомов. Символ воспринимается многопланово, и исходит непосредственно из художественной логики, в отличие от эмблемы или аллегории, развивающейся подобно литературной канве. При этом выразительные и тонкие детали несут в символизме не только знаковую нагрузку, но являются зрительным эквивалентом художественного настроения полотна.
В пределах паркового пространства можно найти многие уничтоженные, стертые временем точки отсчета, нащупываемые художниками. Исторические пласты вынимаются из охватившей их темноты, сливаясь в творческом полимсесте символизма. Оживают дворянское прошлое России, куртуазность XVIII века, художественная независимость и энтузиазм Парижа XIX века, Италия Ф. Гварди и С. Боттичелли. «Она белая, и платье у нее белое, но разукрашенное розами, цветами и травами...» , - этими строчками, написанными А. Полициано в XV веке, можно многое выразить в той смеси призрачной женственности, нежности и творческой неумышленной тоски, которая
окрашивала своим дыханием образ истории, прошлого. Тонкие психологические нюансы в живописи выражались, конечно, пластически, через конкретные иконографические мотивы (сад, колонны, дамы в кринолинах и т.д.), и через строй произведения в целом. Например, «Изумрудное ожерелье» В. Борисова-Мусатова обнаруживает странную близость с «Рождением Венеры» С. Боттичелли. Если мы вспомним удивительный фон этой картины и сравним его с полотном В. Борисова-Мусатова, то обнаружим эмоциональную общность нетленных пластов художественного мира кватроченто к главному регистру «Изумрудного ожерелья». Становится особенно понятно, что не только из-за декоративных задач художник не акцентирует в композиции центр. Главным в художественном звучании становится ощущение особой жизни, выводимой из потайных ее состояний: по-боттичеллевски отстраненные девушки плетут иномирные связи. У В. Борисова-Мусатова словно вытягивается второй, утопленный план «Рождения Венеры», который не то возрожденческим фризом, не то помпейским призраком, скрытым пластом таится в искусстве. Может быть, поэтому художник и назвал свою картину «языческой». Парковый фон становится напряженным контрапунктом произведения. Сад превращается из знака-символа в емкий художественный текст, пишущийся на языке тех смыслов, которые волнуют автора. Именно индивидуальность определяет символическое толкование образов. В творчестве К. Сомова терпкий символический привкус возникает на излюбленном им контрасте жизни и смерти, выражающемся особыми иконографическими мотивами -радугами над яркими в стиле английских парков лугами, фейерверками, затерянными в прудах «островами любви», кукольными фигурками петиметров романтической эпохи. Смешение «языческих» интонаций с чистыми христианскими символами вечности дают острую и пикантную смесь «сочиненной», как сад, природы искусства. Перечисленные образы
уже сами по себе, без решающих для символизма свойств (синтеза и особого настроения) — знаковы. Поэтому представляется важным выделить и общие черты в понимании образа сада как архетипа.
Образ сада - один из устойчивых мотивов в искусстве, связанных с категорией совершенного пространства. Что может быть глубже и ярче, чем та идея, которая есть существеннейшая и первоначальная в нем — идея рая? Сад — это ветхозаветный символ, который постепенно превращается в поэтический и метафорический образ искусства:
.. .сладкий оный Вертоград
благоуханием живит своим
занедужившую землю сию, -и когда уже погибает она,
веяние то приносит весть,
что для смертных
бессмертия источник дан40, -так писал о Земном Рае уже в конце IV века Преподобный Ефрем Сирин, облекая тонкой художественной тканью свои религиозные образы, рождая высокую поэзию пластической певучести которой, могли бы позавидовать и сами символисты. Исторически сад воспринимается земным наречием Рая, раскрывающим запредельность соприродным человеку образом, который характеризуют ритм, мера и гармония. Сама конструкция сада хранит в себе немало символических элементов, например - ограда. Осмысление ее вырастает до сложной философской категории. В сущности, сад — это всегда замкнутое пространство, несущее в себе идею бесконечности, текущей то ли по вертикали -средневековые монастырские или замковые сады, то ли по горизонтали -
французский стиль, то ли одновременно в пространственном синтезе двух направлений (что особенно волновало романтиков) - пейзажный английский стиль. Идея замкнутого сада, целомудренной девственности закрытого средневекового сада Марии, пройдя через модуляцию
рыцарского замкового идеала в светское пространство , получила в искусстве XVII-XVIII веков совершенно иные, чувственные оттенки. Зеленый «з'амок» небольших живых комнат во французских парках становится надежным тайником любовных утех и грандиозных мечтаний, текущих .большими плоскостями к горизонту. Именно это пространство особенно любили изображать мирискусники. Яркий пример - Версаль, обладающий сложной, полифонической символикой: от «аполлонического» культа короля-солнца до чувственно-фривольных интонаций «приапического» лабиринта любви, в унисон которому звучит наваждение рук Н. Ларжильера («Этюд с руками», около 1715, Лувр).
Романтизм вносит широкое дыхание в насыщенный мотивами французский парк, масштабность взгляда в художественном плане пробуждает влечение к синтезу искусств и стилей, творческому осмыслению декоративности, тонущей в «едва начинающейся неопределенности» (В. Борисов-Мусатов)42: «Каждый человек, имеющий хотя малое чувство к природе и красотам ее, конечно, отдает преимущество садам, по нынешнему вкусу расположенным, пред Французскими, лучше пожелает быть в свободном лесочке...» Однако, пейзажный парк - тоже живет внутри границы, даже если это невидимые «Ах-Ах». Английский стиль - это что-то вроде утопии, всегда занимавшей особую позицию в духовной жизни фантастов и безудержных романтиков, выстраивающих мир в границе идеала:
- Ограда, замыкающая Рай,
есть тишина, что миротворит все;
и твердыня его, и вал его
суть согласие, что все единит44...
Интересно, что и само слово усадьба связано с понятием ограждения: «усадить», обнести границей»45.
Тишина, гармония, упокоение, память, красота, бессмертие и время, вечность и смерть присутствуют в границах сада как исконные категории, обретенные после грехопадения в контрастном единстве формы и души:
И, когда, по несовершенству слов, Представляется плотским Эдем,
По самому существу своему Он остается духовен и чист46...
Томление по чему-то нездешнему и незримому, рожденное романтиками на рубеже XVIII—XIX веков, конфликт желаемого и доступного, переживание двойственности границ пронизывает все искусство рубежа XIX—XX веков: «.. .сквозь тонкую пелену просвечивает солнце, все вторит божественному солнцу. Я работаю. Впиваюсь в аромат прозрачностей. Написал несколько симфоний, трудно закончить, т.е. чтобы все было на них легче и закончено.. .»47. По этой фразе, написанной в технике поэтической прозы, можно было бы подумать, что ее автор не художник П. Кузнецов, а музыкант. Устремления эпохи модерна рождали мысль о слиянии искусств, о единстве жизни и творчества. На полотнах художников «Голубой розы» разворачиваются почти бесструктурные воздушные сады, невнятные кущи с лицами-листьями, повисающими на ветвях: «.. .сад этого дерева знаменует мир; почва — природу; ствол дерева - звезды; ветви - стихии; плоды, растущие
на этом дереве, знаменуют людей, сок в дереве знаменует ясное Божество. Теперь, люди созданы из природы, звезд и стихий: Бог же, творец, господствует во всех, подобно как сок в целом дереве»48. Эти слова Я. Беме кажутся очень уместными в отношении проблематики искусства художников «Голубой розы». Все в их искусстве воспринимается знаково и символично, даже постепенное превращение «Алой розы» (выставка 1904 года) в «Голубую» (1907 год):
Разлукой рок дохнул. Мой алоцвет
В твоих перстах осыпал, умирая,
Свой рдяный венчик...
Мед лепестков, и горестных примет
Предотвращали темную угрозу, -
Паломники, любовь, путей твоих, -
И ели набожно живую розу49... Художественное пространство - это всегда трансформация, метаморфоза, опирающаяся на особое видение мира, высвобождающая из зримого рельефа новые образные взаимодействия; это переход из устойчивых значений в разветвленный ассоциативный мир подобий, расширяющий временные границы произведения и уводящий понимание его сущности за пределы сюжета: «Изучение природы есть изучение эмблем подлинности, а не самой подлинности: природа не природа вовсе: природа есть природа моего «я»: она - есть творчество»50. Превращение, как одна из таинственных данностей жизни, в искусстве символистов становится творческим принципом. Однако тема трансформаций возникает задолго до эпохи модерна. Даже знаменитые «Метаморфозы» Овидия (начало работы над которыми, определяют II г. до н.э.) были не первым сочинением на эту тему: еще в III в. до н.э. Эратосфен описывал
превращения людей в звезды. Интересно отметить, что сама идея метаморфозы и изменений легендарно связывалась с сущностью «Серебряного века». Например, в «Иконологии, объясненной лицами, или полном собрании аллегорий, емблем и пр...» (1803), мы находим следующий образ: «Сей второй век представляется в виде молодой девицы меньшей первыя красоты (имеется ввиду сравнение с «Веком Золотым» - О.Д.), для означения начала перемены в природе. <...> В сем веке начали обрабатывать и строить хижины»51. Если говорить о ландшафтных метаморфозах, то тема переходных состояний пространства наиболее символично звучит в саду. Намеки, знаки, ассоциации, искусством придающие образу природы особую «грацию, без которой сад ни какой прелести иметь не может, без которой перестает он быть садом»52, модифицировано передают образ потерянного рая, который есть самая заветная цель возрождения, а в земных пределах — иллюзия покоя:
Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос, Зрю на багрянец зарь, на солнце восходящее, Ищу красивых мест между Лилей и роз, Средь сада храм жезлом чертящих.
Иль, накормя моих пшеницей голубей, Смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги; На разноперых птиц, поющих средь сетей, На кроющих, как снегом, луги5 . Емкие, насыщенные глубокими ассоциациями образы просто и естественно оживают в пространстве природы, втекающем в сердце через преображенную картину сада, развивая романтические ассоциации. В приведенном отрывке, конечно, еще нет намеренной символической
логики, но есть то воодушевление, которое питает романтическую душу творческого процесса и приводит к тому, что уподобление из чувства в символизме перерастает в художественный метод, принцип. Уже на рубеже XVIII — XIX веков высказываются основные образные составляющие одушевленной картины символизма: воздух, солнце, розы, ароматы, сад, храм природы, голуби, чаша вод, луга и небо. В романтическом пространстве парка они наделяются не только интонациями счастья и безмятежности, но и грустными нотками скорбных откровений, столь близких печальному руслу психологизма Серебряного века: чувствами утраты, ухода, смерти во времени и жизни вне времени. В живописи символистов они выражали себя через зримые ассоциации ветра, зацветающего рассвета, повитого таинственной дымкой сна (например, П.С. Уткин «Любители бури», 1904; «Загорается звезда», 1904; «Сон. Декоративное панно», 1905; «Торжество в небе», 1905 или П.В. Кузнецов «Северный гобелен», 1903; «Утро (Рождение); 1905, «Ночь чахоточных», 1907; «Увядание», 1908; «Заходящее солнце», 1908 и т.д.):
А там, где ветер веет прах -
Что вижу? смерть, кресты, могилы!
Ничтожества ужасный страх
Объял вдруг дух, проник все жилы.
О Боже! Что есть человек?
На что велел ему родиться,
Когда, как тень, как сон промчится
И самый длинный его век?5 В XIX веке пробуждается не только поэтический, художественный, но и исторический интерес к таинственной жизни символических образов в русской культуре. В 1861 году выходят «Исторические очерки
русской народной словесности и искусства» Ф. Буслаева, где он выделяет отдельную главу: «Мифические предания о человеке и природе». Описанные им образы, которые будут часто встречаться у художников «Голубой розы», обнаруживают свое глубокое родство с самыми древними истоками, сформировавшими единую систему их восприятия как одухотворенных и поэтических интонаций земли: «Ветер, дуновение. Как наша душа от ду-ть, через ду-х, так лат. animus, anima, через греческое avemos, происходит от глагола ан, затерянного в латинском и греческом, но сохранившегося в сокращенном ан; дуть <...> Следовательно не только легкое дуновение и воздух, но и ветер, и даже гроза и вьюга, по языку роднясь с душою, выражают как бы различные степени напряженности душевных сил...»55. Среди синонимов души выделяется не только ветер, но и дым, пар, огонь («В преданиях о блудящих огнях, как душах некрещеных младенцев, видна связь души с огнем»5 ), вода, море («душа по этому представлению имеет силу переливаться и волноваться, струиться: потому она и может изливаться
вместе с кровию...» ) и многие другие образы природы, вплоть до проявления внутренней силы в неодушевленных предметах. Тенденции эти симптоматичны и...опасны. Прочитанные Р. Штейнером с 3-го по 14 апреля 1912 года лекции «Духовные существа в небесных телах и царствах природы» уже самим своим названием иллюстрируют сложившуюся ситуацию. Последователями философии Р. Штейнера были не только М. Волошин или М. Сабашникова. Популярность его лекций в артистических кругах того времени была велика, прямо или косвенно влияя на умы. Увлечение магией, кабалистикой и иными оккультными науками характерно для духовной жизни конца XIX века. В 1905 году В. Иванов пишет о занятиях чернокнижием как об апокалипсическом интересе века: «Из области современных настроений. Апокалиптики и
общественность» . Пантеизм и суеверия проникают в атмосферу
символизма, открывая оборотную сущность того стремления, которое влекло к природе как источнику тайны. И хотя А. Бенуа в своих «Воспоминаниях» описал несколько иронически спиритические сеансы у 3. Гиппиус, нельзя сказать, чтобы подобные интересы времени обошли стороной мирискусников. Вспомним его «Дафнис и Хлою» или панно «Сады Дианы» (оформление столовой в проекте «Современное искусство»). У Л. Бакста эта тема выражается еще более программно и откровенно. У К. Сомова - остро и символично через смешение с сюжетом любовной интриги. К. Сомов был непосредственно связан с кружком, где «раздавались «последние слова», рождались законы нового вкуса, новой жизни» (С. Эрнст): художник посещал салон Л. Зиновьевой-Аннибал, супруги В. Иванова, которая была особенно склонна к «гностическим занятиям» и «чудодействам». В сборнике символической поэзии «Цветник Ор. Кошница первая», вышедшем в 1907 году, ее трилогия «Алцвет», представленная первою частью «Певучий осел» (вариация на тему «Сна в летнюю ночь»), насквозь пропитана языческими дионисийскими интонациями. Интересно, что проходящий через весь поэтический сборник образ сада тоже несет горьковатый оттенок чего-то запретного и искусственного:
.. .Что-то нынче узналось в тиши,
С кем-то сведалась тайно судьба,-
И еще одна грань пролегла
Между мной и людьми . Грани отчуждения подводили личность к опасным срывам. Однако, эти обманчивые и изводящие сознание влечения набирают голос уже в XVIII веке. В конце XIX века переиздается много книг, посвященных спиритизму, гаданиям, тайной логике предсказаний, выходивших в начале XIX века. Наиболее часто встречаются книги, со следующей
фигурацией названия - «Новейший фокусник» (М., 1895), «Новейший фокусник и чародей. Полное описание волшебства, фокусов, святочных гаданий и предсказаний судьбы каждого человека на новый год. Составил по Брюсу девицы Ленорман, Мартын Задеки» (СПб., 1907), «Новейший фокусник и чародей, содержащий объяснения редких, чудесных и достойных внимания волшебных действий, производимых посредством сокровенного искусства Фокуса-Покуса» (СПб., 1911). Истоки этого увлечения, как это ни странно для жившей церковными ритмами России, текут еще из XVIII века: «Новый предсказатель, колдун и ворожейка или верный и легчайший способ предузнавать будущее в Петрополе» (СПб., 1795). В 1875 году выходит точное переиздание «Первобытного Брюсова календаря», с большим количеством гороскопических таблиц и другой символикой, составленный генерал-фельдмаршалом в уединении своего имения в 70-е годах XVIII века. Там же (в издании 1875 года) мы находим «Общее обозрение предсказаний. Астрономический, экономический и политический Брюсов двухсотлетний календарь, сочиненный и расположенный с нынешнего столетия, начиная от 1800 года», что очень перекликается по своим устремлениям с сочинениями К. Эккартсгаузена «Взгляд на будущее или сказание о XIX столетии» (СПб., 1813) и «Важнейшие иероглифы для человеческого сердца» (СПб., 1803). Тему гаданий, суеверий, проникновения в таинственные и запретные миры раскрывают и такие издания, как «Опыт изъяснения сфингов» И. Коха (СПб., конец XVIII века), «Разговоры в царстве мертвых Екатерины Великой с императором Петром Великим, с Людовиком XVI, королем французским, и Фридрихом Великим, королем прусским» (М., 1807), «Духовидец, история взятая из записок графа О*** и изданная Фридрихом Шиллером» (М., 1807), «Чародеи или новый и полный всеобщий оракул» (СПб., 1816, 2-у изд. и 1822, 3-е изд.), «Книга судьбы или ворожей гостиных» (СПб., 1843), «Иллюстрированный сфинкс или
собрание разнообразных русских загадок» (СПб., 1858) и др. В связи с интересовавшей символистов темой сна показательно обилие сонников, выходивших на протяжении XIX века: «Новый и подробный сонник, ознаменующий пространное истолкование и объяснение каждого сна...выбранный из Платона, Птолемея, Алия, Албумазара» (СПб., 1811, изд. 2-ое и 1829, изд .3-е), «Ключ к изъяснению снов, составленный по сочинениям.. .изданный в лицах Михайлом де ла Портом в Париже, а вновь исправленный и дополненный Московскими ворожеями со 103 литографированными картинами» (СПб., 1838), «Искусство толковать сны, подробное изъяснение всех снов, видений» (СПб., 1846). Этот список можно продолжать долго, для нас важен тот печальный факт, что расшатывание духовных устоев шло на протяжении, по меньшей мере, века, проявив себя не только в символических образах искусства, но и в катастрофических событиях истории.
Не удивительно, что среди всех этих искушений хотелось снова почувствовать гармонию души, времени и пространства (интересно, что «поэма с картинками» Мильтона «Потерянный Рай» была издана в 1795 году, М. 8*). Главной духовной связкой русского символизма с предшествующим ему романтизмом была та интонация возврата, которая рождалась в атмосфере наступающего прощания. Для мирискусников, В.Э. Борисова-Мусатова и многих других пассеистов горизонт словно отступал назад, приближаясь к своим рубежам, тянуло обернуться и через творческое погружение в художественный мир войти в пространство минувшего. Подобное ощущение было развеяно в мысленной и духовной атмосфере Серебряного века, как воздух: «Наступило время, по выражению И.С. Аксакова, когда мы должны вернуться домой»60, - писалось в показательном в связи с затронутой темой художественно-литературном сборнике изобразительных искусств, иконописи, зодчества, ваяния в образцах древнего и современного
искусства. «Цветник», изданный К. Степановым, выдержал всего один выпуск (1908, №1), но показателен как рассматриваемыми темами, так и своим художественным материалом. Здесь мы сталкиваемся с принципами отличными от методов погружения в материал символистов, которые наблюдаются в журналах «Мир искусства» или «Золотое руно». Несмотря на обращение к сходным проблемам и к оформительским возможностям стиля модерн, в нем главным является именно исторический подход, дистанцирующий переживания о прошлом в реальность современного времени, в результате чего художественный язык воспринимается только декоративно, а образы — идейно. Художественное впечатления от журнала «Мир искусства» (с 1898 года) или «Золотое руно» (с 1906 года) совершенно иное. Даже в материале теоретическом ощутимы принципы, питавшие творческую манеру художников, оформлявших их; ту манеру, которую начали развивать мирискусники, через интуитивный, герменевтический метод раскрытия сюжетов, тем и образов.
Все зависит от интерпретации. Быть художником во что бы то ни стало — романтический идеал, воспринятый символистами. Художественные особенности языка помогают открыть и более далекие горизонты развития образа, акцентируя расстояние и сближения прошлого и настоящего, мечты и реальности в самодостаточном пространстве искусства. В живописи русских символистов пейзажное пространство, как мы уже отмечали, строится на композиционных принципах конструируемой природы сада. Пейзажный мотив берется не просто в реальном контексте натуры, включающей в себя поэтические данности природы (как например, у С. Жуковского или С. Виноградова), но в преображенном творческими принципами смешения реальности и сочинительства виде. Конечно, степень преобладания одного над другим у художников, рассматриваемых нами как символисты, разная. Так М.
Якунчикова в большей степени шла от лирической памяти натуры, хотя и начала вырабатывать те пластические принципы художественного языка, которые будет развивать А. Бенуа в своих Версальских пейзажах (заострение ракурсов, наполнение пространства особой интенсивностью скрытой, внутренней жизни). Пейзажные парковые образы К. Сомова складываются долго и сложно, синтезируя как реальные усадебные или парковые виды, отраженные в этюдах, так и художественные фантазии в духе «былых времен». Мир В. Борисова-Мусатова уходит за границу сада, как за зеркальную плоскость воды: его реальность - в реальности заброшенных усадебных парков, а его непроницаемость - в трансформации духовной плотности пространства памяти и пространства жизни. Сад становится наиболее органичной территорией для обитания вневременных сущностей, оживляемых душами художников. Бестелесные грезы П. Кузнецова и П. Уткина, Н. и В. Милиоти просто не смогли бы дышать в пространстве реального ландшафта, с которым они все же связаны памятью о райских уголках садов-эдемов. Эти перевоплощения, метаморфозы развиваются постепенно, движутся от конкретной и зримой композиции к ирреальной, бесструктурной форме, затем, чтобы потом снова обратиться к новым языковым поискам, нырнув в перспективу 20-х годов XX века:
Скажите, как потом другим
не любоваться деревами,
когда без нас они прекрасны?61 Таким образом, на рубеже XIX-XX веков пробуждается интерес к возможностям пересоздания, модификациям форм искусства, обусловленных их связью с «формами чувственности»62 - пространством и временем. Но, несмотря на то, что временные границы расширяются,
пространство сужается, замыкается, уходит в концентрическую атмосферу излюбленного мотива — островка парка или сада:
Я насадил свой светлый рай
И оградил высоким тыном,
И в синий воздух, в дивный край
Приходит мать за сыном . Важно помнить тот факт, что русский символизм (особенно в живописи) преимущественно опирается на реальные, подлинные истоки -истоки переживания. О реалистической природе романтического чувства русского символизма писали многие теоретики этого умозрения, например А. Белый и В. Иванов, А. Ремизов и А. Блок и многие другие. Помимо феномена личных привязанностей, воспоминаний детства и юности, проведенных в усадьбе или на даче, в обращении художников-символистов к садово-парковым мотивам сказывается интерес к его сложной природе, дающей одновременно мысль о реальной стихии и идеальной памяти, и позволяющей наполнить художественное пространство картины дополнительными оттенками настроения и смысла. Любовь к старине и прошлому, характерная для мирискусников и В. Борисова-Мусатова, это полифоническое ощущение структуры образа, живущего во времени и наполненного им через пространство, внушенное символизмом; это то ощущение, которое будет развиваться в классическом искусстве XX века усложнением синтезируемых гармоний памяти в регистровке образа (прежде всего в музыке, например А. Шнитке, и в балете - Д. Баланчин, У. Форсайт, М. Бежар): «Всякое искусство символично — настоящее, прошлое, будущее. В чем же заключается смысл современного нам символизма?», — писал А. Белый. Прямой ответ мы находим чуть ниже: «Школа символистов раздвинула рамки наших представлений о художественном творчестве; она показала,
что канон красоты не есть только академический канон; этим каноном не может быть канон только романтизма, или только классицизма, или только реализма; но то, другое и третье течение она оправдала как разные виды единого творчества; и оттого-то в пределы недавнего романтизма вторглась романтическая фантастика; и обратно: бескровные тени романтизма получили в символической школе и плоть, и кровь; далее символизм разбил самые рамки эстетического творчества, подчеркнув, что и область религиозного творчества близко соприкасается с искусством... Новизна современного искусства лишь в подавляющем количестве всего прошлого, разом всплывшего перед нами; мы переживаем ныне в искусстве все века и все нации; прошлая жизнь проносится мимо нас»64.
Чтобы понять глубину и своеобразие творчества мирискусников и последующих художников, чье искусство наполнено символическими настроениями, нужно верно и подлинно прочувствовать атмосферу той жизни, которой в России уже нет, но которая была многовековой, последовательно росшей реальностью. Мысль о связках непрерывных и замкнутых это не только пространственный принцип садов, но и внутренний смысл жизни, тем более жизни в контексте истории искусств.
Диалог с природой на языке знаковых, поэтических и символических ассоциаций в светском искусстве развивается постепенно и последовательно. Структура жанров и иерархия достоинств выстраивалась в XVIII-XIX веке согласно академическим канонам, влиявшим не только на ценностные категории, но и на художественную манеру, вырабатывавшуюся условиями воспитания в Академии художеств, прежде всего копированием и поездками в Италию, как
идеальное место для развития вкуса и постановки глаза не только пейзажиста, но и вообще художника. Эстетические приоритеты формировались, конечно, и внутренним миром самих художников. Вот, например, как об этом писал А.Г. Венецианов: «В эту часть художественного образования (т.е. академического - О.Д.) не входит красота, изящество и прочие эстетические начала: ибо они не зависят от верного видения предметов в Природе; художник объемлет красоту и научается выражать страсти не органическим чувством зрения, но чувством высшим, духовным, тем чувством, на которое Природа так не щедра бывает и одаряет только немногих своих любимцев...»65. В структуре языка барокко, классицизма или романтизма такие понятия как лирический или поэтический образ, аллегорическое или эмблематическое значение выражали себя по-разному. Это чувствовали и теоретики того времени: «Поэзия, как подражание естеству, и как истинное подобие, есть одна и таж, по свойству своему, во всех веках, и во всех местах у человеческого рода: но способ речи, или Стих, коим обыкновенно изображается поэзия, находится многоразличен...» '. Способ, манера речи - это особенности стиля. Какие общие тематические слои, фразеологизмы, помимо уже рассмотренных, можно еще выделить в контексте романтического и символического настроения и как они преломляются в свете времени? Какие красочные пелены облекают образы, кочующие из века в век?
В XVIII веке идеальное видение художественного пространства основывалось, прежде всего, на мыслях о гармонии, стройности, пропорциональности. Такие понятия, как «еврифмия», «правомерие», «согласная мера всех частей», «совмерность» и разнообразие были не только принципами архитектурного строительства, но и глубокими мировоззренческими категориями, укладывающимися в духовную и нравственную картину того времени . Эти представления были
отражены как в живописи, так и в садово-парковом искусстве: «Дерево чрезвычайной красоты по середине сада стоящее, возбуждало любопытство мое наиболее. Вместо того, что у прочих дерев каждый листок говорил нечто особливое, то у сего все вдруг одно говорили. Здесь то, сказал я, есть согласие всего различного, следовательно, и самое большое совершенство» . В конце XIX века представление о целостности образа, его идеальном первообразе становится сложнее, зыбче, баланс равновесия смещается, образы психологизируются. В своей «Теории удовольствий» Зульцер подчеркивает, прежде всего, симпатическую функцию искусства, в унисон с которой и звучат лирические, неторопливые интонации полотен Сем. Щедрина или В. Венецианова: «Художник, сочетав здесь единство со стройностью, дал такое разнообразие, которое составляет в сей части общее целое неподражаемое»69.
В конце XIX веке драматическая составляющая романтического порыва к недостижимым высям и нездешним гармониям гиперболизируется, выделяется как одна из главных и таинственных в стихийном пространстве искусства. Вспомним, например, «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше. Конечно, все это усложняет и понимание символа. Если в XVIII веке достаточно было изобразить «Тайну», то в XIX веке попытались проникнуть в нее средствами искусства. Символизм в живописи Серебряного века —это, прежде всего, настроение, это дыхание образа в пространстве, особая аура индивидуального строя произведения, действующая только при непосредственной встрече с ним (попытка судить о картинах К. Сомова или А. Бенуа, В. Борисова-Мусатова или П. Кузнецова по репродукциям заведомо безуспешна). Специфическая интенсивность символического настроения в картине особенно наглядно проступает, когда мы сравниваем два различных по своему характеру образа в творчестве
художника, у которого одновременно сосуществовала разная манера выражения - декоративная и символическая. Например, в творчестве А. Бенуа (я говорю, конечно, только о раннем периоде) можно найти как глубокие символически выдержанные композиции, так и стилизации с театральным уклоном или просто натурные этюды. Выразительное чередование линий, подчеркнутая красота плоскостей воды, отражающих мир деревьев и ржавых пятен крон с кусочками неба, свежесть и непосредственность настроения этюда «Зеркальце в Трианоне» (1905) ярко демонстрируют особенности звучного языка искусства модерн в его декоративном ключе. Символическое состояние в природе у А. Бенуа проскальзывает реже, чем у других рассматриваемых нами художников, но тем нагляднее можно почувствовать разницу в интерпретации. Символическое напряжение у А. Бенуа достигается, прежде всего, особенностями композиционного построения, т.е. формальными методами, но при этом является манерой видения, а не способом объяснения. Например, в этюде «Версальский парк» (1896-1898) излюбленная художником игра ракурсов создает напряжение формальными средствами - срезанный угол прямоугольной выемки фундамента верхнего яруса, прямоугольник пандуса, похожие на погребальные тумбы постаменты в сочетании с серой дымкой обнаженных крон создают приглушенно-таинственное настроение. Настроение определяет серьезность тона всего образного строя также, как музыкальная тональность эмоциональный колорит мелодии. Желание уйти в себя, уединиться, замкнуться, вслушаться и пережить что-то глубоко неповторимое и индивидуальное стало едва ли не самым доминирующим в эпоху модерна. По природе своей это переживание имеет романтические истоки. Знаменитая печаль-тоска является одной из главных чувственных составляющих художественных, поэтических и музыкальных образов искусства рубежа веков. С точки зрения
символизма, на наш взгляд, это настроение может быть выделено одним из главных компонентов в характеристике символического образа, причем состояние грусти или болезненного волнения становится уже не просто словесной краской, но самим действующим художественным образом. Именно оно определяет тональность пространства в картинах В. Борисова-Мусатова, во многом М. Врубеля, И. Левитана и других художников, высказываясь, конечно, в контексте индивидуальных для каждого художника тем: для В. Борисова-Мусатова это, прежде всего, ностальгические переживания воспоминаний, призрачность прошлого; для М. Врубеля - напряженная страстность фантастического романтика; для И. Левитана - элегический скрытый ритм певучей мелодии русской природы, непрерывно ищущей выражения не только в пространстве живописи художника, но и в пространстве его души и жизни. Романтики видели в подобном состоянии черты идеального героя с возвышенной, непонятой душой. Очень часто его вызывали искусственно, смешивая реальные переживания с вымышленными обстоятельствами. Благодаря этому и появляются два знаменитых образа романтической эпохи: книга и уединенная беседка, или аллея со скрывающимся в них героем. Нет ничего удивительного, что искусство оформления книги в начале XIX века отличалось большой изысканностью и культурой, привлекавшей мирискусников, а затем и художников «Голубой розы» в их издательском опыте (имеется в виду журнал «Мир искусства» и журнал «Золотое руно»). Книга была той художественной жизнью паркового пространства, которое в конце XIX века переполнили воспоминания. Хотя, конечно, воспоминания питали и уединение романтизма. Вот, например, как писал о Павловском алебастровом памятнике Великой Княгине Александре Павловне (умерла в 1801 году) П. Свиньин в 1816 году: «Под сводами мавзолея является взорам воздушное существо из белого мрамора, готовое оставить сей бренный мир и превратиться в блестящую звезду,
подобную той, которая украшает небесное чело ея. Гименей с опущенным к земле пламенником - преклоняет колено пред неисповедимою судьбою, но в то же время, объятый глубочайшею горестью, нежностью и отчаянием стремиться дрожащею рукою удержать полет сего Ангела. Памятник сей воздвигнут на том самом месте, которая покойная Александра Павловна обрабатывала в детстве собственными руками своими» .
«В сени дерев, во мраке, вызывающем почтение» укромно развивались самые романтические мысли, рождались мечты и стихи. Прогулка по местности прекрасной, выстроенной согласно идеальной логике, ориентировала на размышление и внимание к своим чувствам.
Уединенные беседки, скрытые гроты, укромные скамейки в уголках тайной жизни цветов и памяти, рассматриваются не столько как средство пробуждения ранящих печалью дум, а, наоборот, как способ врачевания и исцеления души от ипохондрии, через «ощущение в сердце своем водворяющегося вожделения покоя и безмолвия»71. Эта тема отражена, например, в таких журналах, как «Сельский житель, экономическое в пользу деревенских жителей служащее издание» (Императорская типография Московского Университета, 1778) и «Экономический магазин»: «О! Как приятно было для меня возвращение сие в то место, где я родился, и где многие годы потом живучи в мире и тишине, препроводил в спокойном веселом и том состоянии, какого не желал лучше! Все места, окрест онаго лежащие, и все предметы, зрению моему встречающиеся, были мне милы и приятны, и казались встречать меня с удовольствием, и торжествовать возвратное мое к ним прибытие. Я спешил в мои сады, в сии места, кои из негоднеиших мною в приятные и веселые обращены, и мне бесчисленны поводы к чувствованию невиннейших, но вкупе приятнейших увеселений толико лет подавали; и находя в них новые поводы к утешению забывал все свое
неудовольствие, и получал отраду и успокоение» ~. Журнал «Сельский житель», предшествовавший знаменитому «Экономическому магазину» (с 1779 года), издавался А. Болотовым анонимно на протяжении 1778 года. Это было одно из первых по своему характеру практических изданий, посвященных теме жизни в усадьбе, ее обустройству, разбивки новых садов и воскрешению старых: «...а особливо усердствуют вам охотники до садов, и говорят, что они весьма бы были рады, есть ли бы могли сообщать им что-нибудь о садах и о разведении оных полезное, и они б могли иметь всегда такого доброхотного знающего человека, у
-7 'У
которого могли б обо всем требовать совета» . Даже сами вымышленные фамилии адресатов носили деятельный и подчеркнуто-деловой характер: Садозаводин, Луголюбов, Садолюбов, Старосадов, Хлебопахарен, Прудолюбов, Ветлин, Цветолюбов и т.д. На страницах журнала внимание уделялось не только «садам плодовитым», но также и увеселительным, хотя сложной и цельной разработки символической структуры сада здесь мы не находим. Если говорить о художественной выразительности, которая присутствует в лирических отступлениях, то она отличается трезвым и спокойным характером мысли. Эти качества были вообще присущи А. Болотову как человеку, что ощутимо и в его «невинных и безопасных упражнениях» рисованием. В Государственном Историческом Музее хранится «Альбом видов Богородицкого парка», содержащий 78 рисунков усадьбы, исполненных А. Т. Болотовым и его сыном. Бородицкий парк в имении графа А.Г. Бобринского, созданный А.Т. Болотовым в период с 1776 по 1796 годы, представляет собой образец одного из первых пейзажных парков в России. Эти рисунки интересны своей практической стороной, показывающей как принципы реального садово-паркового искусства проникали в область живописи. Хотя они и изображают все романтические атрибуты английских парков, такие как беседки, ротонды, вазы на холмистых постаментах неровного
ландшафта, гуляющих на фоне живописных берегов кавалеров и дам в длинных платьях, изгибающих их фигуру наподобие стебля, рисунки эти несут любительский и прикладной характер, очень интересный с точки рассмотрения конкретных реалий усадебной жизни. Целый пласт подобного полулюбительского усадебного художественного творчества дошел до нас от этого периода. Не только профессиональные художники писали виды усадеб по предложению их владельцев, как например Яков Яковлевич Филимонов и Василий Петрович Причетников родовое поместье князей Куракиных — «Надеждино» или Семен Федорович Щедрин усадьбу Демидовых - «Сиворицы»74, чьи образы отличаются художественной цельностью и романтическим лиризмом, но и крепостные неизвестные мастера оставили портреты усадеб, в которых они жили, а также и сами владельцы, например - В. Жуковский, А.Б. Куракин («Виды села Степановского», 1839. X., м. Серия из 8 видов. ГИМ). Большой коллекцией неатрибутированного изобразительного материала с видами частных усадеб обладает Государственный Эрмитаж . Эти работы отличаются невысоким художественным уровнем, но они позволяют проникнуть в атмосферу неявной для истории художественной жизни, которая была питающей духовной повседневностью России XIX века, поэтому оставлять их без внимания, как это происходит в настоящее время, представляется несправедливым.
О модном (даже уже на заре романтизма) чувстве тоски, «ипохондрической болезни» писали достаточно много: «Ипохондрическую болезнь обыкновенно заключают под общим именем тоски, или боления сердца <...> Одержимые сею болезнию люди весьма склонны бывают к печали, всего бояться, и обо всем беспокоятся, а причины тому никакой объявить не могут»76. Среди публикаций встречаются рассказы и заметки, занимательные как своими тонкими насмешливыми интонациями, так и тем, что склонность к печали,
мечтаниям и замкнутости описывается как новорожденная, новомодная болезнь XVIII века: «Я теперь неудобо-разумно-и-духодеятелен. Прошу я вас, государь мой, именем всея нашея дружбы, приказать хотя на мой кошт выпечатать сие слово большими, а если можно и красными еще буквами: оно есть новое и высокое изобретение осьмагонадесять столетия; а я, имея щастие быть онаго первым творцом и знаменателям, хочу оное передать потомкам от рода в род и на множество веков»77. В конце XIX века в одухотворенно страдальческие, бледные, изможденные лица, «которые боль истончила до скелета из твердой и белой, как мрамор плоти», лица, с нервно горящими глазами, чья глубина подчеркивалась контуром обводившей их темноты, стали выражением истинной внутренней красоты и духовного аристократизма. Признаки эти порой искусственно вызывались чрезвычайным и по существу тщетным напряжением, например, бессонными ночами, как это описывает Ж.-К. Гюисманс в романе «Наоборот», что послужило материалом не для одной злостной шутки, суждения и сочинения, например - книга Макса Нордау «Вырождение» (1892-1893, в России - 1894). Интересно отметить, что псевдоним самого автора (подлинное имя - Симон Зюдфельд) образован, несмотря на критику «декаденства», согласно принципам символизма -наоборот: «...Нордау (от нем. "der Nord" - север) - антитеза буквальному значению фамилии Зюдфельд (нем. - южное поле)» . Все эти симптомы в искусстве конца XIX века можно рассматривать как особую грань темы Времени, которое пытались уложить в сознание, при всей его непокорности и невозможности уяснения, они «были не столько следствием возраста, сколько масштаба» . Двойственность, таящаяся в природе и жизни, мир в границах и за их пределами, рост, взросление и старение, которые в тени многозначительных размышлений можно проследить на примере цветка или человека, напряжение, выразительная логика красоты, красоты самодостаточной и бесцельной в силу
смертности, а может быть, наоборот, благодаря вечности - все это слилось в синтетический идеал символизма. Почему герои К. Сомова кажутся кукольными? Потому что «на них приходится смотреть в одно и то же время и глазами, и памятью, на этих кукол, раскрашенных в бесплотные краски лет, олицетворяющих время, то самое, обычно невидимое Время, которое, дабы стать зримым, ищет тела, и повсюду, где находит, завладевает ими, чтобы направить на них свой волшебный фонарь» . Может быть, тот самый фонарь, который так радовал А. Бенуа в детстве, и которым высвечивал С. Судейкин сказочно-театральные сценки перламутровых садов с воздушными фонтанами юбок балерин и прогуливающихся красавиц. Эта тема времени становится одой из главных причин ухода художественного пространства в пейзаж парка или сада, лирические и романтические образы которых появились в русском искусстве в конце XVIII века. В этот период мы можем говорить о дифференциации, произошедшей в характере изображений парков: архитектурные чертежи и плановые изображения, конкретные и наглядные гравюрные виды (в духе А. Зубова или «Аксонометрических планов Петергофа» П.-А. де Сент-Илера, 1770-е) отделяются от художественных образов в рисунке, акварели и масле, в которые проникает гибкие связки романтизма. Поэтические описания парковой природы вытесняют в конце XVIII - начале XIX века топографические ландшафты и в живописи. Именно лиризм и очарование характеризуют романтические образы парковых видов художников этого времени. Безусловно, опирались они на идеальные ландшафты, созданные садовым искусством, которое основывалось на реальных знаниях, и поэтических чувствах, формировавшихся литературой, выходящей в то время. Как правило, это были французские и английские издания.
Романтизированные образы парковой природы в творчестве Сем. Щедрина и С. Сергеева вдохновлены, прежде всего, Павловском,
Петергофом и Гатчиной. В какой мере они сохраняют характер русской природы? Уже в начале XIX века их воспринимали как нечто органичное выразительным особенностям русского пейзажа: «Да, добрый мой Кюхельбекер, — свой домашний уголок Колоннада, Храм в Павловском, -
о і
доставляют мне удовольствие более, нежели все красоты Италии» , — пишет Великая княгиня Мария Федоровна директору Павловска. Все же не стоит упускать из виду тот факт, что естественный характер этих мест был существеннейшим образом изменен поиском красок и композиций, соответствующих идеалам садово-паркового искусства того времени: яркие тенистые аллеи голубых елей торжественного регулярного Петергофа, поэтически топкие пейзажи «холмистого» Павловска, таинственные и романтические озерные берега Гатчины - в такой же степени русская парковая реалия, в какой и воплощенная мечта европейского садовода. Так, что даже иностранцу эти художественные пейзажи навевали вполне понятные ассоциации родственных мест: «Когда, покинув Царское Село, Вы поедете прекрасными полями, напоминающими английский пейзаж, Вас встретит прохладный лесок, который будет сопровождать Вас до самого Павловска. <...> Деревья, кустарники и травянистые растения из отдаленнейших краев Земли объединились тут, чтобы создать роскошный массив, вызывающий сладостные мечтания. Конечно, для этого были выбраны такие растения, которые выносят нашу недружелюбную зиму. Но если сибирский кедр напоминает Вам о шестидесятом градусе широты, то шелковица и каштан докажут Вам, что уход и забота могут способствовать акклиматизации у нас созданий более счастливого климата» .
Императрица Мария Федоровна была необыкновенной любительницей цветов и садоводства, неудивительно, что искусство ее времени проникнуто такой романтической прелестью и элегической красотой. Тонкий вкус, основанный на глубокой любви к живым
образчикам красоты, присущий Марии Федоровне и Александре Федоровне повлияли на выразительную стилистику не только садово-паркового искусства, но и на архитектуру, и живопись. О знаменитом собственном саде императрицы Марии Федоровны, о Розовом павильоне (арх. А. Воронихин) и других павловских цветочных участках парка А. Штрох пишет как о волшебном влиянии «метода творчества Марии». Не меньшим влиянием личного вкуса императрицы отмечен и следующий период жизни за городом. «Blanchefleur» — белый цветочек, вернее роза — Александра Федоровна лично занималась подбором растений и цветов в садике Александрии (арх. А. Менелас), садах Царицына и Ольгиного павильонов (арх. Штакеншнейдер), Луговом парке. Цветы распускались не только в садах, оплетали не только бордюры обоев или ручки кресел, танцевали не только по полю фарфорового озера, но складывались в целую азбуку — селам, а порой в них просто пытались превратиться. Последнее замечание, если говорить о России середины XIX века (времени увлечения французскими романтиками), несет и комическую характеристику: «...цветы, вот настоящая его болезнь. <...> Да, он страдает иногда каким-то тревожным воспоминанием; это страсть совсем новая и называется она по ученому - цветобесием. <...>.. .в глазах Мильфлера, моего господина, всякой цветик имеет чрезвычайное значение, он почитает его тайным творением, существом, скрывающимся под нежною оболочкою, какою-то душою узника, так говорит мой господин, душею томящеюся в бутоне; он с ними разговаривает, рассуждает с цветами, только уж правду сказать, рассуждение это
о?
жалкое, он думает, что они ему отвечают» . Однако язык цветов был не таким уж жалким и, по-видимому, достаточно популярным. В «Журнале садоводства» печатаются «Синоптические таблицы» , которые обучают символической речи «селама» - языка цветов. Интерес к ним характерен и для конца века, так как появляются переиздания книг, посвященных
этой теме, а также выходят новые, принцип построения которых очень похож: «Селам или язык цветов» Д. Ознобишина (СПб., 1830), «Язык цветов или описание эмблематических значений, символов и мифологического происхождения цветов и растений с прибавлением стихов, написанным на цветы русскими поэтами. С картинами. Посвящено прекрасному полу» (СПб., 1849), «Язык цветов. Язык любви» (Рига, 1903), «Язык цветов» (Варшава, 1905). Имели хождения и иностранные книги, привлекательные выразительной стилистикой модерн, например «Flora's Feast a masqve of flowers. Penned and picture by Walter Crane» (London, Paris, Melbourn. 1895) из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Хотя приведенные примеры отличаются более декоративным характером, однако, цветочный язык, не имеющий слов, направлял мышление в область символических ассоциаций, переводивших образы в иную плоскость прочтения. Символисты поверили в цветы серьезнее, пытаясь найти в них неуловимые черты сакральной женственности, влекущей грации и «ангелизма» (Н. Минский). Сборники эссе М. Метерлинка «Двойной сад» и «Разум цветов», вышедшие в 1904 году, чье творчество увлекало русских художников-символистов, очень показательны в этом смысле.
В связи с рассматриваемым вопросом хотелось бы добавить, что романтическая жизнь XIX века в атмосфере цветов и сада, проникнутая светской культурой, аристократическим благородством утонченного вкуса получила большое отражение в живописи, что может оказать значительную помощь при реставрации и реконструкции разрушаемых временем парков, прежде всего, с точки зрения атмосферы, ауры образов. Как мы уже отмечали выше, романтическая «вселенная парков» входит в художественную живопись образами Гатчины, Павловска Г. Сергеева, Сем. Щедрина, А. Мартынова, С. Галактионова в поэтическом описательном ключе императорских резиденций. В XIX века эта
традиция будет продолжена, прежде всего, акварелями видов николаевского Петергофа И. Шарлеманя, Е. Мейера, К. Шульца, Л. Премацци, А. Бланшара, В. Садовникова. Их манера проникнута лирической полнотой образов: жизнь очаровательная, молодая, весенняя предстает перед нами. В конце XIX века, в первую очередь А. Бенуа, К. Сомов, М. Добужинский, А. Остроумова-Лебедева возвращаются к темам загородных парков и словно воскрешают времена их расцвета — времена Марии Федоровны и Александры Федоровны, но вкладывают в образы уже иное настроение, свое понимание, несущее черты эпохи Серебряного, а не Золотого века, порой символически насыщенное, а порой действительно просто ретроспективное.
Стилизация в искусстве эпохи модерна возводится в категорию глубоко личного творческого приема. Черты минувшего наполняют художественную форму подлинностью и особой проникновенностью, превращающей тот или иной стиль в насыщенный символ прошлого,
заглядывающий «в душу эпохи сквозь глаза видевших ее» . В 90-х годах XIX века художники группы «Мир искусства» развивали эту точку зрения последовательно и цельно, как в своем журнале , так и творчестве. В стилизаторстве этих «ретроспективных мечтателей» нужно видеть не столько иллюстрации и картинки с ароматом старины, сколько глубоко символичный способ мышления, синтезирующий в творчестве мотивы прошлого с полифонической формой настоящего: «Мечта о былом — интимная поэзия их творчества. Изощренность рисунка, капризная законченность контура, чувство линии, острота графических приемов в связи с глубоким проникновением в душу прежних эпох - вот признаки, достаточно характерные для выделения в особую школу главных создателей «Мир искусства», вдумчивых поэтов русского модернизированного empire'a и XVIII в. <...> Их «ретроспективная мечтательность» - не только следствие той «любви к редкому и
невозвратному», которой овеяно все искусство конца XIX столетия, но, несомненно, объясняется и более глубокой потребностью: вернуться к хорошей художественной традиции, к забытой красоте екатерининской и Александровской эпохи, после гнетущей прозы и фальши 50-80-х годов» . Безусловно, связь с традицией является важной характеристикой творчества мирискусников, но нужно понять, что выражается она не только формально, но и психологически, рождая символически-напряженные образы, например у К. Сомова. Подобное видение характерно и для В. Борисова-Мусатова. Вызвано оно поиском опорных духовных точек в пространстве. В символизме этот вопрос встает особенно остро, и не только в литературном или музыкальном творчестве В. Иванова, А. Белого, С. Мережковского, А. Скрябина, но и в живописи, прежде всего, художников «Голубой розы» (например - П. Кузнецов), или в композициях других символистов, таких как В. Денисов, у которых образ сада возникает как символ пространства внереального, запредельного, духовного - райского или прямо противоположного : «Искусство долго называли храмом. Теперь — говорим о часовнях искусства. Каждая новая группа художников - новая часовня, для немногих. Тем дальше - от кощунства «торгующих в храме». Светло. Тихо. И картины — как молитвы. Пусть даже — робкие или неумелые, слишком одинокие или недостаточно благоговейные, но молитвы»89. Область грезы становится главной в их творчестве, также как и в творчестве П. Уткина и Н. Крымова, о чем пишут многие
90 /-^
современные художникам критики . Однако даже само представление о грезе наполняется в символизме более прозрачной и зыбкой смысловой образностью сна и вечности смерти:
Греза — это тело...
А те из духов более святых,
Кто не рождался и не умирал,
Лишь посещают в сновиденьи нас91. В сочинении Ф. Мюнтера, хранящемся в Библиотеке Академии Художеств (Санкт-Петербург) и посвященном эмблемам и художественным изображениям древних христиан, мы находим следующее замечание, которое указывает на ситуацию смешения разнородных и разновременных культурных пластов в жизни тех или иных символов, поочередно то уходящих в забвение, то воскрешаемых: «Почему древние христиане не приняли в свою художественную аллегорию прекрасный образ, которым греки и римляне выражали идею смерти, гения с обращенным к низу потухшим факелом, тогда как в других случаях не боялись же они сходства с языческими изображениями? Объяснить не легко, тем паче, что сам Христос, Иоанн XI, II, дал пример сравнения смерти со сном...» (Как мы видели, в XVIII и XIX столетиях эти образы становятся популярными). Мысль Ф. Мюнтера дает очень интересную связку, соединяющую символизм и романтизм с глубоким и разветвленным историческим пространством. Светское искусство в России, выражает себя все в более и более динамическом эмоциональном ключе, включая в себя многие сущностные категории, прежде выражавшиеся языком искусства церковного или, по крайней мере, проникнутого религиозной мыслью. Вхождение русского искусства в европейскую систему культурных ценностей, которое отмечается многими исследователями (одним из самых недавних примеров может служить доклад СО. Андросова «Музей слепков как универсальный проект эпохи Просвещения», прочитанный им на «Лазаревских чтениях» в феврале 2007 года), повлекло за собой увлечение античностью. Искать в этом особой психологической глубины, конечно, не стоит, да это было бы и ошибочно. Однако интерес этот показателен сам по себе, проявив себя высочайшим образом в ампире, он
существенно повлиял на развитие вкуса, выведя эстетику жизни почти на уровень чистого искусства. Не удивительно, что эта эпоха привлекала художников модерна. Однако их взаимоотношение со стилями прошлого стало иным.
Проникновение античных интонаций в стилистику искусства XVIII века, зазвучавших во всю силу в ампире (по времени параллельном раннему романтизму в живописи и рассматриваемому нами как высшее напряжение эстетического чувства классицизма, его романтическая стадия в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве), развивает художественный вкус не только в искусстве, но и в жизни, о чем писал в конце XIX века князь Е. Трубецкой: «Дедушка не столько требовал, чтобы все кругом подчинялись стилю, но он и сам ему подчинялся, и оттого не было в жизни большего систематика. Раз заведенный порядок повторялся у него изо дня в день, из часа в час. Все те же часы вставания, все та же каждодневная прогулка с сидением точно определенного количества минут на названной в его честь княжеской скамейке в парке. И никакая погода не была в состоянии изменить этого обязательного для него расписания. Однажды в холодный дождливый осенний день моя мать сопровождала дедушку во время прогулки. Когда он, по обыкновению, сел на княжескую скамейку она тоже хотела посидеть вместе с ним, но он дрожащей от холода рукой вынул из кармана часы и, посмотрев на них, сказал: "Aller, aller, ma chere a la maison, je crains que Voux Voux retroidirer: quant a moi, je dois encore reiter dix minutes sur ce bane". И досидел. Но надо сознаться, что на ахтырской скамейке и в самом деле посидеть хотелось, - так все было живописно, а глаз, привыкший к стилю, радовался тут на каждом шагу. Мостики, переброшенные через ручьи, с грациозными перилами в березовой коре, круглая одноэтажная беседка «гриб», двухэтажная беседка «Эрмитаж» с мезонином и перилами в березовой коре, с дивным видом с лесистого
холма на противоположном берегу реки, пристань для лодок в стиле дома. Весь этот огромный сад с вековыми деревьями, березами, липами, тополями, соснами и елями был раскинут по холмам по обоим берегам реки Вори, запруженной и образующей в Ахтырке широкую водную поверхность с островом посередине, куда мы часто ездили на лодке. Все это было с любовью, с удивительным вкусом устроено моей прабабушкой, матерью дедушки. И он, родившийся в конце XVIII-ro века, увековечил ее память небольшим памятником — колонкою на возвышении на берегу реки с выгравированными стихами собственного сочинения в до Пушкинском стиле:
Тебе, мать нежная, драгая,
Я памятник воздвигнул сей,
Чтоб ум твой, доблесть вспоминая
Излить здесь глас души моей.
Ты местность эту сотворила
Храм Божий, воды, дом и сад,
Саму природу победила,
Всему дав стройный, дивный лад...»93. Приведенный отрывок наглядно показывает те сближения и расхождения, которые усматриваются в романтизме и символизме. В целом стиль - это определенный предел, граница, в которую помещает время наши выразительные возможности; это оболочка времени, разноликого по образу, но в принципе одного и того же по своему существу. С одной стороны, манеры Александровской эпохи вроде бы налагают определенные трудности для вхождения в ее пространство молодого поколения конца XIX века - поколения его внуков. С другой стороны, внутренние связи от этого не нарушаются, а наоборот раскрывается логика их сближения. Выдержка и верность стилю
обнаруживают романтические качества, объяснимые только исключительной влюбленностью и верою в избранный идеал. Не оглядывающаяся на время, преображающая и продлевающая его, идеалистичность и возвышенность мышления, где художественный образ владеет не только мыслью, но и чувством («Самое выражение чувств у дедушки было стильным» ), отличает и символистов, стремившихся с предельной полнотой соответствовать во всем той внутренней гармонии, которая открывалась их внутреннему слуху: «Это была внутренняя музыка исходившего от нее гипноза. Музыкальная душа многого в жизни не видит и потому во многом в жизни ошибается, потому что она всегда переживает состояние музыкального парения над жизнью. Но важно не то, что она видит, важно то, что она слышит, важна красота тех звуков, которые она приносит сюда из того высшего плана бытия, куда она поднимается»95. Картины символистов, действительно нужно слышать, пытаться объяснить их с последней достоверностью не возможно. Музыкальность живописного строя достигается индивидуальным для каждого художника подчерком. Таинственность завораживающих образов М. Врубеля, напряженное шептание сквозь сдавленный молчанием холст образов В. Борисова-Мусатова, стильных и вневременных, таких же одиноких как герои замкнутого и чуть пассивного К. Сомова, поэтическая меланхолия натюрмортов и парковых сценок Н. Сапунова, П. Кузнецова, П. Уткина и других символистов суть выражение глубоко интимных и, одновременно, симптоматичных в эпохальном смысле духовных поисков достоверного в земных границах идеала: «Согласно одному замечательному мифу Природа однажды любовно улыбнулась человеку, и он пришел из межзвездных сфер и, увидев в ее воде свое отражение, влюбился в него и пожелал снизойти к нему. Но Природа жадно заключила возлюбленного в свои влажные объятия <.. .> От этого человек стал смертен в любви природной, но
продолжает быть бессмертным в любви божественной. <...> Будем разуметь под символом то воплощение эстетического переживания, которое открывает ряд мистических потенций, восходящих к абсолюту. Принимая символ в этом смысле, мы поймем, что символизм есть ближайший путь для воплощения нашей любви к абсолютному началу»96. За всеми внешними проявлениями символизма в искусстве модерна, такими как склонность к декоративизму, эпатажу, цветам в петлицах и возле картинных рам, желтым башмакам, томному или нервному виду, стоит это особое понимание материи как одухотворенной субстанции, где плоть проникнута духом «до гроба, где сросшись вновь, как с корнем цвет родной, себе самим мы Сфинкс единый оба»97.
Сквозь обаятельную сферу классической Античности художники конца XVIII — начала XIX века ищут новых форм выразительности своим переживаниям и чувствованиям. С конца XVIII века выходит немало изданий, посвященных мифологии. Но при всех романтических переживаниях всегда ощущается дистанция, удаление от этого мира, может быть даже театральность, присущая мышлению этого времени: «Вселенная есть зрелище с прекраснейшими декорациями, где каждый действующий имеет свою роль и свое дело» . Романтизм эту позицию, конечно, во многом преодолевает, но все же не изживает до конца. Красивая поза, размашистый эффектный жест и тонко прорисованный, гармоничный внутреннему движению, порыву фон необходимы романтику. В определенной степени, чувство меры и точности в отношении с античным наследием спасало классицизм и романтизм при всей его эмоциональности от тех излишеств, которые сложными напластованиями оживут в символизме. В романтизме символ раскрывает художественное иносказание конкретным значением, внятным мысли и чувствам (например, знаменитый срезанный цветок в «Портрете Е.С. Авдулиной» О. Кипренского перекликается с символом
527 из «Избранныхэмблем и символов...»: «Хотя живу, но в слезах» ), в символизме символ мистифицируется, он воспринимается как «прикровенная» речь, «сверхчувственный опыт» (В. Иванов)100. В живописи Александровской эпохи нравственные нормы, дистанцирующие сознание от «языческого» художественного дара, срабатывали особенно ощутимо: «Вымышляйте с большею умеренностию инозначительные лица, чтоб не быть вам невразумительными. Предпочитайте сколько возможно истинные лица существам знаменательным (symbolique) <...> Инозначение редко бывает превосходно, но по большей части невразумительно. Но как художества не одарены словом, следственно им можно употреблять инозначения для общих действий или некоторых отвлечений»101. Таково академическое восприятие символа в конце XVIII - начале XIX века: символа как выразительного средства, раскрывающего смысловое значение. В искусстве конца XIX века усиливается стремление к усложнению, при котором намек выступает художественным эквивалентом музыкальной фразы, а музыкальность становится одной из главных характеристик символистского образа, выводя его за границы конкретного слова, ведь «музыка передает то, что слова не могут выразить» (Р. Вагнер). Однако музыкальные и поэтические мотивы, усиленно зазвучавшие в символизме, проявляли себя и в начале XIX века (что мы пытались показать выше), но воспринимались и интерпретировались иначе -расходясь и совпадая, ибо «человечество имеет свои постепенности, яко и все произведения нашего Шара» ". Романтиков вдохновлял образ видимый, логикой красоты и противоречий они наделяли внешний мир, в котором идеальную символическую структуру пространства воплощали сады. Сад воспринимается как идеальный фон для романтика. Само по себе садово-парковое искусство обладало большей свободой в вопросах понимания и интерпретации символов, чем живопись: «Снова и снова
взор встречает участки, которые, по-видимому, предоставлены воздействию стихийных сил»103. Пробудившийся в конце XVIII века интерес к английским садам, включавшим запасы, как старых символов, так и новых, приучал мыслить пространственно: «Устроители пейзажных парков стремятся одновременно к 2 противоположным идеалам: 1) создать ряд красивых панорам и 2) иметь в парке непрекрашенную природу» . Именно в садах и парках учились чувствовать мир более проникновенно и синтетично, подтверждений чему множество: «Человек может быть щастлив, если захочет приближиться к природе: с нею - в ея объятиях разрывается завеса, которая закрывала от глаз его все истинное, все изящное, все великое — и душа его озаряется новым светом... <.. .> Но какой стихотворец, какой живописец изобразит все прелести природы? Недостанет языка, недостанет воображения. — Ах! Умирающий Женевский Философ справедливо желал увидеть еще раз восходящее солнце!»105 Выработка символистских экзистенциальных ассоциаций начинается с поэтических, символически звучащих метафор -«перенесения от свойственного к несвойственному» . Ритм будней сливался с ритмом природы. Вот, например, как описывает свой образ жизни в Царицыно князь П. Шаликов: «День мой начинался и оканчивался прогулками. Поутру всегда бродил один; ввечеру всегда...с Грациями. Имею ли нужду рассказывать о приятностях летней вечерней прогулки в Английском саду, с Грациями? <.. > Жалею о холодном воображении, для которого надобно все описывать!.. <...> В уединенных прогулках я предавался мечтам - необходимым сердцу моему.. .и, без сомнения, сердцу каждого. <.. .> Праздненство самое простое принимает волшебный характер в садах Армидиных... Все пленяет, все разнеживает воображение»107. «Пиитический» тон проникает и в живопись видов садов, парков и усадеб. Неудивительно, что садово-парковое искусство, пробуждавшее воображение и чувства, повлияло на пейзажную живопись
в России, тем более что «память и воображение» считались главными источниками в сложении художественной формы: «Сии столь нежные орудия (частные чувства) не только способствуют к возбуждению в Душе всякого рода понятий, но притом они напечатлевают в ней еще припамятование. Понятие присутствующее в Памяти, существенно не различается от возбуждаемого предметом. <.. .> Искусство доказывает, что если какое-либо последствие понятий занимает мозг на известное время, то оный приобретает способность вновь сие же и в том же порядке производить»108. Известно, что Семен Щедрин, внесший лирическую струю «идиллической естественности»1 в русский пейзаж, по возвращении из-за границы (1776)110 «получил звание «назначенного» с определением его по ходатайству Г.И. Козлова преподавателем в Академию Художеств и назначением в Кабинет ее величества писать виды дворцов и парков»111. Первые виды художника, написанные в Царском селе, еще отличает статика и большая условность, но постепенно происходит выработка индивидуальной манеры, основанной на тонком проникновении в интонации природы, преодолевающей искусственность и декоративную безжизненность. Пейзажи с садово-парковыми мотивами стали своеобразными переводчиками академической, с итальянским прононсом речи предшественников Сем. Щедрина на собственный художественный язык. Стоит подчеркнуть, что картинность мышления и четкая, хотя и завуалированная романтической патетикой художественная логика прослеживаются даже в «стихийных романтических садах», где пространство складывается из отдельных художественных сцен-видов, организованных и связанных между собой объемно, а не плоскостно, как в регулярных садах. В конце XIX века мирискусники верно сумели уловить эти тонкие грани, направлявшие русло творческой и эмоциональной жизни их бабушек и дедушек, что выразилось как в их искусствоведческих опытах, так и в тех
пространственных нишах, которые они избирали для жизни своих живописных героев. Важно отметить, что если символистов первой волны «воспоминаний старых сила» окрыляла, помогая найти художественные образы в «Памяти прошлого» (используя название замечательного сборника, изданного В.А. Верещагиным в 1914 году) ~, то у московских художников «Голубой розы» эмоциональная фактура становится настолько тонкой, формообразующие элементы настолько безусловными и идеальными, стиль настолько погруженным в пространство Красоты, что даже прошлое рассматривается как нечто враждебное, телесное:
Все, что душа моя помянет, Теперь меня к земле и тянет113. Отсюда вытекают и известные жалобы на бесструктурность и невнятность языка московских символистов. Здесь же хочется подчеркнуть и ту разницу, несмотря на симпатию, которая существенно отличает понимание грезы и сна в романтизме и символизме тех же мирискусников. Если в романтизме эти переживания одухотворяют образ возвышенной символикой языка классического искусства, если в начале XIX века они выступают как интонации поэтического настроения в структуре образа, то в символизме мы должны говорить уже не о настроении, а о психологии. Поэтому и пространство сада, воспринимавшееся в XIX веке как широкий мир, в котором можно уединиться или наоборот попутешествовать по насыщенным образцами разных стилей парковым участкам (отсюда и увлечение готикой, китайщиной), в начале XX века стало глубоким духовным лабиринтом памяти, в котором, однако, бледнели не только призраки грусти, но и блуждали стрелы амура: «Друг мой, чистая случайность, или же влечение нежного чувства направило шаги Ваши именно к этой живой изгороди? Она укрыла маленького бога, имеющего неограниченную власть как на
Олимпе, так и на Земле и почитаемого всеми способными чувствовать существами. Его красивая мамаша только что закончила купанье. Он, видимо, удрал от нее и прячется здесь. «Не выдавай меня!» — кричат Вам его озорные глаза. Требуя от Вас молчания, он прижимает палец к своим
устам» .
Муза и ее земной отблеск - любовь - вечные спутники романтика, иллюзией творческого забвения преображающие равнодушное, как текучая вода, время:
О Пери! Улети со мною в небеса
В твою отчизну, где все негой веет,
Где тихо и светло, и времени коса
Пред цветом жизни цепенеет115. Эрмитажи, «пустыньки», анахоретские хижины, появившиеся в России при Петре I (Эрмитаж в Петергофе, Ораниенбауме, Летнем саду, Царском селе, Павловске), «крытые тенистые аллеи, чей мистический полумрак словно приглашает к размышлению», «Элизиумские рощи», «вызывающие сладкую истому приятной, умеренной температурой воздуха, которая здесь господствует в жаркие дни, волшебной освещенностью и бальзамическими запахами»116, питали пространство особыми интонациями благородной грусти, возвышенной любви и идиллической жизни, ведь чуткий романтик, несмотря на то, что постоянно сокрушаем тиранством «бури и натиска», проникновенно тоскует по улетучивающейся, как взрослеющая молодость, идиллии: «.. .мы укрылись бы в сие уединенное место, — и здесь бы с нашею любовью и верностию жили, и под сею тенью, при сих сребристых ручейках, восхищаясь пением сих пернатых, наслаждались бы живейшим
раем любви» .
Вдохновляющее уединение и камерная красота природы навевали в саду поэтические образы, которые впоследствии, в искусстве конца XIX века, воспринимаются символически: «Какая там тишина в сумраке сада. Прохлада веет там и аромат весны. Ты слышишь, как шелестят листы тополей? Или то вздох затаенный пронесся? То шепот мечты одинокой, сорвавшейся с губ. Стон тоскующей жизни. <...> Поцелуи майского солнца наполнили ароматом весенний разлив. Сегодня я слышал эти громкие поцелуи в белоснежных садах и в золотистых рощах. А, может быть, это чоканье восторженного соловья? Кому же лунный свет в березовой роще рассылает эти соловьиные поцелуи? Кому? Ароматам весенних цветов? В дремоте одинокому пруду? Не звезде ли полуночной, что так ярко блестит нам обоим в этот час вечерний? Нам, слитым душой
і і о
в бесконечном, и здесь разведенным судьбой?» . Нетленность и призрачность, явь присутствия и неуловимость его касаний главной темой проходят не только сквозь образный строй прозы и живописи В. Борисов-Мусатова, но выражают общее настроение времени, страстно любящего все платоническое, неосязаемое: «Если любовь и вообще романтическое в нас начало есть Чудо, в том смысле, что никакой механикой его не объяснишь и ни из каких логарифмов не выведешь, то невозможно усомниться, что это чудо не умирает со смертью нашего физического тела»"9. Не тоскливая и монотонная грусть была главной интонацией в символической образности композиции, а художественное обыгрывание скрытых внутри, как зерна, тем. Символизм, конечно, отнюдь не был Тарасконью, над которым можно было бы посмеяться словами А. Доде: «Всякого рода сентиментальный хлам всюду у нас давно пожелтел, покоясь в старых-престарых папках, зато в Тарасконе он вечно молод и вечно свеж»1" . Романтическое чувство проходило в искусстве модерна сквозь призму индивидуального видения, намекая через созвучные формы о полифонической сущности времени. «Призраки
полу-Девы», вносили в «райский сад красоты»121 не только возвышенные чувства, но, как следствие избыточного одухотворения формы, и чувственные (совсем не райские) настроения, что, впрочем, неудивительно, зная язык сада. Напряженное, терпкое, диссонирующее звучание художественных образов К. Сомова, создаваемое интенсивным колоритом и странной призрачной стаффажностью героев, овеваемых не всегда понятными импульсами действия, начинает говорить на более открытом языке, если вспомнить, что пространство сада, особенно разбитое во французском стиле, всегда имело иносказательные обороты, выражавшие непростую природу любви. Мы уже отчасти касались темы «приапического пространства» в саду, которая напрямую связывается с вакхическими интонациями в искусстве Серебряного века:
Стыдишься деточка, ты потому,
Что родилась вчера и мало знаешь.
Цветок же этот весь отравлен соком
Любовных вожделений и зовется
Любви неутолимой Алоцветом " .
«Охранитель садов», «гроза врагов и птиц», порождение рода сатиров - Приап, культ которого в элинистическом мире появляется в III в. до Р.Х., не был оставлен без внимания интересами поэтов и художников Серебряного века, впрочем, как и романтиками. Сборник стихотворений «Priapea», хранящийся в РГАЛИ, содержит неожиданные ракурсы понимания темы садовой любви с интригой Королевских островов и Античных залов (вспомним Версаль):
При тебе, Приап, я писал шутливо Все стихи мои, что достойны сада, Но отнюдь не книг по своей отделке123.
Хотя переводы были сделаны Д. Дементьевым, С. Шервинским, В. Парским и др. в 1920-е годы, представляется, что они являются естественным продолжением интересов, волновавших символистов. Примечательно и то, что они соседствуют с латинскими стихотворениями 1-го Возрождения (VIII-IX веков при дворе Академии Карла Великого), посвященными переплетающимся темам любви, сельской жизни, садов и цветов (например: Седулий Скотт «Словопрение розы и лилии», Валахирд Страбон «Об уходе за садами» или «Бдение в честь Венеры»):
Полюби, любивший, завтра! Нелюбивший, полюби!
Пестрый сад она одела в самоцветные цветы.
Села чувствуют Венеру, наполняет села страсть;
Сам Амор, Дианы мальчик, в селах, говорят, рожден.
Луг, когда она родилась, в лоно воспринял его.
Нежными он был воспитан поцелуями цветов1"*. Фарфоровые герои-куклы, отмеченные мертвенной бледностью (как у К. Сомова) или игривой легкомысленностью (у Н. Сапунова и С. Судейкина), в символизме таили в себе, как маски, двойное лицо Венер и амурчиков, которые в романтизме воспринимались более отстраненно и поэтически. Тема любви, как и другие темы - прошлого, мечты, идеального пространства сада, грусти - расширила в символизме диапазон своих значений, «заварив волшебство, растворяющее границы». Но стоило ли их переходить, ведь напряжение всегда чревато срывами?
Постепенные модуляции и трансформации символов, эмблем, идеалов и чувств привели к тому, что символизм в России был подготовлен изнутри. Многое беря из прошлого разных эпох по части выразительности форм и родственности переживаний, искусство модерна развивает кочующее романтическое чувство до символистского
напряжения, наполняющего знаки более разветвленными параллелями, воскрешающими и прячущими черты мертвого былого за сложными смещениями живого и ускользающего, как время, образа современности:
Времена толкуют с временами.
Будет скрыто многое и впредь,
Чтобы наши завтрашние дали
Мы в себе сегодня обретали " . Через современность перешагивают, ища свое идеальное пространство, расширяющее временные границы и закрывающее вход естественной жизни, на которую смотрят как на устойчивый садовый горизонт, который всегда при желании можно приблизить или отодвинуть. Но в действительности, такой ли он устойчивый? Романтиков и символистов факты не убеждают, поэтому чаще всего они их преодолевают: «Если иллюзии приносят пользу, зачем пренебрегать иллюзиями?» " .
Все вышеизложенное было призвано в определенном ракурсе приоткрыть взгляд на сложную диалектику развития символизма в России на примере конкретного садово-паркового мотива, осмысливавшегося на протяжении XVIII—XIX веков теоретически, поэтически и художественно, и превратившегося в самостоятельный емкий пространственный и временной символ русского изобразительного искусства конца XIX - начала XX века.
Дуальные начала - крайний индивидуализм и фатальность, мечта и тоска, любовь к иллюзорному и неизбежные в этой связи искажения, культ красоты и болезненность — имели непосредственную общность друг с другом, и толкали художников на поиск собственных ниш в реальном пространстве, избавляющих от «раздражающего воздействия мира физического». Однако там, где романтизм еще воодушевлялся
пафосом восхождения, проявляя порой чувствительность и боязнь порока, там символизм хранил скептическую улыбку «знатока», для которого очевидна тщетность движения к овладению смыслом неведомой ясности. Если пылкий романтик еще был способен поражаться и волноваться многообразием мира, то символист с высоты виртуозно развившейся интуиции воспринимал ее как неизбежность, прорывая картинное поле глубиной бесконечных параллелей. Непостижимость явила себя языком символа, множащего ассоциации, объединяющего вечность и современность, повисающую над ее тайной. Но хотя различия в понимании значения символа романтизмом и символизмом еще велики, очевидно, что и у романтиков, и у символистов, воспитанных в рамках их ценностей, имеется общий корень - свобода воображения, преодолевающего границы внешней природы концентрацией внимания на внутренней субстанции явления. Романтический культ «непонятой души» вылился в символизме в культ непонятности, как главной и сокровенной характеристики сущности. То, что романтики увидели с начала, открылось символистам с конца. Отсутствие боязни духовного мира, четкое осознание связи с ним, привело к тому, что уже в раннем романтизме появилась насыщенная яркими красками символика потустороннего. Именно от романтика символист унаследовал восприимчивость, способность к диалогу с миром вещей, проникновение в прошлое разных эпох и даже само чувство близости к таинственному миру призраков, на который они ориентировали свою модель поведения: «Преследуемый самыми странными фигурами, чудесными созданиями, возникшими перед ним на грани смерти и жизни, он шел среди очарований грезы. Усомнившись, наконец, в собственном своем существовании, он сам уподобился этим диковинным предметам, как будто став не вполне умершим и не вполне живым» . Романтик и символист раздвигают тесный горизонт реальности, уходя в творческое
пространство, насыщенное либо буйством стихий (море, горы), либо уединением парковых и кладбищенских троп, часто посещавшихся с целью поиска творческой тишины и откровения, мешающего сердечную печаль по призрачному с напоминаниями о реальных утратах:
Когда зазвучит архангельская труба,
И души соединяться с телом,
Тысячи увидят себя восставшими в пределах того
пространства,
1 ^О
Которое также невелико, как земля, хранящая их ~ . Таким образом, тяга перемещения во времени и пространстве, подмешивающая к палитре символистских образов многослойные ассоциации исторического и поэтического плана принципиально не выразимые литературными транскрипциями, имела романтическую наследственность. В русском изобразительном искусстве эпохи модерна неприкаянность, скитальчество, отрешение от действительности вылились в любовь к садово-парковому пейзажу как фону и герою одновременно.
В смысловом значении, сады - та же иллюзия, уводящая от обычной жизни, поднимающая сознание на уровень душевных переживаний: «Вы нигде не найдете более приятного способа энервировать ваш дух, забыть о вашем мужестве под розовым кустом...»129. В конструктивном, техническом плане, сады — искусственная, комбинированная композиция, ставящая перед художником проблему отражения искусства в искусстве. Внутри сочиненного, «композитного» пейзажа, основывающегося на мотиве садово-паркового пространства, М. Якунчикова, К. Сомов, В. Борисов-Мусатов, П. Кузнецов, П. Уткин развивают сложные почти бессюжетные грезы-воспоминания о минувшем или будущем веке. Перед нами романтическая инсценировка, но уже с нетеатральной верой в нее.
В этом пространстве исчезает категория обычности. Повседневность переориентируется на вечность. Любая мелкая подробность обращается в поэтический намек, таинственный смысл, волшебную кожу символа, скрывающего призрак своего неуравновешенного предка — романтика, ведь почти любой бы символист подписался под словами Сен-Бева: «Романтики живут в воображении, как рыбы в воде, и боятся действительности, как рыба - суши. Она их стесняет, потому что ограничивает их, подавляет, отталкивает и давит <.. .> Их призвание, предназначение и присущее им свойство - отклонять истину <.. .> Романтизм есть призыв к свободе грезы и восстание против
реального» .
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Символическая реальность предромантического и раннего
романтического пейзажа. Образы садов и парков в творчестве
художников конца XVIII - начала XIX века
...этот беззвучный пейзаж,
весь этот пейзаж, осененный
пасмурной или ясной судьбой, тебе
предшествовал...
P.M. Рильке. Дуинские элегии.
Провести четкую границу между пониманием художественного образа как иллюзорной реальности и осознанной условности - задача не из легких в отношении любого течения: одно не исключает другого. Не помогают здесь и яркие приманки названий в виде теоретических ярлычков — сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Художественная форма акцентирует грани, определяющие стиль, дает образу тот или иной язык, раскрывающий оттенки неповторимого переживания времени, показывающегося в свете духовных и материальных условий эпохи. Но внутренняя жизнь почти всегда течет по территории смежных чувств, давая неожиданные параллели и совпадения в рамках разных стилей и питающих их направлений. «Скромное путешествие сердца в поисках Природы» способно открыть такие новые горизонты, что перспектива для движения будет казаться бесконечной, по крайней мере, в течение столетия или двух. Процесс воспитания чувств, начавшийся еще в XVIII веке призывами возврата к Природе, естественности, поэзии чистоты обернулся порывами к чистой поэзии, романтической свободе и, наконец -чистому искусству, одухотворенному символической верой в достижимое через художественный язык земное совершенство?
Колебание переживаний - таков неуравновешенный характер душевной жизни Нового времени, сложение которого в европейском искусстве велось тысячелетиями, периодами превозмогая чувственность экзальтацией религиозного, мистического или философского учения, а в России, хранившей верность христианским традициям и развивавшей искусство в церковном русле, получившему возможность проявить себя в атмосфере петровских и послепетровских реформ.
Русский пейзаж второй половины XVIII века переживает переходную стадию. В нем проявляются первые попытки трансформации окружающей действительности в духе захватывающей чувства иллюзии, имеющей своей целью не поучение и назидание, не историческое прославление и учебно-театральную демонстрацию, а художественное впечатление, чувство. В пейзажную живопись проторомантическая волна хлынула из области садово-паркового искусства. Написанный по академическим канонам художественный вид отражал символическое пространство, насыщенное многочисленными знаками, напоминаниями, неожиданными измерениями, в идеале дарящими гуляющему мечтателю кусочек пуссеновской или лорреновской Аркадии, влекущей в свою идеальную даль. Принцип формирования английских садов, несущий в себе утопическую иллюзию присутствия далеких обетованных стран внутри одного паркового пространства, развивал в художниках свободное чувство ассоциаций, открывающих возможность движения как внутреннего, так и внешнего. С одной стороны, пейзажисты фиксировали наиболее выразительные точки, открывающие вид. С другой, передавали вызываемые этим видом чувства.
В период сентиментализма, рассматриваемого как начальная стадия предромантизма, человек внутренне был еще крепко привязан к земле, к видимым границам. Избирая для сюжетов картин сады и парки, художники следовали старым законам, подчеркивавшим формообразующий стержень архитектуры, призванной «воображать и создавать прекрасную
действительность, в которой нам отказала природа» ". Но в то же время, давали возможность проявиться новым тенденциям, открывая в живописи проблематику творческого отражения современного им ландшафта, на ту пору сконструированного символически. В конце XVIII века в русском искусстве начинает формироваться более доверительный подход к пониманию образа как второй реальности, воплощающей мечту в пределах настоящего. Эта художественная категория на Руси всегда приравнивалась к знаку, символу чего-либо - «се есть мнишьскыи коуколь»133. Образ -мнимость, видимость пероисточника, по природе своей таящая конфликт, ибо «не подобает глаголяще небесных и невидимых образов на земле видимо образовати»1 . В конце XVIII — начале XIX века художники находятся под влиянием традиции, но внимание к поэтическим проявлениям настроения в Природе и внешнем мире постепенно накладывает на формы искусства неуловимые романтические оттенки. В пейзаже такие тенденции получили возможность развития благодаря тому строю Натуры, который привлекался в качестве предмета изображения — садово-парковым видам в английском духе, вносившем в понимание художественного звучания образа интонации свободы и мечты. Отражая то, что зримо видимо в саду или парке, пейзажисты конца XVIII - начала XIX века включали внутреннюю иконографию ансамбля в свои композиции, наполнявшиеся через изображаемые символы состояниями высоких переживаний, хранивших отблеск небесной чистоты — воспоминаниями, надеждами, победами, разлуками — переживаниями далекими от обыденности, возносившими душу к потерянному Эдему: «Очень характерно для XVII и XVIII веков — это напряженное стремление людей водворить хоть для некоторых своих
~ 135
представителей истинный рай на земле» .
«Неформальные» английские парки, обладавшие сложной семантической программой и апеллирующие к чувствам, имели самую непосредственную связь с развитием проторомантического и романтического
пейзажа в русской живописи и в силу насущной потребности: конкретным заказом общества (императорской семьи или знатных вельмож) «снимать» художественные виды имений. Мода на «природные ландшафты» принесла плоды не только в области паркового зодчества (Павловск, Гатчина, другие резиденции и усадьбы), но поставила новые задачи перед художниками-пейзажистами, дав начало поиску адекватных конкретной парковой реальности живописных средств. Историческая ценность гравюрных листов А.Ф. Зубова, перспективных планов П.А. де Сент-Илера, рисунков М.И. Махаева и др. неоспорима. Однако, образ природы выступает у них, прежде всего, как устойчивая архитектурная композиция, логическая задача, решаемая с математической точностью и холодным расчетом ученого-рисовальщика. Начиная со второй половины XVIII века, несмотря на то, что задачи по существу остаются теми же — сохранить в истории с помощью изобразительных средств изменяющийся образ живого организма парка -отношение к предмету меняется.
Интересно, что в английском изобразительном искусстве новый образный тип, который будет встречаться в русской живописи не только конца XVIII века, но и первой половины XIX века, стал проявляться почти на столетие раньше. Объясняется это вполне определенными причинами. С конца XVII века в Англии начинает формироваться та внутренняя реальность «неформального садово-паркового» стиля, которая преодолевала скованность повсеместно господствовавших «французских» правил свободой
136 /^ -
организации пространства и мышления . Существовавшее в английской живописи направление, изображающее «оленьи парки», предшествовавшие пейзажным, несет черты сходства с работами русских усадебных художников, по преимуществу дилетантов: условность манеры отмечена романтически-идиллическим видением и сдержанной доморощенностью. Для наглядности можно сравнить, например: «Ламник в Архангельском», предположительно написанный П.А. Шестаковым в первой половине XIX
века, и «олений парк» лорда Беркли, исполненный Якобом Смитом в 1689 году (Jacob Scmits. A view of an End or Secondary Front of Lord Berkeley's New House. The Durdans, Surrey). Большой коллекцией неатрибуированного изобразительного материала с видами частных усадеб обладает Государственный Эрмитаж. Эти работы отличаются невысоким профессиональным уровнем (потемневший красочный слой, условность и косность композиционного построения, наивность в выражении чувств), тем не менее, они позволяют проникнуть в атмосферу неявной для истории художественной жизни, которая была питающей духовной повседневностью России XIX века . Оставлять их без внимания, как это происходит в настоящее время, представляется несправедливым. Определенные композиционные и настроенческие параллели можно усмотреть и на уровне профессионального творчества у Семена Щедрина и ряда английских пейзажистов середины XVIII века, например - Лукаса Саливана.
К живописному полотну на садово-парковый мотив предъявлялись требования двух категорий: ясность, четкость, узнаваемость вида и, в тоже время, лирическое настроение, гармоничность образа, смягченного чувством:
Иль в стекла оптики картинные места
Смотрю моих усадьб; на свитках грады, царства,
Моря, леса, - лежит вся мира красота
В глазах, искусств через коварства . Диалог с природой внутри условной реальности паркового пространства, сотворенного по законам искусства, давал художникам-пейзажистам некую «силу наведения»13 на музыкальный мечтательный лад. Реальность сада несла на себе конструкцию художественного идеала, высвечиваемого патетическими оттенками переживаемых во время прогулок чувств и раздумий:
Мы счастливы — в мечтах; несчастны - в самом деле;
Печаль — существенность, а радость — призрак, сон;
Закон, начертанный для каждого в уделе,
И каждому известен он!1'0 Почему же именно английский садово-парковый стиль оказал большее воздействие на развитие романтического направления в живописи, чем французский, образы которого в изобразительном искусстве начала XIX века и, тем более конца, тоже очень часто предстают в поэтическом свете? Парки в английском духе ориентировались на живописный эффект, заставляя выразительно работать тени и свет в синтезе с пластической лепкой неподстриженных по трафарету деревьев и расширяющих пейзажную картину в глубину озерных и речных источников. Французский стиль исходил из архитектурной концепции пространства. Соответственно и перед художниками XVIII века задача ясного «перспективного» изображения парка в виде четко читаемого образа-плана была главной. Английский стиль отталкивался от свободной игры фантазии, тщательно скрывающей элементы продуманности и конструктивности. Постепенное раскрытие пространства толкало на поиск тайн: «Для яснейшего усмотрения, сколь далеко строитель сада отдален от архитектора, и сколь мало оба они по одним правилам и законам работать могут, нужно только заметить то, что тот упражняется в украшении горизонталей, а сей вертикальных плоскостей. Архитектор хочет вдруг утешить зрение, и одним разом дать ему обнять все гармоническое расположение своей работы; а устроитель сада... должен план свой стараться скрывать, в расположениях своих производить некое приятное запутание вещей и оставлять неровности и нерегулярные случайности...»141. Постепенно распространявшаяся мода на «живописные парки», словно «духовитые травы», разнеживала сердца и переносила романтические оттенки видения даже в «симметрические мастеренья и скуку» французских садиков. Ярким примером этой трактовки, наложенной на реалистические
основы видения, могут служить работы А.И. Штакеншнейдера (например, «Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Сергиевка. Вид в сторону залива» 1840-е годы.) или В. Садовникова; а на символические — акварели и живопись А. Бенуа и К. Сомова.
Именно в тенях «неформальных парков», которые вдруг стали неотъемлемым спутником всего подлинно возвышенного и живого, в этом наделении образа внутренней и внешней глубиной, в преодолении (хотя еще и робком) искусственного равновесия открылась та способность, которая будет властно, даже гибельно, влечь романтические натуры (особенно в символизме) — способность оживлять - палингенезия на языке XVIII—XIX веков - оживлять то, что молчит; и требовать от реальности того, чего, может быть, в ней и нет: «Истинно, что люди больше занимаются будущим и прошедшим, чем настоящим» .
Одним из главных художественных эффектов садов, разбитых в английском стиле, было впечатление живописности, пластичности, духовной емкости форм, эмоциональности, на развитие которой имела влияние не архитектура, и даже не поэзия, а живопись, ибо «...живопись более стихотворства имеет силы над людьми, потому что она действует посредством чувства зрения, которое больше других чувств имеет власти над душею нашею» . Изобразительное искусство изначально находилось в средокрестии проблематики «пейзажных» парков. Роль картины вообще велика в истории английского садово-паркового стиля. Как он сам повлиял на развитие особого направления в изобразительном искусстве конца XVIII века, так и испытал воздействие живописи в самых истоках своего формирования.
На композиционном уровне английский садово-парковый стиль связан с идеализированным классицистическим пейзажем Н. Пуссена и К. Лоррена, что выразилось в замкнутости и картинности планов. На внутреннее состояние образа большое влияние оказало поэтически-меланхоличное
настроение, рождаемое живописными руинами Г. Роббера. Конечно, содержание парков содержанием полотен далеко не исчерпывалось: «Художники могут подражать Природе, но Природа не может подражать художникам», — писал Г. Ремптон. Несовпадение смыслов происходит из-за разницы восприятия. Строгие образы классицистических полотен, воплощаясь в открытом парковом пространстве, развивали сентиментально-романтические переживания, которые в свою очередь влияли на характер живописи, изображавшей вновь разбиваемые ансамбли. Художники, воспитанные на академических образцах французского, голландского и итальянского пейзажа, реально оказываясь внутри парковой природы, попадали в мир более свободных иллюзий, развивавших поэтическое и философское воображение. Условная природа реального парка, одухотворенного романтической пластикой естественно изгибающихся форм, оказалась вполне приемлемой для артистических вкусов в рамках академических требований, так как не стоит забывать, что в теоретическом плане, несмотря на все мнимости, «неформальные» парки — та же конструкция, хотя и обладающая новым ощущением масштаба.
Именно свобода масштаба создавала иллюзию бесконечности, таящей «дальновидности и неизмеримости». Эта тяга к неоглядности, видимой несдерживаемости пространства импонировала русскому характеру даже в силу географических условий - огромности территорий - и способствовала популярности «пейзажных» парков: «Для чего бы не превращать целые поля в некоторый род садов чрез многую посадку деревьев?» ' В России теория английских парков, послужившая реальным импульсом развития новых эстетических принципов в понимании художественного образа, стала распространяться с 1760-х годов. Пространственные масштабные картины, включающие нетронутые рощи и перелески, влияли на развитие тяги к чему-то неопределенно поэтичному, пробуждающему стремление к движению, стремление к тем взволнованным переживаниям, которые со временем
вылились во внутреннюю тревогу, романтическое беспокойство, маяту постоянного кочевья.
Конечно, сами пейзажные парки начала XIX века воплощали идеал гармонии и спокойствия, слагавшийся в масштабе большого пространства, а художники боялись пересекать лаконичную границу между хаосом и искусственной свободой. Интересно, что в России это ощущение духовной ценности гармонии и соразмерности повлияло на особенности организации приусадебных помещичьих парков и садов. А. Болотов писал: «Человеческий дух не всегда, а только редко может оставаться в надлежащих пределах. Приметили, что местам, лежащим подле самого дома, приличнее иметь более порядка и регулярства, нежели отдаленным...»145. Мысль эта отражается в том, что, как правило, разбивка сада около барского дома несла на себе черты формального плана в духе французского или голландского стиля, а затем переходила во все более и более свободный ландшафт.
Чистота внутреннего строя, пространственная гармония без навязчивой симметрии, поэтические переживания без несуразной расплывчатости -существенные для периода раннего романтизма характеристики. Волшебный круг пейзажного пространства ориентировался на покой и тишину. Не случайно в саду ставились стульчики и скамейки, а они, как гласят «Эмблематы»: «Бесполезны для прохаживающегося. Не нужны тому, кто не покоится»146. Однако, созерцанию и наблюдению не противоречило движение: романтик всегда на ногах - в прямом и переносном смысле. Именно такими предстают персонажи Сем. Щедрина, Г. Сергеева, А. Мартынова, С. Галактионова и др. Движение, порыв - устойчивые характеристики романтика, проявившиеся уже в период сентиментализма. Его мысли и сердце далеки от реальности, в которой он находится. Если мечтатель и погружен в созерцательные глубины размышления где-нибудь на скамейке в укромном уголке сада, он, как правило, одержим внутренним
движением чувства и находится во власти духовного странствия по волнам прошлого или будущего:
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленьи, вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена147. В реальном путешествии по парку, в ходьбе по его завораживающим местам, хранящим не только камни, но и высокие урны, кружащие ротонды, классические портики, совершалось не мало открытий. Это свойство несло на себе отпечаток сознания европейца нового времени: «Прогулка не происходит от одной надобности движения; она бы скоро прискучила, если бы токмо состояла в перешагивании известного пространства земли. Для соделания ее приятной надлежит присоединить к ней удовольствия размышления.. .<...> Турки, будучи от природы задумчивы, препроводят по целым дням в садах своих, сидя на одном месте. Мятежные же и резвые люди, которые нигде не могут быть покойны прохаживаются часто и скоро» . Благодаря полотнам пейзажистов предромантизма и раннего романтизма, писавших виды садов и парков, в которых отражена модель поведения в них людей, мы можем наглядно удостовериться в том, что восприятие природы и жизни в России конца XVIII века развивалось вполне в русле общеевропейских ценностей. Персонажи Сем. Щедрина, Г. Молчанова, А. Мартынова и С. Галактионова, сопровождаемые длинными хвостами шлейфов платьев или шлиц камзолов, чаще всего гуляют, демонстрируя друг другу восхитительные картины: «Сельские Нимфы ходят по саду группами, поют веселые романсы свои и летают на качелях, поставленных в густой аллее. - Я гуляю со своим обществом; катаюсь с Грациями в легкой гондоле, пою гимны наслаждению — мысленно, и угадываю таинство земного блаженства...вхожу душою во святилище
его» . Стаффажные фигурки посетителей сада помогали выразительнее и занимательнее организовать композицию полотна, призванного, вовлекая зрителя, подчеркнуть красоту открывающихся композиций, что было главной целью ландшафтных портретистов, писавших императорские резиденции -Гатчину, Павловск, Царское Село, Петергоф - или богатые имения знатных вельмож.
Картинность мышления, растянутая на широту возделываемого пространства, рождала любопытные сюжеты, но все же главной фабульной линией садово-парковых образов была Гармония — влекущее сентиментально настроенного романтика состояние. Пространство перехаживалось вспять и поперек, диагонально и прямо — лишь бы искать и видеть — видеть то, что внутри. Для периода предромантизма - внутри Гармония. «Что приятнее поражает вид дитяти, что более его восхищает, как не нежная зелень, или блеск прекрасного неба? С каким восторгом он пробегает луга и лучистые дорожки леса, как скоро силы ему позволяют!» , - подобные восторженные излияния не случайно сопровождали первые удары романтических порывов, раздававшиеся в чутких сердцах сентиментальных практиков. Благоразумие и переживания, нравственные запреты и художественная свобода, историзм и живописное воображение органично наполняли собой восприятие человека начала XIX века, еще не вызывая того конфликта, который проложит болезненную черту раздвоенности в ощущении внешней и внутренней реальности на более позднем этапе у романтиков, а затем символистов.
С одной стороны, сады выступали подлинной декорацией, способствующей идеализации натуры. Отсюда большая художественная роль садово-парковых фонов в портрете, в частности у В. Боровиковского и О. Кипренского. С другой - умелой инсценировкой «как бы» свободной стихии, изначально хранящей в себе зерна божественного начала: «...из всех человеческих упражнений, не возносящихся непосредственно к Богу и правде, самое беспорочное есть, поселянство и земледелие. Оно было
забавою первого человека, праведного еще и верного. Оно ж стало потом частию покаяния, наложенного ему от Бога. Итак, в обоє время, то есть безгрешия и греха, оно ему повеленное, и самому, и в нем потомкам»151. Воплощая идеальные формы, художники ориентировались на прекрасные образцы и старались избегать всего, что противообразит («противоречит») Гармонии: «Только к отдыху, к любви, к тихому созиданию себя, душа чувствует влечение, на все взглядывая с любовью. И я хожу по долине, по горам, ручьям, за каждым благодетельным, за каждым разрушительным лучом. За каждым легким изменением слежу я с тихим вниманием, за каждым ростком и умиранием, за каждым увяданием и расцветом. С блаженством учусь я наблюдать, как во всем творении дух и мир сливаются в гармоническое единство» 2.
Но не только высшие идеи, облеченные в классические формы, влияли на характер полотна. Уделяется внимание состоянию образа: «Природа говорит только с тем, у кого чувства тоньше; только тому слышен глас ее. В таинства проникает только тот, кто умеет изощрять свое око, чтобы видеть то, чего обыкновенный человек не видит. <...> Та сила души, которая может впоследствии осветить эти тусклые предметы, есть сила воображения»153. Чувства, как известно, инструмент легко расстраиваемый: неуловимое напряжение — и струна сорвана. От раннего романтизма с идеалом Единства не так далеко до культа глубочайших страстей, для выражения которых «способнее и легче находить симболические признаки, приличные эмблематическим фигурам» . Нарастание романтических настроений шло постепенно, и прежде, чем достигнуть кульминации, им пришлось пройти начальную стадию сентиментализма, который, зачастую, очень сложно отделить от раннего романтизма. Важной теоретической проблемой из истории взаимоотношений романтизма не только с направлениями, но и стилями является тот факт, что романтический лексикон переживаний
пейзажного мотива в живописи и садово-парковом искусстве начал развиваться внутри классицизма, захватив даже период позднего барокко.
Хотя романтизм по своим бунтарским устремлениям и вступает в противоречие с художественными нормами классицизма, однако внутри мировоззренческих ориентиров стиля скрывались серьезные основания для зарождения романтических настроений на почве возвышенных переживаний, склонности к неограниченной внутренней идеализации. Культ естественности, созданной по правилам, был реакцией на высокие требования идеальных форм, своими совершенными пропорциями производивших эффект подлинности: «Вы хотите показать прекрасное, которое всегда нравится? Выбирайте самые прекрасные сочетания в природе и подражайте им»155. Романтические настроения через сентиментализм чувственно обживали классицизм, несущий в своих высших стадиях основания для глубоких и конфликтных (в контексте действительной жизни) переживаний. Высокий уровень классицистических требований не мог не толкнуть воображение художников в пространство мечты, тем более действенное, когда архитектурно оно воплощено в реальной модели парка. Пространство, обладающее местным колоритом, своеобразными оттенками, а самое главное - реальной протяженностью и горизонтом, внушало гуляющему, попеременно попадавшему в разные объемные картины, «чувствительное» представление о действительности, внушало мысли о свободе и стихиях; пробуждало гибкие поэтические переклички, повисавшие на реальных знаках-символах художественной местности. Романтизм в русской пейзажной живописи постепенно рождался из насущной необходимости вдохновенного отображения поэтической действительности усадебного парка, заставлявшей и художника говорить метафорически, ибо
~ 156
«чувства суть основания соответствии» , а «художник, если следует поэту, должен сам на ту пору быть поэтом, а в противном случае, пусть разборчиво избирает себе предметы из самой истории»157.
Однако, условности и высокие нормы стиля влияли и на особенности романтических образов живописи. Отпечаток господствовавших принципов классицизма несет на себе менее индивидуально выраженное отношение к садово-парковому мотиву художников конца XVIII века в отличии от конца XIX века. При общей тяге художников к синтезу декоративности и натурности, символистской трактовке присущи многообразие, большая доля субъективизма, а предромантической и романтической - единообразие. Значительным условием для такой характеристики садово-парковых видов периода сентиментализма и раннего романтизма было стремление художников следовать общепринятым правилам построения композиционной речи полотна: тяготение к замкнутым планам, строящимся с учетом ориентации на классическую трехуровневую схему, благодаря чему взгляд зрителя логически следовал за раскрывающимися регистрами сцены. Символисты в образы садов и парков вкладывали каждый свое переживание не только настоящего, но, прежде всего, прошлого; а русские пейзажисты конца XVIII—XIX века стремились выразить типичное, современное им восприятие садово-паркового пространства. Однако, несмотря на более медленное изменение форм изобразительного языка, этот процесс имел свое движение.
Большую роль в развитии художественной интерпретации садово-паркового мотива сыграли внешние условия существования пейзажной живописи в социально-культурной жизни общества: «ландшафтный класс» Академии Художеств и работа художников в «Кабинете ее Императорского Величества». Оба этих поприща, так или иначе, были связаны с именем Семена Федоровича Щедрина (1745-1804) - художником, заложившим основание для развития романтических тенденций в русском пейзаже. Именно в его «ландшафтной живописи» на садово-парковые мотивы начинается постепенное преодоление костной оболочки построения образа по правилам, без ориентации на внутреннее настроение изображаемого
предмета. Подражая тому, что было выражено в пространстве «пейзажных парков», Семену Щедрину удалось создать самодостаточные живописные образы, декоративные и естественные, смотря на которые можно вспомнить слова П.-Г. Гонзаго о методе влияния живописи на восприятие: «Не лучше ли успешно действовать на чувства, чем пытаться неопределенно и безуспешно действовать на дух?»159.
В условиях конкретной исторической действительности, формировавшейся жизнью в рамках Академии Художеств, особое положение и задачи «ландшафтников» закрепились в официальном разделении 1767 года «живописного класса» на два — перспективный и ландшафтный160. Однако, писание садовых видов не являлось исключительной монополией ландшафтного класса. Многое зависело от интерпретации образа. Пейзажи с парковыми мотивами относили и «к проспекту», если главным в них было отражение структурного плана ансамбля. «Перспективисты» середины XVIII - начала XIX века продолжали развивать те принципы, которые были важны в гравюрах предыдущих периодов — конструктивно-планировочные, архитектурные. «Ландшафтники» с большим вниманием относились к настроению, к тем интонациям, которые отличали характер образов из «рода» «развалин зданий». Живопись руин в духе Г. Робера, культивирующая вдохновляющий импульс памяти и очарования грустного свойства, была очень популярна в России. Лиризм и поэтичность вполне естественно находили себе место на почве идеального пространства полузабытых руин. В некоторых руководствах по ландшафтной живописи художникам советовалось намеренно избегать «излишней точности», дабы не отнять у видов «приятности», дать лучше почувствовать впечатление от них: «верные виды нравятся только обладателям оных или кому они напоминают что-нибудь любезное»161. Ландшафтная живопись избирала источником своих сюжетов сельскую природу, садово-парковые ансамбли; а само слово «ландшафт» (paysage) происходило «от слова земля (pays); это есть
подражание какому-нибудь деревенскому виду; то, чему подражают, называется видами (vues)» ". Укреплению русла поэтического настроения в ландшафтных образах способствовал гравировально-ландшафтный класс, открытый в 1799 году по инициативе Семена Щедрина и возглавленный им же. Столкновение с действительностью садово-парковых видов дало непосредственный импульс для развития романтического чувства не только самому художнику, в 1776 году получившему должность назначенного в «Кабинет ея Рїмператорского Величества» писать «портреты» резиденций, но и ряду его учеников, живописцев и граверов, таких как: А. Мартынов, В. Причетников, Я. Филимонов, С. Галактионов и др. Уже современники Сем. Щедрина отдавали дань как его ведущему положению в Академии Художеств, так и значительному вкладу в развитие садово-паркового мотива. П. Чекалевский подробно перечисляет круг пейзажных образов мастера: «Господин Советник Академии и живописец Кабинета Ея Императорского Величества Семену Федоровичу Щедрину, произведения которого состоят в разных видах Сарского Села и Павловского, кои находятся в императорском Гермитаже и у их Императорских высочеств; между картинами же его у многих частных людей заслуживают примечания представляющие разные виды Аглинских садов в селе Сиворицах Господина Коллежского Советника Петра Григорьевича Демидова и в Селе Таицах Господина Коллежского Советника Александра Григорьевича Демидова; им же расписаны al Fresco
1 /і')
стены в загородном доме покойного графа Якова Александровича Брюса» . В настоящее время лучшие пейзажные картины русских художников XVIII-XIX веков из собрания Эрмитажа были переданы в Русский Государственный Музей. Так же работы художника можно увидеть в ГТГ, Гатчине и Павловске.
Не вдаваясь в перипетии биографии художника, стоит отметить, что после возвращения из-за границы, где он провел в общей сложности 9 лет
(1767—1776), в жизни Семена Щедрина произошло знаковое назначение в Кабинет Ея Величества писать виды императорских резиденций.
«Кабинет Ея императорского величества о садах и строениях», к которому был прикреплен Сем. Щедрин и другие художники, писавшие виды императорских садово-парковых ансамблей, возник на базе «Канцелярии от строений», образованной Петром І в 1723 году. Первоначально в ее ведении находились все дела, связанные со строительством резиденций в столице и ее окрестностях — Петергоф, Стрельня, Царское Село; а также в крепостях -Крондштадте и Шлиссельбурге. В 1732 году произошло разделение на ведомства. Загородные дворцы и императорские резиденции были переданы «Дворцовому ведомству», но в 1737 году вновь восстановили «Канцелярию от строений». Параллельно с «Канцелярией от строений» существовала «Архитектурная экспедиция», в учебном плане которой указывалось на необходимость каникулярного посещения архитекторами и художниками загородных резиденций - Петергофа, Стрельни и др. - с целью рисования. Скорее всего, здесь имел развитие документальный подход в «перспективистском» духе. Для живописцев, приписанных к возникшему на базе «Канцелярии» «Кабинету от строений», вероятно, главным было требование художественной выразительности, адекватной романтическому настроению садово-паркового образа '.
Безусловно, относить Сем. Щедрина к художникам романтизма не следует. Но в его творчестве пересекаются и накладываются друг на друга две важные тенденции. С одной стороны, глубокие основы и критерии прошлого, в которые он, несомненно, подлинно верил. С другой, предчувствия и предвестия нового восприятия мира: более чутко реагирующего на изменения в интонации чувств, настроений, в атмосфере, то есть тех поэтически отзывающихся в душе соучастника и зрителя состояний, которые пробуждаются в сентиментализме. В поиске нового выразительного языка для изображения Царского Села, Павловска и Гатчины Семен Щедрин
пережил период ломки старых приемов, подходящих для «итальянизирующих» пейзажей, но не пригодных для передачи колорита и темперамента «русских английских парков». Он первым столкнулся с задачей поэтически живописного отражения реального мотива из современной ему действительности; мотива, обладающего самостоятельной декоративной законченностью и художественной программой. Соединение видовых моментов и их творческого осмысления в духе самоценной картинной иллюзии намечает эволюцию в развитии его манеры от более сухой и сдержанной в первых царскосельских работах к более свободным по эмоциональному содержанию и технике видам Павловска и Гатчины 90-х годов. Настроение в пейзажах Семена Щедрина выражается через тонкое, музыкальное ощущение свето-воздушной среды. Трепетная, хорошо прослушанная цветовая фактура органично накладывается на текучую мягкую композицию. В работах, написанных художником в 1770-е годы в Царском Селе и Павловске, еще ощутимы растерянность, выразившаяся в цветовой несбалансированности и несколько наивных, порой перегруженных композициях, например «Паульлуст» (Павловск. Конец 1770-х годов. X., м.). Однако, принципы классического пейзажа постепенно перерабатываются и преодолеваются тонкой индивидуальной разработкой трехцветки, вызывающей эмоциональное переживание глубины. Одним из важнейших примеров этой работы над цветовыми градациями служат виды Павловска и Гатчины 1790-х годов, отличающиеся мягкими переливами цветовой гаммы от теплых к холодным тонам. Декоративность и подлинный лиризм, поддерживаемый колористическими связками голубо-зеленых и янтарно-желтых гармоний, станут отличительными чертами его манеры, проявившимися в гатчинской серии - «Колонна Орла в Гатчинском парке» (1790-е годы. X., м.), «Каскад в Гатчине» (1790-е годы. X., м.).
Тонкая колористическая гармония розовых и янтарно-желтых тонов создает эффект плавного перетекания планов в «Виде на Большую Невку и
дачу Строганова» (1804 г. Х.,м. 62x77,5 ГРМ). Мягкое декоративное письмо, местами отличающееся неровной фактурой, присуще и пейзажам усадебных парков. Два больших полотна с «Видами усадьбы Демидова «Сиворицы» (101x127. Х.,м. и 101x124. Х.,м. ГРМ) представляют идеализированные парковые образы, выдержанные с разной степенью цветовой интенсивности: один более темный, другой — светлый. Пластическому решению «Вида усадьбы «Сиворицы» под Петербургом (не позднее 1792 года. Бум., гуашь. 43,1x59) из собрания ГТГ присущи большая четкость и интенсивность цветовых отношений, что не мешает лиризму. Голубые переливы теней под ножками деревьев и далей, серпантином изгибающееся русло реки, три группы гуляющих, образующих слегка ассиметричную треугольную фигуру, создают целостную картину внутреннего и внешнего равновесия - одного из главных начал классицизма, преображаемого в работах Сем. Щедрина камерным чувством предромантической интуиции. Декоративность и картинная поэтичность, строгость, в некотором смысле, каноничность и проблески индивидуального переживания гармоничного устройства садово-паркового ландшафта, ощутимые почти во всех его произведениях, определили цели и особенности художественного языка пейзажных образов Сем. Щедрина, затаив в своей условной реальности глубокие источники для дальнейших обращений к ним художников более молодого поколения.
Иные художественные акценты можно расставить в творчестве Андрея Ефимовича Мартынова165 (1768-1826), садово-парковым композициям которого на эмоциональном и пластическом уровне присуще более последовательно выраженное романтическое начало, своеобразие характера которого определил налет стаффажной жанровости в синтезе со свободным ощущением пространства. Значительную роль в формировании такого подхода сыграла работа художника над графическими «перспективами» городов. Ее ярким достижением стала серия «Виды Петербурга и его окрестностей» (1821-1822 годы. ГРМ) - одно из самых первых
литографических изданий в России. Увлечение гравюрой, в частности появившейся в 1816 году литографией, не могло не проявиться в особенностях манеры мастера изображать садово-парковые ансамбли 1820-х годов.
Однако, склонность к конкретности деталей и, в тоже время, к крупным плоскостям проявилась в творчестве А. Мартынова и на более ранней стадии. Учась в ландшафтном классе Сем. Щедрина, в 1784 году он пишет программную картину, представляющую садовый вид «в проспекте», то есть, конструктивно, архитектурно. В 1790-е годы, после возвращения из римского пенсионерства (где художник провел время с 1789 года по 1794) А. Мартынов работает над видами Петергофа, Павловска, совместно с Сем. Щедриным пишет панно для Михайловского замка. Четырнадцать полотен с видами Павловска и Гатчины после смерти Павла I поступили в Академию Художеств, а при Николае I украсили Парадную лестницу Гатчинского дворца. В настоящее время часть работ находится в Павловске, а часть в Гатчине. При нарастании романтических эффектов в сюжетной линии, в том числе и в упомянутых работах, на раннем этапе произведения А. Мартынова характеризуются сильной зависимостью от образов Сем. Щедрина. Но постепенно у него складывается индивидуальная манера, позволяющая говорить о новом романтизированном выражении садово-парковой физиогномики.
Главным действенным состоянием пейзажей Сем. Щедрина является передача внутренней поэзии гармоничных планов, перетекающих друг в друга через цветовые волны, что естественно сочеталось с художественно-декоративным пониманием его современниками образов меланхолического Павловска или таинственной Гатчины. Подчерк А. Мартынова отличает менее очевидная сглаженность цветовых градаций, упирающаяся, прежде всего, в желание свободно и широко показать пространственные зоны пейзажа, что явилось логическим следствием наблюдения мастера за
реальными художественными эффектами окружающей действительности. Он создает целостные романтизированные сценки, где освещение вторит времени суток, а детали — поэтическим интонациям внешней реальности. Пытаясь передать световые эффекты, А. Мартынов начинает разрабатывать новое эмоционально-временное ощущение художественного пейзажа, вплотную связанного с периодом суток. Длинный летний день Сем. Щедрина часто у А. Мартынова модулирует в закатное предвечерье. Быть может, этой попыткой передать особенности конкретных состояний жизни, объясняется любовь А. Мартынова к камерным видам техники - акварели, гуаши. Отмеченные выше характеристики можно увидеть в его альбоме из собрания ГТГ «Виды Петербурга и его окрестностей»166 (не позднее 1817 года. Бум., акварель, белила, тушь, кисть, перо. Размер альбома 25x35,5; размер листа 23,7x34,2). Задачи, которые ставил перед собой А. Мартынов, приводят к тому, что художник тонко и сложно для своего времени разрабатывает зеленый цвет: от охристо-желтой гаммы до буро-синих, молочно-голубых и изумрудных оттенков. В композиционном плане А. Мартынов все же не уходит от некоторой статичности, условности, декоративности эффекта. Излюбленной конструкцией остается кулисность. Передний план очень часто обрамляют кудрявые, темные кусты, или сверх меры высокие итальянизирующие деревья: «Вид на Каменноостровский дворец» (Л. 11) — очень сочная занимательная картинка, богатая цветовыми оттенками.
Присущая работам А. Мартынова насыщенность мелкими деталями, многолюдство, указывающее на конкретные действия — разговор, поучение ребенка, прогулку на лошадях, игру с лебедями - вносит в его образы живую прелесть и свойственный эпохе колорит: «Вид на фонтан «Самсон» в Петергофе» (1800-е годы), «Вид дворца в Ораниенбауме» (1820-е годы) или «Таврический дворец со стороны сада» (1821-1822) - работа, отличающаяся удивительной женственностью и легкостью. Стаффажные рафинированные фигурки, обилие которых можно наблюдать в произведениях А. Мартынова,
как это не удивительно, в немалой степени способствуют романтическому восприятию образов садов и парков. Если у его старшего современника Сем. Щедрина оно достигается художественно-пластическими средствами и обобщенно эмоциональным состоянием, то в полотнах А. Мартынова конкретные реалии эпохи, такие например, как изменившаяся мода- белые текучие туники-платья, разноцветные шарфы и шали — участвуют в создании элегического звучания произведения.
Но главной отличительной особенностью подчерка А. Мартынова является иное, чем у Сем. Щедрина, решение пространства - более линейное, что не мешает внутреннему поэтическому эффекту за счет контрастной игры объемами. Кроющий большие плоскости цвет подчеркивает свободу и масштаб пейзажного пространства, а тоненькие веточки деревьев с курчавой декоративной листвой и хрупкие, легкие фигурки включатся в композицию как выразительные детали, одухотворяющие романтическое целое. Именно такой подход, отличает многочисленные виды усадеб и парков, снятые им в окрестностях Петербурга в 1810-е годы. Наравне со стремлением А. Мартынова передать лирические нюансы освещения и цвета, интерес к свободному пространству, передаваемому без боязни однотонных цветовых затяжек, объясняет тот факт, что большая часть работ художника, выделяющаяся своеобразием индивидуального дара, исполнена, как отмечалось выше, гуашью или акварелью. Этим произведениям из собрания ГРМ и ГТГ присуща большая занимательность, что подчеркивает связь художника не столько с поэтическими категориями художественного обобщения живописи Сем. Щедрина, включающей вневременные контексты, сколько с более живой, «эмоционально» изменчивой реальностью, разворачивающейся в настоящем времени внутри условных парковых картин.
Распространению популярности садово-парковых композиций, запечатлевающих виды любимых имений или роскошных резиденций,
способствовала активно развивавшаяся в России начала XIX века гравюра. Уже упоминавшийся ландшафтно-гравировальный класс, открытый в 1799 году, выпустил ряд талантливых художников, продолживших линию Сем. Щедрина: С.Ф. Галактионова, А.Г. Ухтомского, братьев И.В. и К.В. Ческих, И.Д. Телегина и других. Особой восприимчивостью и одаренностью среди них выделяется С.Ф. Галактионов, оставивший не только тонкие гравированные репродукции полотен Сем. Щедрина, но и сам создавший несколько садово-парковых композиций в масле. Особой динамикой отличается его полотно из собрании ГТГ — «Вид на усадьбу» (1823. X., м.). Пейзаж насыщен внутренним действием за счет живой передачи реального паркового вида: господский дом на возвышенности, окруженный традиционными усадебными постройками, портиком выходит в сад и смотрит на реку, изгибающееся русло которой и неспокойная бурлящая вода задают свободный тон настроению образа.
Однако имя С. Галактионова, прежде всего, связано с пейзажными работами в области резцовой гравюры на металле и литографии. В связи с рассматриваемой темой, важен тот факт, что художники конца XIX века проявляли определенный интерес к творчеству мастера. Именно его экспозиция стала первой выставкой, устроенной «Кружком любителей русских изящных изданий» в 1910 году167. Среди работ, привлекавшихся из частных собраний, среди которых фигурировало и имя К. Сомова, были представлены иллюстрации, гравюрные очерки с картин К. Лоррена, Н. Пуссена, Сем. Щедрина и других. Особый интерес для раскрытия темы о «таинственных связях» между изобразительным искусством и символическими размышлениями эпохи заключается в оформлении С. Галактионовым сочинений Г. Эккартсгаузена: 1803 годом датированы заглавный лист и фронтиспис к «Отрывкам из сочинений Г. Эккартсгаузена». Под виньеткой фронтисписа, представляющей пирамиду, расположена знаменательная надпись, проливающая некоторый свет на гармоничное
восприятие природы, характерное для того времени: «Благочестивых душ Натура есть чертог | Все люди братья в нем и всем Отец им Бог». Многозначительной символикой насыщен заглавный лист и фронтиспис к книге Г. Эккартсгаузена «Ключ к таинствам натуры» 1821 года. Здесь и «умирающий сфинкс», символизирующий «знание добра и зла», и пирамида, и всевидящее око в сиянии. Эти издания еще раз подчеркивают общность теоретического и художественного поля, возможность их пересечения в пространстве духовной жизни.
Значительное место на выставке занимали гравюры на садово-парковый мотив, причем они выступали не только как самостоятельные произведения, но и как главы альбомов или части иллюстраций, например, картинки к книге А.Ф. Воейкова «Сады, поэма в 4-х песнях Ж. Делиля. СПб., 1816». Под самым первым номером в каталоге значится «Вид части дворца со стороны большого озера в городе Гатчине Его Императорскому Величеству Павлу I Государю Императору и Самодержцу Всероссийскому Всеподданнейшее приношение С. Щедрина». «Писал академии художеств адъюнкт-ректор С. Щедрин, гравировал С. Галактионов. 1800» . Далее можно встретить подробные виды Петергофа, исполненные в том же союзе С. Щедрина и С. Галактионова (1804 год — Итальянский фонтан, Новый каскад в Нижнем саду; 1805 год - Мон-плезир, вид Марли от средней аллеи в Нижнем саду, вид Марли и Золотой горы со стороны в Парнаса и др.) и Павловска: «Ея Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне Вид Храма Аполлонова с Каскадом в саду дворца Павловскаго. Всеподданнейше посвящает Императорской Академии Художеств академик С. Галактионов. Писал Императорской Академии Художеств адъюнкт-ректор С. Щедрин, гравировал академик С. Галактионов»169.
Стоит подчеркнуть, что характер звучания образов парков в живописи и гравюре различен. Из всех граверов, работавших по мотивам произведений Сем. Щедрина, в частности К. Ческого и А. Ухтомского, С. Галактионов,
конечно, отличается большей тонкостью восприятия. Однако, лиризм и гармоничность Сем. Щедрина ускользают. На первый план выступают иные черты: торжественность, парадность, официозность (например, «Вид дворца Монплезир в Петергофе», 1805 год, ГТГ). Впечатление тяжеловесности, застылости часто возникает за счет перегруженности первого плана выведенными, точно в ботаническом атласе, травами. Это пристрастие русских граверов к огромной растительности, цветам (особенно подсолнухам) ярко проявилось в серии гравюр с видами села «Надеждино».
Говоря о сложении иконографии пейзажа на садово-парковый мотив нельзя не коснуться роли литографических и акварельных альбомов с видами Павловска, Гатчины и частных имений. Тем более, что графическое начало играло большую роль в творчестве художников Серебряного века. Виды окрестностей Санкт-Петербурга оказали самое непосредственное влияние на развитие камерного настроения образов А. Бенуа, К. Сомова и особенно А. Остроумовой-Лебедевой:
Ни белых тут, ни черных магий,
И все ж оно оживлено -
На белом лоскутке бумаги
Простое черное пятно . Выразительный пример синтеза живой реальности, бьющей пульсом настоящего художнику времени, и романтической восприимчивости, преображающей бытовые усадебные сценки в поэтические образы,
I 7 1
представляют собой работы Е.И. Есакова (1790-?) . Ермолай Иванович также был выпускником ландшафтного класса Академии Художеств. В силу обстоятельств жизненного пути его творчество протягивает важную нить между предшествующей эпохой и новым художественным взглядом, который будет развивать B.C. Садовников (1800-1879). B.C. Садовников не получил академического образования, так как был крепостным Н.П. Голицыной, в имении которой - Марьино - некоторое время жил Е. Есаков и
мог обучать талантливого юношу, в 1823 году отправленного в Петербург для выполнения заказов Общества поощрения художников по иллюминированию литографий. Не вдаваясь в анализ пейзажных образов В. Садовникова, отличающихся более реалистичной и эклектико-романтичной манерой, продиктованной изменившимися устремлениями времени, важно отметить, что на первом этапе В. Садовников исполняет акварельные копии с «Видов имения Марьино в Новгородской губернии» Е. Есакова. Преемственность переживаний, приемов поэтизации важны в вопросе осмысления эволюции романтических элементов восприятия природы сада.
Возвращаясь к художественному творчеству самого Е. Есакова, нужно отметить камерный масштаб его дара. «Виды Строгановской дачи» (16 рисунков и 18 офортов, ГРМ) отличают аккуратность исполнения и простота художественной речи. Перед нами разворачивается целая топонимика местности: здесь и виды на дом, каменные мостики, ампирные гробницы, романтические руины и тенистые беседки. Особенно интересна своим курьезным звучанием в духе К. Сомова сценка на листе 25, изображающая ночной лунный пейзаж с купающимися в пруду девушками. Романтический атрибут (луна) несколько театрально вносит настроение тайны в разворачивающееся действо.
Альбомы подобного типа были очень популярны в начале XIX века как в России, так и в Европе . Их авторами выступали не только профессиональные художники, но и дворяне-дилетанты, а также крепостные таланты. Альбомы с видами играли роль своеобразной (в силу возможностей времени) фотографии, данной сквозь призму романтических, порой наивно преувеличенных чувств. Очень часто рисунки и акварели гравировались за границей - в Париже. Таковы два альбома из собрания Государственного Эрмитажа: «Виды села Влахернского, принадлежащего князю Сергею Михайловичу Голицыну. Мельницы. 1841 год. Париж» и «Собрание видов села Городня и его окрестностей в семи верстах от Калуги владения ея
сиятельства княгини Натальи Петровны Головиной. Двора их императорских величеств Штатс-Дамы и ордена Св. Екатерины кавалера». Яркие сочные цветовые решения, обилие дугообразных клумб («Село Городня. Вид № 4), столь выразительных в работах Г. Сороки и любимых затем К. Сомовым, румяных тропинок и ровных газонов дают эффект живой наглядности и свежести. Жизнь себя еще не исчерпала и можно спокойно наслаждаться временем. Глядя на все эти сценки, становится очевидно, что пробуждение нового витка в понимании эмоционального воздействия образа имело реальные, и даже прагматичные основы - желание владельцев запечатлеть свои имения и резиденции, ансамбли которых были пропитаны внутренней символической жизнью, еще не слившейся органично и неразрывно с прошлым. В этой связи большой художественной ценностью отличаются работы Я. Филимонова173, П. Малютина и В. Причетникова, исполненные художниками в имении князя Александра Борисовича Куракина «Надеждино». Полный экземпляр альбома, гравированного В. Ивановым, И. Ческим, А. Березниковым по рисункам вышеупомянутых художников, включал 15 листов с планами сада и заглавным листом. Этот вариант можно найти в публичной библиотеки Флоренции. В России частично с ним можно ознакомиться в Государственном Историческом Музее (8 видов), ГТГ (9 видов, из которых два повторяются: И. Ческий «Храм Верности» -нераскрашенная и раскрашенная гравюры).
Наиболее ярким и тонким даром из всех художников, работавших в имении А. Куракина, обладал Василий Петрович Причетников (1767— 1809). Его живописные работы хранятся в Тверской картинной галерее и Историческом музее. Ученик Сем. Щедрина, он был порекомендован А. Куракину в 1795 году, и около трех лет работал в имении в качестве домашнего художника. В пластическом звучании образов В. Причетников, прежде всего, подчеркивает плоскость. Преобладание горизонталей, ясно считываемая кулисность — почти всегда по бокам композиция обрамлена
высокими деревьями английского парка - подчеркивают открытость главной смысловой доминанты в виде храмов (Лады, Истины), обелисков и т.д. Ощущение пространства в работах В. Причетникова оставляет сложное впечатление, носящее элемент какой-то недосказанности, странности, наивной символичности. Возникает оно во многом за счет больших пауз, пустот, как бы недорешенностей. В гравюре эти черты еще более усиливаются. Таков, например, лист «Храм Дружбы» (писал В. Причетников, гравировал — И. Ческий). В нем вертикальная плоскость настолько преобладает, что от плавных дорожек английского парка А. Куракина исходит напряженное впечатление геометризма. Это чувство диспропорциональности, играющее на (или «под») декоративный эффект, проявляется у В. Причетникова и в соотношении слишком маленьких фигур с форсированными объемами главных архитектурных сооружений или даже цветов. В отличие от Сем. Щедрина художник работает двумя планами, однако театральность и наивная условность в его произведениях сглаживаются за счет поразительного внутреннего лиризма, который совпадает с романтическими интонациями «надеждинского» парка.
А. Куракин своему английскому саду предавал очень большое значение. Известна его переписка с Павлом I о программе парка, выдержки которой опубликованы в знаменитом сборнике 1905 года «Восемнадцатый век. Исторический сборник по бумагам фамильного архива князя Ф.А. Куракина» (II том). Все, вплоть до названия усадьбы, переименованной из «Борисо-Глебской» в «Надеждино», участвовало в сложении символической программы ансамбля. Подобная тенденция была характерна для времени и отчетливо прослеживается с момента строительства Петергофа. Название очень часто включается в смысловую перспективу ансамбля и несет не географический аромат местного наречия, а содержательную конструкцию образа, например: «Царицыно», «Царское село», «Павловск» (в отличии от «Гатчины» - сохранившей в названии отголосок древнего славянского
наименования и несшей символические ассоциации непосредственно в разбивке самого парка и архитектуре). Имение «Надеждино» стало одним из самых идеальных воплощений иллюзорно-реального пространства, рожденного романтическими утопиями. Для высланного из Санкт-Петербурга Екатериной II А. Куракина «Надеждино» стало спасительной мечтой, ступившей на земную почву, что было вполне в духе времени. Жажда обетованного края, говорящего символическим иносказательным языком владела и Екатериной II, и Павлом Петровичем с его Гатчиной, по крайней мере, с точки зрения мирискусников: «Громадные дворцы — истинные жилища земных «богов», окружались бесконечными садами, совершенно отделявшими эти олимпы от обыденной действительности, от жизни тех жалких смертных, над которыми эти боги царили» . Возможно, стремление уйти и замкнуться в иллюзорном мире собственной придуманной реальности заставило Павла I преобразить свою любимую деревню «Гатчину» в замок. То ли порывы страха, то ли лирические утопии, то ли гордое одиночество будут внушать романтикам 1820-1830-х годов XIX века родственные образы: «Я хотел бы расти в тиши башен | Какого-то замка...» . Мирискусники не случайно увлекались временем Павла Петровича: интуицией, считавшейся главным художественным направляющим, они чувствовали те трансформации, которые переживала духовная жизнь России конца XVIII - начала XIX века. Глубоко прочувствованные символические программы парков накладывают отпечаток и на диалог «ландшафтных живописцев» с их искусственной реальностью, открывая в идеальных мирах пейзажей поэтическое русло переживаний, лиризма, меланхолии. Такой синтез в духе раннего романтизма дают и пейзажи В. Причетникова, в которых художественные и композиционные задачи сосредоточены на передаче смысла-настроения: храм Лады, храм Терпения, храм Славы, Обелиск, храм Верности, Дружбы, галерея, нареченная «Вместилище чувствий вечных».
Рассматриваемые до этого художники напрямую связаны с кругом Семена Щедрина, являясь его учениками. Но были мастера, чей путь отличался независимостью и самостоятельностью. В определенной степени, таким примером может служить творчество мало изученного художника-акварелиста Гаврилы Сергеевича Сергеева. Конечно, в силу общих изобразительных мотивов Г. Сергеев не мог быть вне круга Сем. Щедрина и не испытывать влияния с его стороны, тем более, что мастер, судя по его творчеству, был удивительно восприимчивым и чутким. Однако, садово-парковые образы Г. Сергеева отличаются камерными интонациями глубоко личного отношения к природе. Биографические сведения о нем скудны, не известна даже точная дата рождения (предположительно 1779 год) . Г. Сергеев числился на службе в Депо карт в чине капитана и исполнял акварели для атласов с видами резиденций. Несмотря на конкретно сформулированную задачу, архитектурная концепция восприятия пейзажа ему чужда. Гатчинские и Павловские виды Г. Сергеева, исполненные во второй половине 1790-х годов, отличаются удивительной поэтической выразительностью, полной колористической и композиционной гармонии, рождающей лирическое движение внутреннего настроения образов. Удивительное лигато сближает небольшие поэзы Г. Сергеева с полотнами Сем. Щедрина. Романтический налет исходит как от прозрачных голубо-розовых и зеленовато-желтых тонов, так и от пластической гибкости живописных контуров берегов и дорожек, которые естественно открывались взгляду в самой природе парков:
Все мне видится Павловск холмистый,
Круглый луг, неживая вода,
Самый томный и самый тенистый,
Ведь его не забыть никогда . Композиционно художник придерживается классической схемы. Как правило, перед нами небольшая инсценировка с плавно перетекающими друг
в друга планами. В садово-парковых композициях этот прием вполне оправдан. Г. Сергеев запечатлевает наиболее значимые по своему смысловому значению места парковой программы, например: «Вид на Белое озеро и Павильон Венеры», «Павильон Орла, Гатчинский дворец и Чесменский обелиск» (Гатчина, 1798 год) или «Долина р. Славянки. Храм Дружбы (Павловск, 1799 год). Его акварели служат своеобразными художественными посланиями-предисловиями, выделяющими из свободного пространства «неформального» парка символические акценты, связующие разные художественные линии - павильоны, храмы, фермы, «старые шалэ» -в контрапункт идеального вида. Эти опорные видовые точки были конструктивными моментами в пластически вязком пространстве пейзажного парка, включающего своего посетителя в занимательную игру фантазии с реальностью. Подобное свойство, зафиксированное композиционно, встречается не только у Г. Сергеева, но у большинства мастеров этого периода.
Поиск выразительных ракурсов был напрямую связан с передачей «романтического состояния» изображаемой местности и ее смысловой доминанты. Игра ракурсами выстраивала внешнюю фабулу полотна или акварели, от которой художники предромантической эпохи еще не думали отказываться, что, кстати, выступает одним из главных контрастов символическим, порой лишенным всякого определенного внешнего смысла образам. Однако, сам интерес к игре планами в пространстве картины имел острое развитие в кругу тем К. Сомова и А. Бенуа. Ориентация на художественную фабулу реального пейзажного вида прослеживается у всех художников конца XVIII — начала и середины XIX века. В некоторой степени ею объясняется тот факт, что почти все композиции Сем. Щедрина строятся на основе гармонии нескольких планов, взаимодействующих между собой. Например, в картине «Вид на Гатчинский дворец» (х., м. Музей Гатчина), художник так выстраивает пространство, что возникает своеобразный
треугольник, акцентируемый зигзагообразно читаемыми группами гуляющих. Как уже отмечалось выше в связи с другой проблемой (размышлений, созерцания), персонажи Сем. Щедрина чаще всего перемещаются по обширным территориям, украшенным знаками и символами. Есть в этих прогулках и другой смысловой штрих. Перед нами художественная игра, имеющая своей целью раскрытие настроения паркового пространства, которое, не вступая в противоречия с внутренней романтикой, изображено в духе принятых академических законов -декоративно и демонстративно-театрально. То же совпадение художественного пейзажа с условной реальностью садово-парковой жизни, дающей эффект двойной картины, можно видеть и в работах Г. Сергеева. На реальный условный образ парка, обладающего определенной программой, наслаивается художественный образ, прошедший трансформацию сквозь индивидуальное видение мастера и принятые нормы изобразительного искусства. Пейзаж периода предромантизма и раннего романтизма в России следует воспринимать с учетом этой двойной дистанции, отражающей игру одной условной картины (парковой) внутри другой (изобразительной).
Категория игры очень важна для художников эпохи сентиментализма и романтизма. Как бы то ни было, именно они начали процесс сближения параллельных миров иллюзорного искусства и реальной действительности, приведший к странным искажениям временных ощущений в символизме. Разумеется, говоря о начале XIX века нужно учитывать все те же законы времени, определяющие границы дозволенных проникновений. В рамках искусства эпохи классицизма категорию игры художники воспринимали более отстраненно, чем символисты. Этим объясняются те элементы наглядности, которые являются атрибутами представления внешнего, а не внутреннего, как это будет, например, у К. Сомова. Художникам раннего романтизма, прежде всего, присуще поэтическое понимание игровой реальности. С этих позиций ими воспринимается и садово-парковый
ансамбль как «идеальный мир, где обитает счастье, о котором можно только
I 70
мечтать, но которого нет на земле» . Символизирующие что-то монументы и храмы (например, дружбу, любовь и т.д.) насыщали эмоциональную жизнь мечтателя воспоминаниями как реальными, так и несуществовавшими никогда в его жизни, книжными, романическими. Воображаемый быт, развивавшийся в уединенных уголках парка, отстранял подлинные черты действительности. Русским художникам-символистам это состояние будет особенно близко. Поэтому не случайно А. Бенуа писал о культуре XVIII века, как о времени, «когда начал окончательно складываться быт, который мы все еще считаем своим» .
Однако не стоит забывать, что игра, воспринимавшаяся подобием настоящего в период раннего романтизма, в символизме пустила более глубокие корни. Понимание игры символистами почти всегда включает метафизические подтексты, воспринимающие ее сквозь призму не только музыкально-поэтических, но философских, а порой и языческих оттенков. С точки зрения исторического факта в этом, конечно, нет ничего странного. До конца не изжитые временные пласты проникают во многие явления не только жизни искусства, но и современной действительности. Так, например, отголоски представлений язычников-славян, сближавших категории загробной жизни с мистическими игрищами, можно до сих пор найти в памяти названий: например - Ваганьково урочище - поле для игрищ; в XVII веке ваганить - играть. Искусство имеет дело не с документалистикой, а с особенностями восприятия и преображения постоянных жизненных начал в свете разновременных образов. Символисты подобные сближения воспринимали повышенно напряженно, пытаясь установить за внешними явлениями внутренние связи, не только в виде тоненьких ниточек-схем, но с глубокой художественной перспективой и неподъемными для разума выводами. Это отличает их не только от нашего прагматичного времени, но и от эпохи раннего романтизма, когда символические явления переводились в
русло лирического чувства, и художники допускали в реальность романтику, а не наоборот.
Но все же сам процесс «расшатывания нервов» в русском искусстве идет, как минимум, со второй половины XVIII века. Вспомним, например, масонство, повлиявшее на художественную речь ансамбля В.И. Баженова «Царицыно». Игра всерьез с широкой идейной программой, отмеченной смесью искренней православной веры и таинственных западных ересей. Интересно, что В. Баженов в своем завещании среди важных для духовного развития книг перечисляет не только Евангелие, Библию, но и книги, считавшиеся руководящими в масонских кругах XVIII века - трактат Фомы Кемпийского «О подражании Христу», «Об истинном христианстве» Иоанна Арндта (изданном в русском переводе И.П. Тургенева в 1784 году) и «Познание самого себя» Иоанна Масона (перевод И.П. Тургенева 1783 года): «Вот Вам, любезные дети, лопадии для рытия колодцев в воли или в сердцах ваших. <...> Если вы сохраните сии книги, то уверяю вас, что вы дороетесь до царствия Божьего, где найдете Господа нашего Иисуса Христа вечного царя и отца нашего, который таковым пребудет навеки, Аминь»181. Строй мыслей не мог не влиять на творчество архитектора-мыслителя, отмеченное трагической судьбой и утопической романтикой. Программе, выражаемой художественным образом «Царицынского» ансамбля с его просветительской идеей соборности и верой в гармоничное единство не только сердец, но и сословий (и это в условиях полновластной монархии времен Екатерины II), посвящено много значительных исследований, поэтому мы не станем вдаваться в подробный анализ всех символических элементов, нашедших место в этом подмосковном парке ~. Однако, сам факт подобного проявления «символического» духа в философско-масонском ключе указывает на одну из линий развития интереса к потустороннему в России. Смешение религиозного знания, светской философии и художественной восторженности развивали склонность к сетованиям на реальность, не
считавшуюся с мечтами и иллюзиями, освобождавшими место романтическому темпераменту. Быть может, главным расшатывающим элементом в творческой и личной судьбе В. Баженова, стало его слишком серьезное отношения к тем знакам, которые можно было бы и не разгадывать. Как это ни странно, на развитие символических ассоциаций и романтического настроения в живописном пейзаже «Царицыно» не оказало достаточно глубокого влияния. Дошедшие до нас виды учеников Ф.Я. Алексеева, О.И. Бове и самого В.И. Баженова отличаются архитектурным подходом или непосредственным реализмом, звучащим в бытовом ключе.
Семен Щедрин и художники его круга были представителями академической линии петербургской школы. Однако, и в московской среде можно встретить художников, в произведениях которых проявились интонации творческого претворения реального садово-паркового образа в наивно-романтическом, доморощенно-театральном духе. Григорий Дмитриевич Молчанов (около 1732 - не ранее 1786) принадлежал к семье художников в третьем поколении. Его дед служил «иконописного дела мастером» в Оружейной палате, а отец и брат - в живописном московском цехе. В истории русского искусства Григорий Дмитриевич известен, прежде всего, как театральный декоратор. Однако его работы в области написания пейзажей на садово-парковую тему не менее показательны и симптоматичны. Интересующие нас работы относятся к 1770-м годам и представляют собой живописные повторения гравюр с видами имения П. Шереметева «Кусково» из альбома П. Лорана по натурным зарисовкам русских художников, сделанным «под смотрением» М. Махаева (1770-е годы). Согласно архивным документам, в 1792 году в столовую комнату «большого дома» были внесены из кладовой «13 видов кусковских, писанных на полотне в рамках золоченых». В настоящее время в усадьбе хранится 10 картин мастера. В «Кусково» Г. Молчанов попал в 1768 году, когда парковый ансамбль был в основном закончен. Его образы отличаются большей
архаичностью и жесткостью по сравнению с произведениями Сем. Щедрина. Колорит темнее, превалируют архитектурные приемы построения композиции, точные, строгие контуры, структурность («Вид на церковь и дворец», «Каскады на канале в усадьбе «Кусково», «Голландский домик»). Однако, ощутимо желание преодолеть внутреннюю условность, показав ее в свете естественной необходимости, что, кстати, не противоречит и характеру паркового ансамбля, разбитого во французском стиле. Выразительную сценку представляет композиция «Грот в усадьбе "Кусково"», на котором павильон осенен легкими веточками в стиле Сем. Щедрина, а статуи на своих постаментах словно ведут закулисную жизнь, переговариваясь друг с другом. По существу композиции Г. Молчанова еще полны тяжеловесности барочной поэзии, но в свете общих поисков времени, они интересны своими тенденциями. Условность, наивность и прямолинейность его пластических решений - следствие художника-декоратора. В отличие от Сем. Щедрина, и жизненный путь Г. Молчанова не отличался яркими заграничными впечатлениями, позволившими расширить его художественное восприятие. Хотя, в чем-то пути Сем. Щедрина и Г. Молчанова пересекались, но разница в 13 лет не привела их к совместной работе. Совпадения ограничились общим кругом художников, повлиявших на развитие ландшафтного пейзажа и театральной декорации в России. В 1752 году Г. Молчанов работал в Царском Селе над плафоном совместно с Валериани. А в 1767 году он аттестуется у А. Перезинотти — учителя Сем. Щедрина - с целью прибавки жалованья.
Искусство и быт всегда находились в России в сложных взаимоотношениях. Поэтому романтические, как и символические образы, обладают у нас большей плотностью, более реальным весом, чем мистические оборотни Запада. Смесь лиризма и грубости, вдохновенности и недоученности, глубокой восприимчивости и отчаянной пассивности можно найти в судьбах и характерах очень многих художников начала, середины и
даже конца XIX века. До нашего времени не дошли многие имена художников-крепостных, благодаря которым остались виды таких же безвестных парков. Скорее всего, природа была для них тем же спасением, как и для всех обделенных мечта о гармонии. Интересная параллель напрашивается с грезами воспитанников Академии Художеств. Читая описание условий их жизни, составленное Н.Н. Врангелем, можно почувствовать, что заветное пространство Искусства часто представлялось юным художникам в виде искусных барских и императорских парков, в которых естественно обитала Красота: «Ничто не действует так сильно на детский ум, как сплетение сказки с действительностью. <...> Дети голодали, но видели красивое. После прозы скучного дня, иногда приходил вечер со сказкой. Воспитанники — дети дворовых, мальчики с острыми физиономиями, «уродец Максим», привезенный из Белого-Озера — вдруг попадали в шумливую толпу теснящихся париков и шелка. <.. .> В стриженных парках, в зелени аллей, белели озябшие боги. Ночью их прятал сумрак, а осенью ели дожди. Теперь бывшие дворовые узнали, как родились боги»184. Имена некоторых крепостных художников, работавших в усадьбах, сохранились. Например, известны произведения Николая Ивановича Подключникова, крепостного графа Д.Н. Шереметева, снимавшего виды усадьбы «Останкино». Особое место занимает творчество Григория Васильевича Сороки (1823—1864). Его виды усадеб «Островки» и «Спасское» отличает новый уровень художественной речи, удивительно зрелой и профессиональной. Интенсивный лиризм и самозабвенность наполняют образы Г. Сороки неповторимым индивидуальным характером, напрямую слитым с особенностями внутренней жизни самого художника. В конце XIX века, в творчестве К. Сомова найдет отголосок эта концентрация настроения и глубокая поэтическая замкнутость, возникающая, может быть, в силу ранимости. Локальные энергичные цветовые связки, острые ракурсы, кружащие клумбы — все это не могло не привлечь символистов.
Все мы удерживаем в себе какие-то мгновения. Они — словно пятна живописной тени, дающие пространству рельефность и глубину перспективы. Способность выявить то, с чем совпадают эти пятна и где они, кружась и скользя, пересекаются с настоящим, дает ощущение преемственности и непрерывности духовной жизни. История развития искусства также бережет ценные мгновения, заставляя их снова вспыхивать в те времена, когда появление прошлого может вскрыть неожиданный горизонт новых форм. В конце XIX века вспыхнула новая фаза развития романтизма — неистового, поэтичного, раскачивающего реальность до подобия галлюцинаторного призрака, возвышенного и порочного, вдохновенного и больного — фаза символизма. Отличий между этими двумя этапами, тем более на ранних стадиях каждого из них, бесконечное множество, точно также как и сближений, зачастую в силу крайней противоположности. Однако, в главном они совпадают. Их круг- круг неведомого пространства, выдуманного, идеального, райского, но наполненного тенями царства Прозерпины, грезами и невоплотимыми мечтами; пространство садов, тайную жизнь которых никто никогда не узнает. А, может быть, ее и вовсе нет?
Предромантический и ранний романтический пейзаж, избирающий своим сюжетом садово-парковые виды, в контексте искусства конца XIX века интересен как тенденция, как возможность, определенная ступень на пути развития этого образа в русской живописи, оказавшего отдаленное, но в плане развития национального искусства вполне реальное воздействие на символистское ощущение пространства. Пробуждение чувства, эмоциональной активности, поэтической метафорики, имея робкие проблески, тем не менее, слагает внутреннюю завязь, протягивающую нить между гранями конца XVIII - начала XIX века и конца XIX - начала XX века. Это позволяет рассматривать русский символизм не только в контексте общеевропейского направления стиля модерн, но установить его связь с
предшествующими периодами истории русского изобразительного искусства, обнаружить своеобразие его внутренних характеристик и сюжетных интересов.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Образы садов и парков в интерпретации художников русского
символизма
Символическое в романтизме и романтическое в символизме. Опыт интерпретации на примере эволюции садово-паркового мотива в русском искусстве
Этот идеал хранила обетованная земля Италии5 и отражали реальные парки. Пространство сада служило воплощением той заветной области счастья, где можно было если не обрести его, то хотя бы подышать представлением о нем, помечтать. В русском изобразительном искусстве рубежа XVIII-XIX веков именно эти образы позволили проявиться первым росткам романтического мировосприятия. В конце XIX века в творчестве ряда художников эпохи модерна этот мотив поэтической метафоры превращается в полноценный художественный символ, позволяющий говорить о самостоятельной образной проблематике символистского искусства в России. Эволюция мотива, демонстрируя непосредственную смысловую и настроенческую связь романтизма и символизма, позволяет углубиться в более широкую сферу внутренних причин такого сближения, что подводит к принципиальному вопросу о понимании символа в искусстве на грани XVIII-XIX веков и XIX-XX веков.
Для романтиков и символистов художественное осмысление пространства и времени становится важнейшей задачей. Эти главные координаты мыслей и чувств меняют свои привычные точки отсчета. Расширяя пространство диалога между разными эпохами, символисты внутри времени открывают источники вечности, которая накладывается идеальным образом на горизонталь перспективы реального пространства, увиденного в свете одухотворяющего движения вперед. Таким образом, земное пространство обретало сакральное звучание, при котором каждое видимое явление получало духовное насыщение одновременно и в реальном пространстве, и в условном - временном, вечностью охватывая картину мира по горизонтали и вертикали. Небесные и земные явления синтезировали в себе прежние границы высокого и низкого, расширяя сферу видения до обширной целостности, в которой религиозные идеалы переносились в иллюзорную область искусства. В атмосфере этой предельно условной панорамы, в которой вечность, как основа, таилась под формами реального пространства и настоящего времени, и рождалось новое ощущение символа — образа-контрапункта, собирающего в себе несколько уровней художественных внушений - эмоциональный, идейный, метафорически-поэтический, свободно (музыкально) ассоциативный, пластический. Символ, вырастая из конкретного знака, в искусстве эпохи модерна развивается в синтетический художественный образ, живущий внутри собственной вечности — области мечты артистически мыслящей личности, рожденной тем грандиозным индивидуализмом, который особенно остро стали ощущать романтики в творческой тоске одиночества.
Пространство течет, время движется, но в каждой из этих стихий возникают некие внутренние паузы, которые расставляет жизнь человека. В искусстве эти темы раскрывались по-разному, но почти всегда несли символические подтексты, неразрешимые в простых эмоциях переживания. Пространство насыщалось архитектурными и скульптурными символами, разбивалось границами, садами, парками. Сложные, излюбленные XVIII веке лабиринты были не только символическим выражением тяги к игре, к занятному и поучительному времяпрепровождению6, но и выражением запутанности и непознаваемости пути. Достаточно вспомнить средневековые монастырские манускрипты. В XIX веке ощущение зыбкости границ, сознание протяженной длительности пространства и мгновенности наполняющих его впечатлений нарастают на crescendo, врываясь в зеркальную гладь безупречного равновесия классицизма через порывистый романтизм, одновременно эмоциональный и созерцательный импрессионизм, психологически глубокий символизм. В живописи пространство, прежде всего, связано с жанром пейзажа. В конце XIX -начале XX века он трактуется неоднозначно. Мы можем встретить разные интерпретации — от натурных, реалистических (В. Поленов, С. Жуковский, С. Виноградов и др.) до поэтически-символических, творчески включенных в систему целостного образа, например у А. Бенуа, К. Сомова, В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова, П. Уткина и др. Стиль модерн, строящийся согласно логике уподоблений и преображений, в творческом процессе акцентировал вопросы, связанные с выразительностью художественной формы, наполнял ее повышенно эмоциональной содержательностью, превышающей буквальное понимание символа поэтической нерасчлененностью смысла: Все слова тебе мешают. Чем ты поражаешь? Стол букеты украшают, Ты преображаешь .
В живописи стиль модерн обостряет интерес художников к вопросам композиции, к артикуляции пространства, ракурсам (особенно это видно у М. Якунчиковой и А. Бенуа), настроению образа, раскрываемому через присутствие постоянных мотивов символически. Одним из таких символических мотивов в русской живописи и графике становится сад, парк. Именно в окружении его пейзажа оживают и начинают интенсивно звучать интонации, связанные с образами прошлого, перемешанного с мечтой и зыбкой реальностью (у М. Якунчиковой, мирискусников и В. Борисова-Мусатова), образами грез и сна, уплывающей почвой настоящего (у художников «Голубой розы»): «Какая эпоха?» -переспрашивал он, улыбаясь, и отвечал: «Это, знаете-ли, красивая эпоха - и больше ничего»8. Образы парков в русской живописи рубежа веков синтетичны и имеют несколько реальных смысловых регистров: исконное библейское понимание сада как заповеданного Эдема, философские мечты об античном Золотом веке и исторический идеал усадебной жизни . При этом художественное сознание, непрерывно ищущее совершенное пространство, накладывает свои оттенки индивидуального понимания. В этой связи представляется знаменательным ответ П. Кузнецова на вопрос, когда он почувствовал себя художником: «Когда я нашел свое пространство»10.
Возникновение садово-паркового пространства в живописных композициях конца XIX — начала XX века уже само по себе символично: «...тайна отношения к прекрасному в искусстве или природе, заключается в перенесении нашего внутреннего мира на внешний мир, в сочетании скрытого в нашем сердце с идеей, присущей вещам, какую мы в них угадываем и воспроизводим»11. В русском искусстве эта тема не новая. Интерес к природе, диалог с ней на языке души — одна из главных особенностей романтического умонастроения, а с образами садов и парков связан важный этап формирования пейзажного жанра в русском искусстве конца XVIII - начала XIX века. Этот мотив активно начинает развиваться в живописи раннего романтизма, несущего на себе еще сильно ощутимые условности классицизма и барокко. Но, может быть, именно потому что условность не противоречит искусственной природе сада, в интерпретации этого мотива проявляются первые интонации поэтического переживания, лирического восприятия символической жизни парка: «...предметом, объектом изображения складывающейся пейзажной живописи становилась в первую очередь парковая природа»12. На рубеже XVIII -XIX веков среди художников, в творчестве которых начинает проявляться индивидуальная манера интерпретации образа, можно выделить Сем. Щедрина, А. Мартынова, В. Причетникова, Е. Есакова, Г. Молчанова и других.
Символическая реальность предромантического и раннего романтического пейзажа. Образы садов и парков в творчестве художников конца XVIII — начала XIX века
Провести четкую границу между пониманием художественного образа как иллюзорной реальности и осознанной условности - задача не из легких в отношении любого течения: одно не исключает другого. Не помогают здесь и яркие приманки названий в виде теоретических ярлычков — сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Художественная форма акцентирует грани, определяющие стиль, дает образу тот или иной язык, раскрывающий оттенки неповторимого переживания времени, показывающегося в свете духовных и материальных условий эпохи. Но внутренняя жизнь почти всегда течет по территории смежных чувств, давая неожиданные параллели и совпадения в рамках разных стилей и питающих их направлений. «Скромное путешествие сердца в поисках Природы» способно открыть такие новые горизонты, что перспектива для движения будет казаться бесконечной, по крайней мере, в течение столетия или двух. Процесс воспитания чувств, начавшийся еще в XVIII веке призывами возврата к Природе, естественности, поэзии чистоты обернулся порывами к чистой поэзии, романтической свободе и, наконец -чистому искусству, одухотворенному символической верой в достижимое через художественный язык земное совершенство?
Колебание переживаний - таков неуравновешенный характер душевной жизни Нового времени, сложение которого в европейском искусстве велось тысячелетиями, периодами превозмогая чувственность экзальтацией религиозного, мистического или философского учения, а в России, хранившей верность христианским традициям и развивавшей искусство в церковном русле, получившему возможность проявить себя в атмосфере петровских и послепетровских реформ.
Русский пейзаж второй половины XVIII века переживает переходную стадию. В нем проявляются первые попытки трансформации окружающей действительности в духе захватывающей чувства иллюзии, имеющей своей целью не поучение и назидание, не историческое прославление и учебно-театральную демонстрацию, а художественное впечатление, чувство. В пейзажную живопись проторомантическая волна хлынула из области садово-паркового искусства. Написанный по академическим канонам художественный вид отражал символическое пространство, насыщенное многочисленными знаками, напоминаниями, неожиданными измерениями, в идеале дарящими гуляющему мечтателю кусочек пуссеновской или лорреновской Аркадии, влекущей в свою идеальную даль. Принцип формирования английских садов, несущий в себе утопическую иллюзию присутствия далеких обетованных стран внутри одного паркового пространства, развивал в художниках свободное чувство ассоциаций, открывающих возможность движения как внутреннего, так и внешнего. С одной стороны, пейзажисты фиксировали наиболее выразительные точки, открывающие вид. С другой, передавали вызываемые этим видом чувства.
В период сентиментализма, рассматриваемого как начальная стадия предромантизма, человек внутренне был еще крепко привязан к земле, к видимым границам. Избирая для сюжетов картин сады и парки, художники следовали старым законам, подчеркивавшим формообразующий стержень архитектуры, призванной «воображать и создавать прекрасную действительность, в которой нам отказала природа» ". Но в то же время, давали возможность проявиться новым тенденциям, открывая в живописи проблематику творческого отражения современного им ландшафта, на ту пору сконструированного символически. В конце XVIII века в русском искусстве начинает формироваться более доверительный подход к пониманию образа как второй реальности, воплощающей мечту в пределах настоящего. Эта художественная категория на Руси всегда приравнивалась к знаку, символу чего-либо - «се есть мнишьскыи коуколь»133. Образ -мнимость, видимость пероисточника, по природе своей таящая конфликт, ибо «не подобает глаголяще небесных и невидимых образов на земле видимо образовати»1 . В конце XVIII — начале XIX века художники находятся под влиянием традиции, но внимание к поэтическим проявлениям настроения в Природе и внешнем мире постепенно накладывает на формы искусства неуловимые романтические оттенки. В пейзаже такие тенденции получили возможность развития благодаря тому строю Натуры, который привлекался в качестве предмета изображения — садово-парковым видам в английском духе, вносившем в понимание художественного звучания образа интонации свободы и мечты. Отражая то, что зримо видимо в саду или парке, пейзажисты конца XVIII - начала XIX века включали внутреннюю иконографию ансамбля в свои композиции, наполнявшиеся через изображаемые символы состояниями высоких переживаний, хранивших отблеск небесной чистоты — воспоминаниями, надеждами, победами, разлуками — переживаниями далекими от обыденности, возносившими душу к потерянному Эдему: «Очень характерно для XVII и XVIII веков — это напряженное стремление людей водворить хоть для некоторых своих представителей истинный рай на земле» .
«Неформальные» английские парки, обладавшие сложной семантической программой и апеллирующие к чувствам, имели самую непосредственную связь с развитием проторомантического и романтического пейзажа в русской живописи и в силу насущной потребности: конкретным заказом общества (императорской семьи или знатных вельмож) «снимать» художественные виды имений. Мода на «природные ландшафты» принесла плоды не только в области паркового зодчества (Павловск, Гатчина, другие резиденции и усадьбы), но поставила новые задачи перед художниками-пейзажистами, дав начало поиску адекватных конкретной парковой реальности живописных средств. Историческая ценность гравюрных листов А.Ф. Зубова, перспективных планов П.А. де Сент-Илера, рисунков М.И. Махаева и др. неоспорима. Однако, образ природы выступает у них, прежде всего, как устойчивая архитектурная композиция, логическая задача, решаемая с математической точностью и холодным расчетом ученого-рисовальщика. Начиная со второй половины XVIII века, несмотря на то, что задачи по существу остаются теми же — сохранить в истории с помощью изобразительных средств изменяющийся образ живого организма парка -отношение к предмету меняется.
Интересно, что в английском изобразительном искусстве новый образный тип, который будет встречаться в русской живописи не только конца XVIII века, но и первой половины XIX века, стал проявляться почти на столетие раньше. Объясняется это вполне определенными причинами. С конца XVII века в Англии начинает формироваться та внутренняя реальность «неформального садово-паркового» стиля, которая преодолевала скованность повсеместно господствовавших «французских» правил свободой организации пространства и мышления .
Образы садов и парков в творчестве М.В. Якунчиковой и художников группы «Мир искусства»
Пережив первый этап становления в творчестве русских пейзажистов раннего романтизма, садово-парковый мотив, наделенный сложной символической конструкцией внутреннего пространства, получает новую кульминационную стадию развития в искусстве символистов: старших -художников группы «Мир искусства», В. Борисова-Мусатова, отчасти М. Врубеля; «младших» - художников круга «Голубой розы». Усиление романтического мировосприятия, при котором все формы - лишь одухотворенные грани видимости, таящей недостижимое и превосходящее рассудок начало, начало неосязаемое и вневременное, приводит художников к поиску того пространства, где эта иллюзорная явь существует наиболее органично. Проанализировав чаще всего встречаемый на полотнах русских символистов пейзажный образ, можно заметить, что в качестве такового выступает садово-парковое пространство, перерастающее в излюбленный, хотя и многовариантный, индивидуализировано звучащий, полифонический символ. Сад становится не просто сопроводительным фоном, включающим в себя смысловые ключи к раскрытию того или иного изображенного сюжета как символ Рая на земле — «Эдема сколок сокращенный»185, - но симптомом внутренней духовной жизни, выражающим тенденцию преодоления традиционной линейной манеры восприятия предмета во времени. Интересно то, что развитие символистских идеалов в России происходит как раз на волне первого серьезного обращения к искусству конца XVIII - начала XIX века, в том числе, к садово-парковым ансамблям и полотнам художников, ставивших в своем творчестве задачу поэтического отражения иллюзорно свободных, но реально все же искусственных императорских и усадебных парков - Сем. Ф. Щедрина, А. Мартынова и др. Именно художники группы «Мир искусства», на творчество которых большое влияние оказала западноевропейская культура, оживляют на своих полотнах незримые шорохи листвы, разросшейся за истекший век в таинственные кроны видений. Символизм в России, раскрывающийся через особую ауру духовной энергии образов, рождался не только под влиянием внешних «заграничных» веяний времени, но и изнутри, что представляется особенно важным фактом, так как еще раз доказывает непосредственную спаянность обстоятельств и чаяний внутренней жизни символистов с художественным строем их искусства. Усиление романтической тяги к возврату назад, к обретению, может быть, того никогда не бывавшего, что представляется пленительным, исходя из преображенных свидетельств условной реальности искусства, привело к совмещению и синтезу влияний среды, насыщенного исторической памятью бытового пространства, и мечты, вырастающей из личных надежд и иллюзий. «Каждое лето, отдыхая за городом, Вы прикасаетесь к великому великолепному прошлому, и что утаивают от Вас маленькие молчаливые дворцы, Вы угадываете по шелесту древних деревьев и голосам светлых падающих фонтанов. Вам следовало бы написать книгу «Петергоф» или издать альбом с гравюрами и кратким текстом к ним» , — советовал P.M. Рильке А. Бенуа летом 1901 года — времени, когда художник жил и работал в
Ораниенбауме. В изобразительных циклах А. Бенуа на тему Петергофа, Ораниенбаума, Павловска, Версаля (прежде всего, речь идет о раннем этапе творчества мастера) наравне с реалистическими, можно найти образы, в эмоциональном строе своего пейзажного пространства несущие ту напряженную интенсивность, которая характеризует их как символистские. И хотя интенсивности этой присущ игровой характер, о чем не раз писалось в искусствоведческой литературе, она не лишена того сверхвидимого, отчасти «гофмановского» начала, которое дает привычным «ландшафтным видам» новые пространственно-временные возможности, таящиеся в затаившихся формах вещей и пейзажей, что оказывается очевидным благодаря художественному языку самой картины. Внутренние голоса увлекаемого от своего первоначала пространства парка, напряженная жизнь времени во фрагменте воскрешенной сцены становятся главными героями А. Бенуа и К. Сомова, подчеркивавших напряженное уединение жизни своих образов стилистическими приемами - ракурсами, акцентирующими позы архитектуры, скульптуры и самого «ландшафта» внутри фрагмента основы — холста или бумаги.
Почему возникает эта тяга к возвратам, внутри которых у символистов всегда ощущается разлом видимого и исчезнувшего - двоемирие? Частично, ответ можно найти в статье А. Бенуа «Петергоф в XVIII веке», появившейся в 1902 году: «Очень характерно для XVII и XVIII веков — это напряженное стремление людей водворить хоть для некоторых для своих представителей — истинный рай на земле»187. Именно культ иллюзии и мечта о совершенной счастливой гармонии влекла А. Бенуа, К. Сомова в сады Павловска, Ораниенбаума, Версаля (также как P.M. Рильке в Петергоф); гармонии отнюдь не лишенной иронии, печали и глубины невысказанного одиночества, но обладающей тем масштабом замкнутого в себе пространства, который внушает чувство исключительности и независимости искусства от всего привычного, обыденного, бесследно исчезающего.
Поиск идеального пространства, где бы естественно жила иллюзия, и дал мирискусникам ощущение мировоззренческой близости к эпохам Людовика XIV, Людовика XV, Елизаветы Петровны, Людовика XVI, Екатерины II, Павла I и Александра I - историческим периодам романтизировавшимся и романтизировавшим. Живая и непосредственная связь с «милыми тенями» бабушек, матерей, отцов, о которой писал в своих мемуарах Е.Н. Трубецкой , проецировалась на область грез и воображения, достигнув в конце XIX века той иллюзорной надсловесной эмоциональной реальности, которая и дала символизм как художественное направление, выражающее новое мировоззрение. Нелинейное восприятие времени, смещенное на разные духовно индивидуализированные дистанции, обуславливает и новую интерпретацию символа, отходящего от исторически традиционной логики знакового построения, делающегося статичным для него. Символ становится контрапунктом художественных параллелей, включающихся в новый эмоционально считываемый живописный образ не только на основе игры, но и внутренней веры в искусство. Именно этот процесс можно наблюдать и в эволюционирующих образах садов символистов. Контрапункт разномасштабных эстетических, исторических, философских интонаций, раскрываемых на уровне непосредственной реакции на само художественное произведение, преображает натурный садово-парковый мотив в символ-образ, образ, лишенный повествовательности, но обладающий новой говорящей сама за себя речью «чистой живописи». И если во второй символистский период в творчестве художников «Голубой розы» эти тенденции набирают полную и очевидную силу, то в творчестве «старших символистов», т.е. мирискусников, они также потенциально ощутимы как в поисках новых, более интенсивно и напряженно звучащих художественных решений в русле стиля модерн, так и в особом подходе «вживания» в образ, при котором возникает вакуум времени и пространства, дающий иллюзию не столько ретроспективизма, сколько ностальгии, внутреннего самоощущения близости к домашним мечтаниям и сердечным утопиям русской барской жизни или версальского двора.
Сады на грани видимости: иконография сказочного пространства в творчестве М.А. Врубеля
Обращаясь к проблеме символистского пейзажа в России, в основе рождения визуальной конструкции которого лежала тоска по идеальному пространству, восходящему к небесному архетипу Сада, нельзя не коснуться тех пространственных метаморфоз, которые сообщают иллюзорным образам полотен М.А. Врубеля эмоционально подвижную атмосферу художественно организованной реальности. Подобная тема сложна для трактовки, прежде всего, вследствие обостренного столкновения двух подходов восприятия искусства М. Врубеля, которые именно в его творчестве достигают грандиозного напряжения, по существу, внутри короткой дистанции. Пламенная энергия живописного языка М. Врубеля уже сама по себе рождает такую динамику внутренних связей, вытекающих из органичного взаимодействия цвета, ритма, формы, что художественный смысл способен быть воспринят вне уровня сковывающих пояснений, веды «роза есть роза есть роза есть роза»224. Подобный подход возникает не только в русле современных аналитических методов исследования в духе постмодернизма. Эмоционально насыщенная, исполненная собственной ассоциативной логики колористическая фактура и композиционная структура полотен М. Врубеля непосредственное влияние оказывали и на современников художника, в том числе на символистов более молодого поколения круга «Голубой розы». В.Д. Милиоти писал: «Это был переворот в методах трактовки декоративных плоскостей. Достаточно сказать, что в нем уже были элементы кубизма, но не дошедшие до абсурда, благодаря срабатывавшему влиянию его огромного чувства красоты» . Именно эта структурная новизна формального изобразительного языка, несущего в самом себе властный заряд творческих внушений, ограничивая литературную описательность, ставит повышенные требования перед вторым подходом - интерпретационным, неотделимым от анализа иконографических мотивов, отражающих незримую перспективу внутренних переживаний: «Как "техника" — есть только способность видеть, так "творчество" — глубоко чувствовать, а так почувствовать — не значит погрузиться в прелестную меланхолию или взвиться на крыльях пафоса, на какие так таровата наша оболочка легко впечатлевающегося наблюдателя, а значит — забыть, что ты художник и обрадоваться тому, что ты, прежде всего, человек»"" . Образная структура работ М. Врубеля чрезвычайно сложна в силу неотъемлемого для символизма духовного напряжения, вошедшего в русское изобразительное искусство через раскрепощение творческого русла эмоционализма, связываемого с именем художника: «Эмоционализм — это импрессионизм, дошедший до синтеза, до обобщения; в нем из настроения рождается эмоция - так, как от природы впечатления - в импрессионизме. Это целое новое мировоззрение в живописи. Родоначальник русского эмоционализма - Врубель, великий эпический «тератерный» поэт...» , — писал Б. Липкин в своей знаменитой статье. Конечно, в настоящее время, очевидно, что искусство М. Врубеля далеко не ограничивается этой характеристикой, более применимой к П. Кузнецову, П. Уткину и другим. Мистическая чувствительность М. Врубеля, задавая высочайший внутренний темп психологическому переживанию, не ограничена лирической природой эмоции. Масштаб его работ всегда соответствует более грандиозным, изматывающим духовные силы, синтезированным демонам-образам иллюзии, рождающимся внутри кульминационной формы романтического мировосприятия художника: Бесспорно: смысл всех сил — ширять в просторе И посылать наружу свой разряд. Меж тем ... От уз, в которых целый мир страдает,
Свободен тот, кто волю обуздает228. Однако, сама ориентация на потустороннее, эмоциональное воздействие произведения, заключающего в себе цепь внутренних ассоциаций, дает определенный ход в вопросе восприятия образного строя полотен М. Врубеля, связанного, прежде всего, с визуальным подобием индивидуальному видению, а не внешним, по существу прикладным, явлениям. Духовная проблематика творчества художника затрагивает целые сферы эстетических, этических и религиозных идеалов, ибо «нет прекрасной поверхности без страшной глубины» . Не погружаясь во всю эту полифонию, в данном случае будет рассмотрено одно из проявлений образного мира работ М. Врубеля. Видя богатство эмоциональной фактуры, нельзя не задаться вопросами, каково художественное пространство существования его воображаемых героев и возможно ли за часто встречаемыми растительными мотивами на полотнах мастера увидеть иконографию сада?
Однозначного ответа, конечно, не существует, так как и пространство у М. Врубеля подвержено той же призме взгляда, которая преображает его в «удивительно сложный узор, похожий на угасший кратер или пейзаж на луне...»" . Эти слова С. Яремича, относящиеся к «Демону», можно, по сути, распространить на все пейзажные и непейзажные фоны М. Врубеля, такие как персидские ковры или материи, испещренные цветочными и растительными орнаментами («Девочка на фоне персидского ковра», 1886, Киевский музей русского искусства; карандашный «Портрет Н.И. Забелы-Врубель», 1904, ГТГ; и другие), оживляющими поверхность собственными смысловыми интонациями. Однако, на мой взгляд, сам характер мотивов, сами особенности внутренней поэтики фантастических конструкций несут связь с незримой идеей сада. Что можно увидеть на образном уровне за таинственными кристаллами лиловых цветов в «Демоне сидящем» (1890, ГТГ), пламенеющими, словно духовные субстанции, в горячем стремлении к утраченному раю? Интересно, что на одном из вариантов данной картины из собрания Государственной Третьяковской галереи можно видеть иную трактовку этого магического пространства - грустящую фигуру на фоне цветущего кувшинками горизонта, преображаемого непрерывным вечерним пыланием не то заката, не то свечек-цветов. Не лишним будет напомнить, что кувшинка - один из любимых модерном мотивов — двойственный цветок, пленяющий внешней чистотой, но уходящий корнями в грязную воду. Но не только в «Демоне» можно найти эти органические трансформации реальной формы в искусственную конструкцию нового художественного мира. Не стоит забывать, что первые значительные творческие опыты М. Врубеля связаны с работой в Кирилловской церкви (1884, Киев) и Владимирском соборе (1887—1889), определившей не только сложение тематики и масштаб психологического насыщения его образов, но, как мне представляется, повлиявшей на развитие чувства восприятия природы через то трепетное отношение к малым явлениям хрупкой красоты — растениям, цветам, райским птицам - которое всегда было присуще церковным орнаменталистам (травникам), видевшим за ними большой духовный потенциал. Печально известные обстоятельства , связанные с отвержением эскизов М. Врубеля для росписей Владимирского собора, сосредоточили его артистическое мышление на исполнении орнаментов, в которые, в силу колоссального творческого подъема, он вложил новую, более высокую степень образного насыщения. М. Врубель не только усовершенствовал владение языком орнамента как выразительного средства, но и воспринял те поэтические подобия духовной красоты, которые связаны с растительными арабесками, являющимися символическими проявлениями горнего сада.