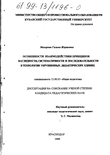Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Об особенностях русского мировосприятия, отражённого музыкальным искусством 12
1.1. О русском характере и эмоциональном отношении к Востокуи Западу 12
1.2. Об отражении времени в произведениях русских композиторов 30
1.3. Облик пространства в русской музыкальной классике 43
Глава 2. О константных чертах восточной ментальности 69
2.1. «Магическое» начало в восточном искусстве. Особенности переживания пространства и времени 69
2.2. Маком: особенности моделируемой пространственно-временной системы 96
2.3. Усули макома и продуцируемый ими пространственно-временной образ 109
2.4. Мелодика «Мушкилот»: отражение меняющихся представлений о времени и пространстве 118
2.5. Мелодика «Наср»: хронотопичные модели и образы. Первопространство, или остановленное время 129
2.6. Целостные пространственно-временные образы: типы, структура, семантика. Картина мира 148
Глава 3. О русско-восточном и западно-восточном музыкально художественном взаимодействии 162
3.1. Русско-восточный и западно-восточный диалоги как системы 162
3.2. О характере контактов в советский период 200
Глава 4. Русская художественная индивидуальность и восточная культура 221
4.1. О субъективном факторе и постижении инонационального: композиторы В. Успенский, А. Козловский, Г. Мушель 221
4.2. Способы и формы отражения константных особенностей восточного (узбекского) мировосприятия 248
4.3. О создании образа восточного героя в «Повести о Ходже Насреддине» и романе «Очарованный принц» Л. Соловьёва 312
4.4. Живопись Александра Николаевича Волкова и восточная монодия 321
Заключение 344
Список литературы 350
Приложения
Схемы усулей 3
Нотные примеры
- Об отражении времени в произведениях русских композиторов
- Усули макома и продуцируемый ими пространственно-временной образ
- О характере контактов в советский период
- Способы и формы отражения константных особенностей восточного (узбекского) мировосприятия
Об отражении времени в произведениях русских композиторов
Было время, когда по неведению и неразумию считалось неуместным называть себя азиатами. Но затем трудами многих просвещённых людей этот нелепый предрассудок сгладился. Прозорливый поэт уже воскликнул: «Да, азиаты мы». Как же мы не азиаты, когда сокровищница русская вся Сибирь, неизведанная, сохранённая, занимает большую часть Азии, в чем уже никто не будет сомневаться»1. Возможно, как раз в наши дни найдётся немало желающих оспорить это утверждение Н.К.Рериха. Но неоспорим факт существования в русской культуре художественных индивидуальностей, чьей творческой реализации способствовала не только своя, русская традиция, но в такой же, или даже большей степени, традиция инонациональная - восточная. Более того, полотна Н.К.Рериха, П.В.Кузнецова, так же как «Шехерезада» Н.А.Римского-Корсакова или «Половецкий акт» А.П.Бородина, как «Повесть о Ходже Насреддине» Л.В.Соловьева, оцениваются на Востоке не как ориенталистика, но как произведения, запечатлевшие самый дух Востока.
Какие же причины обусловили способность русских «схватить» сущностное в восточной культуре, отразить особенности восточного мировосприятия и даже побудили искать и найти в восточной художественной традиции средства для наиболее полного самовыражения?
Думается, комплекс взаимозависимых причин - географической, исторической, социальной и этнопсихологической.
Среди них последняя заслуживает отдельного рассмотрения - и как проясняющая многое в процессе творчества (процессе глубоко личном, подразумевающем внутреннюю свободу), и как сравнительно малоизученная.
Фактор этнопсихологический здесь подразумевает и особенности национального характера, обнаруживающие себя в процессе межнациональных контактов (они осознавались, подвергались исследованию и получали аттестацию в русских общественно-исторических, философских и литературных трудах с ХУШ века), и эмоциональную реакцию на эти контакты, запёчатлённую русским искусством, и некоторые существенные составляющие национального мировосприятия.
Приведём наиболее интересные суждения и заключения о русском нраве, которые могут дать ключ к решению поставленной проблемы.
А.С.Хомяков , современник Канта, считавшего, что отношение к другим народам есть основное проявление национального характера2, находил, что русским свойственна способность к сочувствию всем видам человеческого развития, способность сживаться с жизнью иноплеменников
Позже Н.Я.Данилевский выделил терпимость как «нравственный этнографический признак народа, служащий выражением существенной особенности всего его психического строя»3.
Те же качества называли В.О.Ключевский: «...народ восприимчивый и наблюдательный, исполненный терпимости» , и В.С.Соловьев, отмечавший «...мягкость и подвижность нашего народного характера, многогранность русского ума, восприимчивость и терпимость русского чувства»5.
В.О.Ключевский, изучавший нравы общества Древней Руси, особо оговаривал своеобразное понимание русскими одной из заповедей: «...любовь к ближнему полагали прежде всего в подвиге сострадания к страждущему... целительная сила милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слезы страждущему... сколько в том, чтобы смотря на его слезы и страдания, самому пострадать с ним...»6 Поскольку, согласно одному из положений Г.Г.Шпета, то типически общее, что присутствует в переживаниях людей как «откликах» на какую-либо идею или понятие (в контексте у Ключевского - на заповедь о любви к ближнему) и есть проявление этнопсихологии , можно предположить, что Ключевский выявил еще одно свойство русских - склонность к активному состраданию.
В том, что это наблюдение верно не только в отношении древнерусского общества (где «потребность в этом подвиге воспитывалась всеми тогдашними средствами духовно-нравственной педагогики») , убеждают, в частности, романы Достоевского или, по определению Н.А.Бердяева, «русские идеи», овладевшие умами на рубеже XIX-XX веков. «У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, - тип всемирного боления за всех. Это - тип русский... Он хранит в себе будущее России», - говорит Версилов у Достоевского в «Подростке» .
В сознании героя Достоевского «активная сострадательность» порождает идею служения России или человечеству и, что примечательно, сплавлена она с восприимчивостью и терпимостью в их крайнем выражении. Осознается это взаимообратимое сочетание как явление специфически русское: «Один лишь русский ... получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех... Я во Франции - француз, с немцем - немец, с древним греком - грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю главную её мысль»1 (Еще шаг - и названные особенности русского характера получат отражение, в частности, в призывах В.С.Соловьева к «национальному самоотречению» во имя «солидарности в высших всечеловеческих интересах»11.)
Н.А.Бердяев, стремясь вскрыть генезис «русских идей» (идей, которые находились во взаимообусловленной связи с национальным характером и реализовывались в процессе контакта с другими народами), на самом деле проследил исторические модификации проявлений всё того же взаимообратимого сочетания терпимости, восприимчивости и сострадательности12: «это русская идея, что невозможно индивидуальное спасение... что все ответственны за всех» ; «мессианская идея... проходит через всю русскую историю...» ; «...в России вынашивалась идея братства людей и народов.» э
Усули макома и продуцируемый ими пространственно-временной образ
Пространство это в целом качественно разнородное (в чём убеждает и почти обязательное присутствие звукоизобразительных моментов), чувственно воспринимаемое (становящееся) во времени, а не гомогенное, абстрактное, пустое. Перечисленное заставляет вспомнить мифопоэтический неразделимый хронотоп, где «пространство оживотворено, одухотворено и качественно разнородно»"5, не является идеальным, абстрактным, пустым, «не предшествует вещам его заполняющим, а наоборот, конституируется ими. ...всегда заполнено и всегда вещно; вне вещей оно не существует» Мифопоэтическое сознание «не разделяет пространство и время... описание пространства... предполагает определение «здесь-теперь», а не просто «здесь». Пространство и время образуют в этом случае неразрывное единство - хронотоп»117. (Знаменательным в этом контексте представляется противопоставление, сделанное Свиридовым: «Картинное, образное симфоническое мышление, а не психологическое») .
Уже во второй испанской увертюре Глинки, «Воспоминании о летней ночи в Мадриде», пространство модифицируется именно в этом направлении (от пустого, абстрактного - к хронотопичному). Хотя в первых тактах возникает, казалось бы, знакомое, «русское» ощущение воздушной среды (Асафьев говорит об импрессионистических красках этой увертюры), но вскоре, в соответствии с программой воссоздаётся образ слышимого, звучащего пространства - ночь, ничего не видно. В воздухе реют звуки (провозвестники будущих тем), дающие стереофонический эффект объёмности, а не затухания или дления в бесконечности - пространство испанское, городское - Мадрид. Когда же «выплывают» темы в откристаллизованном виде, темы ярчайшего жанрово-узнаваемого типа, они сразу вызывают ассоциации с картинкой, сценой, зримым образом - и слушатель «видит» пространство. (Любопытные трансформации претерпевает отдалённый аналог русской протяжной - одноголосный мавританский напев. Изначально в нем суровая отрешённая созерцательность и та же потенция к бесконечности. Но в процессе бытия в форме напев утрачивает эти свойства: монодийный, он гармонизуется, вбирает интонации других жанрово-определённых тем, изменяет свою времяизмерительную природу под воздействием городского, централизованного пространства -европеизируется, становится агрессивно-квадратным, превращаясь в марш. Первое его явление вызывает ассоциации с пейзажной зарисовкой, последнее - с жанрово-батальной сценкой.) «Слышимое» пространство увертюры -гомогенное, абстрактное, пустое; «зримое» - обнаруживает тенденцию к хронотопичности. Их совмещение, наплыв, рождает образ рвущейся к простору, бешено-кипучей живой жизни, спящей или затаившейся в каменно-ограниченном пространстве города.
Думается, и интерес к старинной полифонии у позднего Глинки, и, в наши уже дни нелюбовь к её «инструментальной» разновидности Свиридова, как и владевшая воображением Танеева идея создания полифонии «русской», явления одного порядка: следствие переживания отечественными композиторами пространства-времени как мифопоэтического хронотопа и интуитивного неприятия рационализированного пространства Нового времени. Последнее объясняет особенности русской лирики. Устремлённая в бесконечность, тяготеющая к безграничному простору, она как бы противится камерности, «комнатности», а следственно, и замкнутости на сугубо человеческом. За редкими исключениями (самые яркие - у Чайковского) несёт в себе ощущение причастности к природе, стихиям, космосу, что и сообщает ей неизбежно объективный характер. Даже у Скрябина, в лирике которого явно присутствуют томительная плотская нега и чувственность , во времени и пространстве происходит «очищение» от физиологически-субъективного. В отличие, например, от «Ромео и Джульетты» Чайковского, где векторно-направленное время и рационализированное пространство обуславливают театрально-человеческие ассоциации, у Скрябина стремление вывести и первое, и второе за рамки обыденных земных измерений (время - вектор, но вектор внутри круга; пространство - пульсирующий космос) приводит к тому, что «Наслаждения» уже в Третьей симфонии становятся переходом в миры, от человеческой чувственной «плотскости» освобождённые. Иными словами, вследствие переживания русскими композиторами пространства-времени как хронотопа даже экстатическое обнаруживает тенденцию переродиться в созерцательное (многое зависит от времени дления) , созерцательное же становится этапом на пути интуитивно-чувственного постижения мира, приобретая иногда мистический характер. Напомним, «созерцание» в данном контексте подразумевает процесс постижения и осмысления становящегося музыкального пространства. А становление его в русской классике (подавляющем большинстве опусов) имеет свои особенности.
Создаётся впечатление, что русские композиторы словно изначально «видят» внутренним взором некое пространственно-откристаллизованное архитектоническое целое и, лишь подчиняясь природе музыки, развёртывают его во времени. Причём, формуя музыкальный материал, намеренно обнажают конструкцию - дистанцируя воспринимающего от воспринимаемого. Автор, стоящий как бы над произведением, побуждает слушателя занять ту же позицию.
Уже в условиях, когда выбор в большой мере был предопределён исторической ситуацией (необходимостью освоения инонационального опыта, набором гомофонных форм-схем, предлагаемых эпохой) русские композиторы обнаружили пристрастие к определённому типу музыкального формования, такому, где архитектоническое преобладало бы над процессуальным (речь идёт об отмеченной выше тенденции к экспозиционному изложению материала, вариационному, полифоническому, а не разработочному типу развития, тяге к «связям плотным без немецких подходов»). Национальное начало воплощалось и, что примечательно, осмыслялось авторами не столько на уровне содержания, сколько на уровне формы, точнее, процессов формообразования.
Вспомним Глинку: «...я не мог продолжать 2-ой части, она меня не удовлетворяла. Сообразив, я нашёл, что развитие Allegro ...было начато на немецкий лад, между тем как общий характер пьесы был малороссийский....»121, затем Мусоргского, писавшего Римскому-Корсакову: «Вам как будто страшно, что Вы по-корсаковски пишете, а не по-шумански. ... симфоническое развитие, технически понимаемое, выработано немцем как его философия. ... Немец, когда мыслит прежде разведёт, а потом докажет, наш брат прежде докажет, а потом уж тешит себя разведением. ...надо сделаться самим собой» .
О характере контактов в советский период
В мелодике инструментальной части («Мушкилот») более отчётливо, чем в усулях или мелодике вокальной части («Наср»), проступают следы постепенно меняющегося восприятия основополагающих координат картины мира - явственно различим живой процесс трансформации не уходящих, но переосмысляемых в соответствии с новым видением действительности старых схем. Действующие в мелодике «Мушкилот» организующие принципы - наиболее репрезентативное в макоме отражение разных этапов эволюции мифопоэтического сознания.
Типы хронотопичных образов, продуцируемых мелодикой каждой пьесы инструментального раздела, определяются особенностями развертывания господствующей здесь формы пешрав. .Различные варианты ее, представленные в «Мушкилот» шести макомов, свидетельствуют: к тому моменту, когда начал записываться «Шашмаком» - 20-е годы XX века, потенции этой формы к развитию были ещё далеко не исчерпаны159. Это возможное объяснение тому, что в одних образцах выявляется качественная разнородность составных частей возникающего пространства, репрезентируемого основными строительными единицами формы - хона и бозгуй (см.: «Тасниф» макома «Рост», «Наво мухаммаси» макома «Наво», «Тасниф» макома «Сегох»), в других - нет («Гардун» макома «Рост», «Тарджи» макома «Наво», «Баста нигор сакили» макома «Сегох», «Мухаммас» макома «Ирок» и др.). Данный феномен - отражение исторических изменений, знаменательных в свете рассматриваемой проблематики. И вот почему. Основополагающий принцип организации целого, как на уровне раздела «Мушкилот», так и на уровне отдельных его пьес, - кумулятивный (принцип «присоединения», «нанизывания»). Следствием его реализации должен был бы стать образ линейного пространства1 , понимаемого как ряд, поскольку кумулятивная схема порождение того этапа в развитии сознания, когда ни движение, ни время ещё не были освоены. Однако непосредственно воспринимаемый фонический пространственный образ и всей инструментальной части, и большинства пьес, её составляющих, - образ динамического линейного пространства, движения через пространство, «пути», связанного с осознанием разнородности развёртывающихся его частей. Значит, рождение охарактеризованных образов обусловила не архаическая кумулятивная схема, а ее более поздний вариант (варианты), который возник в результате диалога со схемой циклической, представляющей следующий этап развития образного сознания, ассоциирующийся с утверждением представлений о действии-движении.
Очевидно, что диалог был продолжителен во времени и отличные один от другого хронотопичные образы, продуцируемые разными типами формы пешрав, отразили отдельные его фазы. Так, И.Р.Раджабов, ссылаясь на сведения, почерпнутые из вышеупомянутых трактатов XVI-XVII веков, утверждает: «Раньше пешравы не имели бозгуя, а состояли сплошь из хона (хона - развивающаяся и расширяющаяся часть мелодии, после каждого оборота которых следует неизменяющаяся часть мелодии бозгуй -повторение)»161. В «Шашмакоме» есть пьеса, единственной строительной единицей которой является хона, это - «Ашкулло сакили» из макома «Дугох» (пример 1). Уже она экспонирует образ пространства, где линейный ряд «изгибается», а значит - динамизируется, вследствие взаимодействия схем кумулятивной и циклической.
В основе времяпространственного образа «Ашкулло сакили» кумулятивная цепь из десяти одинаковых по масштабам хона1 2: последовательно осваивая все более высокие по уровню пространственные участки лада, они нанизываются одна на другую. Однако процесс ладоинтонационного развёртывания заставляет вспомнить и о схеме циклической: на уровне целого просматриваются все три её этапа - освоение начального пространства, пересечение пространственно-топологической границы и возвращение к исходному. Пересечение границы однозначно оцениваемое слухом как событие, привносящее элемент движения, действия, происходит не единожды; события - это разные скачки, образующиеся на грани построений, посредством которых осуществляется перемещение или «захват» новых пространственных зон по вертикали. Но на уровне целого главным из них становится скачок на дециму, знаменующий наступление кульминационного раздела (аудж - V, VI хона) и переход от профанного (предшествующая ауджу зона «низкого») к сакральному (аудж - зона «высокого»)163. Можно различить и три расходящихся от центра (I хона) концентрических круга, возникающих в процессе ладоинтонационного становления (I—IV хона, V-VII хона, VIII-X хона)164. Если бы не хона, где циклическая схема реализуется не полностью (второй и третий её этапы во II, VII, X хона; только второй, изгибающий ряд в цикл в III, IV, V, VI хона), возник бы образ статического, радиального пространства. Рождается же динамичный и не совсем обычный для макомов образ дискретного движения в раздвигающемся по вертикали и вновь сужающемся пространстве. Остаётся непреодолённым противоречие между двумя образами - статичного радиального, и динамического линейного пространств. (Даже аудж здесь располагается не в точке золотого сечения, как обычно, а в центре формы, умножая потенции к статике)
Способы и формы отражения константных особенностей восточного (узбекского) мировосприятия
Скромнейший Виктор Александрович Успенский, упорно аттестуемый музыковедами (за исключением В.М.Беляева5 и Ю.Г.Кона6) музыкантом этнографом и лишь потом - композитором , как оказывается при знакомстве с его немногочисленными сочинениями, настолько глубоко проник в дух восточной музыки, что почти все им открытое в процессе решения сложнейшей задачи (создание первых национально-определённых многоголосных произведений на базе монодийной традиции) было продолжено узбекскими авторами в 70-80 годы и позже .
Вероятно, фольклорные экспедиции, предпринятые В.Успенским, несмотря на все сопряжённые с ними тяготы, способствовали не только более полному погружению в стихию национального (в его опусах неуловимое прежде для европейского уха своеобразие афганского, узбекского, казахского - «Четыре мелодии народов Средней Азии», туркменского - «Туркменское каприччио», представлено так явно, что его уже нельзя не услышать), но и давали композитору возможность удовлетворить скрытую в душе композитора потребность в единении с природой и людьми, живущими в гармонии с ней. Очевидно, в таких условиях отчётливее обнаруживалось созвучие его мировосприятия (в частности, переживания пространства и времени) тому, что открывалось в восточной музыке. Неслучайно В.Успенский смог передать в музыке специфическое состояние лирико-медитативной сосредоточенности (арии из драмы «Фархад и Ширин», «Караван» из симфонической сюиты «Муканна», «Лирическая поэма» и др.) и связанное с ним ощущение бесконечно длящегося времени (этим объясняется присутствующая во многих его сочинениях тенденция к созданию концентрической формы) - ведь он так любил и так хорошо знал экспонирующие аналогичный тип образности макомы, которые называл «музыкальными поэмами». (От названных опусов русского автора тянутся нити преемственности к лирико-медитативным симфониям М.Таджиева и М.Махмудова.)
Время было сложным. На долю В.Успенского выпало немало горестей, и это не прошло бесследно: болезненная чуткость и восприимчивость сочетались в его характере с известной «закрытостью», сдержанностью в проявлении эмоций. Он и уловил резонирующие ноты в узбекском наследии, воссоздав в своей музыке особую форму переживания и выражения трагического. Это не бурно проявляющееся отчаяние, а безнадежно-отрешённое (предсмертная ария «Ширин» из драмы «Фархад и Ширин»9) или вынужденно подавляемое, почти страшное по скрытому напряжению чувство («Огнепоклонники у портала мечети» ).
Никто из исследователей не стремился выявить истоки яркой красочности музыки В.Успенского: упоминали обычно об «импрессионистических влияниях», не задумываясь, что его звукопись обусловлена ладовой природой узбекской музыки, и «совпадения» с импрессионизмом носят внешний характер. Не замечали, что композитор в окружающих восточных реалиях увидел то, чего ни один музыкант кроме него не разглядел: «У меня появилась такая мысль, когда я интересовался красками и орнаментикой мечетей в Бухаре, Самарканде и Ташкенте, видел повторяющиеся цвета (ультрамарин, коричнево-золотистый и белый): подойти к определению их основной тональности в музыке со стороны живописи, т.е. их цветового аккорда.
Предположим, что созерцание голубого неба, золотистых лучей солнца и белоснежных степей отразилось в орнаментике этими красками, которые по моему глубокому безотчётному убеждению, должны отразиться и в музыке ... Соотношение цвета и звука-есть. Подтверждает эту историю следующее обстоятельство: у них есть мотивы, при игре которых они надевают халаты определённых цветов\ ... Я чувствую в их музыке диезные тональности: h-moll, fis-moll, A-dur, е-moll..., из бемольных - только g-moll (без Es)...» (курсив мой Н.Ч.)
В.Успенский, обладавший способностью чувствовать связь между цветом и звуком, старался как можно точнее передать свои ощущения в творчестве, тонально- и л адово-разнообразном и необычном. А так как шёл он всегда от особенностей национального материала, то, в соответствии с замыслом и характером звукоидеи, где-то мог сознательно подчеркнуть импрессионистический штрих отдельными гармоническими вкраплениями («Узбекская поэма-рапсодия»), а где-то найти оригинальные средства и передать ощущение зноя («Караван»), блеск пламени («Заклинание огня») и пр.
Колористичность его музыки в большой мере связана с особо чутким восприятием и переживанием тембров восточных инструментов. Звучание их на опыте убеждало его в ограниченности выразительных возможностей темперированного строя. Он признавался, что после «погружения» в стихию восточной музыки европейская кажется «грубой и упрощённой» . У Успенского было оркестровое мышление (об этом косвенно свидетельствует «оркестральная», многослойная фактура всех его фортепианных пьес и её качества, связанные с выявлением полифонических потенций узбекской народной музыки: композитор стремился передать контрапункт мелодии и облекаемого им в «мелодическую плоть» усуля). Многоголосная ткань в его прозрачных партитурах, сотканная из различно окрашенных тембровых голосов-нитей, обладает особой «переливчатостью», чем напоминает специфическую окраску национальных узбекских тканей и такие образцы «звучащей» живописи А.Н.Волкова, как «Караван» (полосатый)14. Но она совершенно лишена тех свойств, которые при прослушивании музыки русских композиторов вызывают эффект «роскоши звучания». Напротив, ей присущи известная графичность и некоторый аскетизм, отвечающий духу национального инструментального исполнительства. (Позже та же особенность будет отличать симфонические и камерно-инструментальные опусы Н.Закирова и Т.Курбанова.) Конечно, среднеазиатский инструментарий бесконечно разнообразен и обладает определёнными потенциями к выражению знойно-чувственного (хотя откровеннее оно выражается в звучании человеческого голоса), но в силу особенностей своей натуры В.Успенский не стремился их ни выявлять, ни развивать, а старался воссоздать характерный эмоционально-звуковой эффект, производимый игрой старых узбекских мастеров-ансамблистов. Звуки народных ударных инструментов он ощущал как разные цветовые тона - его многослойно-полифонические усули (в том числе мелодизированные) в обработках и оригинальных сочинениях воспринимаются на слух как сочетание рельефных и разноокрашенных полос. Это настоящие ритмические партитуры, предвосхищающие мелодико-ритмическое остинато в симфониях 70-х-90-х годов и тембро-ритмические темы в полифонических опусах Т.Курбанова (Прелюдия и фугетта «Свадебная», «Прелюдия и фуга памяти Авиценны» и др.) D. Вдохновлённая наследием ритмическая прихотливость и сложность произведений В.Успенского заставляют вспомнить И.Стравинского. Вспомнить, но не говорить о подражании. Не только у русских композиторов, работавших в восточных республиках, у узбекских коллег и современников В.Успенского не найти ничего подобного по ритмической сложности и разнообразию (см. например «Четыре мелодии народов Средней Азии», «Туркменское каприччио», фортепианные пьесы).