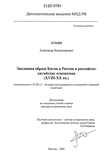Содержание к диссертации
Введение
I. Формирование абхазской диаспоры в странах Арабского мира (XVIII-XIX вв.) 18-44
1. «Восточный вопрос» и столкновение интересов мировых держав на Кавказе 18-24
2. Махаджирство и переселение абхазов в Османскую империю (XVIII- XIX вв.) 25-44
1. Проблема махаджирства 25-36
2. Абхазский вопрос 37-44
II. Абхазы в социальной структуре арабского общества (XVIII-XIX вв.) 45-90
1. Абхазы в Арабском мире: жизненные стратегии 47-79
2. Хайреддин-паша – Великий просветитель Востока 80-90
III. Этнокультурное развитие абхазской диаспоры 91-108
1. Расселение и численность 91-96
2. Система жизнеобеспечения 97-102
3. Социально-профессиональная структура 103-104
4. Духовная культура 105-108
IV. Абхазская диаспора и историческая родина 109-122
1. Проблема репатриации 109-118
2. Международная ассоциация абхазо-абазинского народа 119-122
Заключение 123-127
Приложения 128-180
Список литературы 181-192
- Проблема махаджирства
- Хайреддин-паша – Великий просветитель Востока
- Система жизнеобеспечения
- Международная ассоциация абхазо-абазинского народа
Введение к работе
Миграционные перемещения населения всегда составляли неотъемлемую часть истории человечества. Собственно говоря, само образование ойкумены стало результатом последовательных волн миграций древнейшего и последующего поколений жителей Земли, осваивавших новые территории и природно-экологические ниши. С возникновением этнической дифференциации человечества перемещения народов стали сопровождаться транстерриториальным переносом культурных ценностей, которые отныне начинают развиваться в иноэтническом и инокультурном окружении. С этим связано возникновение феномена диаспоры, одному из этнических сегментов которой посвящена данная работа.
Одно из самых заметных диаспоральных образований в мире представляют выходцы с Северного Кавказа, обосновавшиеся в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Образование северокавказской диаспоры – это сложный процесс, требующий комплексного изучения, прежде всего анализа сложной геополитической ситуации, сложившейся в середине XIX века на Кавказе, где столкнулись интересы России, Османской империи, Ирана, Англии и Франции, а также внутриполитические реалии самого Западного Кавказа.
Вследствие ряда исторических факторов и обстоятельств, на территории ряда регионов Ближнего Востока и Северной Африки, входивших в состав Османской империи (ныне – территории независимых стран: Турции, Сирии, Иордании, Израиля, Египта, Туниса и др.), образовалась значительная по численности, географии расселения и степени общественно-политического влияния северокавказская диаспора с достаточно сложной этнической структурой. В составе диаспоры представлены практически все народы Северного Кавказа: адыги, абазины, убыхи, осетины, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, большинство народов Дагестана. Составной частью этнической структуры северокавказской диаспоры является ее абхазский сегмент, который и представляет предмет настоящего исследования.
Северокавказская диаспора в арабском мире известна как ал-шаракис, т.е. «черкесы». Это обстоятельство требует некоторых пояснений. Экзоэтноним «черкесы», встречающийся в письменных источниках с XIII в., применялся как обобщающий по отношению к нескольким этносам, самоназвание которых было «адыги». К ним относятся современные адыгейцы, кабардинцы, черкесы и шапсуги, предки которых являлись автохтонным населением Северного Кавказа. Адыгский язык вместе с абхазским, абазинским и убыхским входит в абхазо-адыгскую группу северокавказской языковой семьи. На ранних этапах махаджирства большую часть северокавказских иммигрантов в странах Ближнего Востока и Северной Африки составляли собственно черкесы. Впоследствии этот этноним был перенесен на представителей других северокавказских народов, переселение которых в массовом порядке происходило хронологически гораздо позже, уже в XIX в., став таким образом собирательным как для адыгов, так и для всех выходцев из региона, хотя многие из них не родственны черкесам по языку. Таким образом, определения «северокавказская диаспора» и «черкесская диаспора» являются абсолютно идентичными.
Актуальность темы исследования.
Проблема изучения истории и культуры зарубежных черкесов относится к числу наиболее актуальных в современном кавказоведении. Долгое время эта тема по ряду политических и идеологических причин была табуирована для исследователей. Ее изучение началось сравнительно недавно, поэтому многие вопросы нуждаются в полновесном и всестороннем анализе. В значительной мере это относится к изучению зарубежных абхазов и их места в структуре северокавказской диаспоры.
Тему исследования актуализирует также и ряд общеисторических причин. В современном глобализирующемся мире миграционные перемещения людей все более разрушают этнически однородные ареалы ойкумены, образуя значительные диаспоральные анклавы в нетрадиционных местах расселения для носителей данной этнической традиции. Эти процессы все более расширяются, набирают силу, а потому нуждаются в осмыслении и изучении различных аспектов формирования и функционирования «старых» диаспор, к которым относится и северокавказская, а также их адаптации к условиям меняющегося мира.
Последние события в мире свидетельствуют, что диаспоры все громче заявляют о своих гражданских, политических и гуманитарных правах в странах проживания. Кавказские переселенцы, подвергаясь более чем столетней ассимиляции, сохраняют еще в той или иной степени свои отличительные особенности, в том числе этническое самосознание, языки, обычаи и этническую культуру. Многолетнее стремление северокавказской диаспоры к институализации форм своей культурной деятельности за прошедшие десятилетия реализовано, что определяет актуальность их изучения.
В качестве нового явления можно отметить усиление внимания диаспоры к процессам, протекающим на исторической родине. Представители диаспоры ревностно откликаются на события, происходящие на Кавказе, их не оставляют равнодушными как позитивные, так и негативные процессы в регионе, в ряде случаев диаспора выступает в качестве активного политического актора, что достаточно ярко проявилось в период драматических событий в Абхазии (1992-1993 гг.) и Чечне (1994-1996, 1999-2009). В последние годы возросший интерес к «черкесскому вопросу» связан в первую очередь с проведением в 2014 г. Зимней Олимпиады в Сочи.
Растущая нестабильность в мусульманских странах, гражданская война в Сирии, демографические и иные проблемы поднимают значение фактора диаспоры во внутренней жизни республик Северного Кавказа и Абхазии на новый уровень. Одним из выражений этого является широкое общественное движение за репатриацию зарубежных кавказцев на историческую родину, поддержка этого начинания в Абхазии на государственном уровне, а также начавшийся процесс репатриации потомков махаджиров. Эти причины, а также особая историческая роль кавказских переселенцев в странах их компактного проживания, их политический статус в каждой из стран, самобытное духовное наследие, связывающее Арабский мир с Кавказом, возрастание роли диаспор в международных отношениях делают исследования в области истории северокавказской диаспоры в странах Ближнего Востока и Северной Африки чрезвычайно важными и актуальными.
Актуальность исследования определяется еще одним гуманитарным аспектом: исчезновение любого, пусть самого малочисленного, народа, его языка и культуры, невосполнимо для человечества, ибо каждый из них вносит свой посильный вклад в общечеловеческую культуру, оставляя неповторимый след в истории мировой цивилизации.
В целом можно согласиться с замечанием В.А. Тишкова о том, что в СССР о диаспорах в международно-политическом аспекте фактически не писали, а о некоторых даже и не знали. Именно конфликты и новый характер миграционных процессов конца XX — начала XXI в., активное влияние диаспор на ситуацию и внешнюю политику стран своего происхождения или исхода, а также стран проживания или пребывания придали данной теме общественную значимость и научную привлекательность.
Степень разработанности темы
Несмотря на широкую распространенность термина «диаспора» в научной литературе, однозначной дефиниции этого понятия нет до сих пор. Действительно, термин «диаспора» употребляется весьма часто, однако в самых различных коннотациях. Видимо, подразумевается, что этот термин настолько ясен, а явление, им обозначаемое, настолько определенно, что особых комментариев просто не требуется. Но применительно к специальной теме даже самый беглый взгляд показывает, что термин используется для обозначения чрезвычайно широкого круга разнородных явлений, что отчасти лишает его эвристического значения. Противоречивость ситуации отразилась даже на страницах разнообразных отечественных и зарубежных энциклопедий и энциклопедических изданий. Практически все они отмечают, что понятие «диаспора» (от греч. diaspora - «рассеяние») возникло для обозначения и осмысления формы и способа многовекового существования еврейского народа в отрыве от страны своего исторического происхождения, среди множества различных народов, культур и религий.
В ряде зарубежных изданий, например, в Encyclopedia Britannica, этот термин по-прежнему трактуется только через призму еврейской истории и относится только к жизни этого народа. Другие словари обычно добавляют, что со временем термин стал употребляться расширительно, для обозначения национальных и религиозных групп, живущих вне стран своего происхождения, в новых для себя местах, в том числе – и на положении национально-культурного меньшинства.
По мнению Н.П. Космарской, начиная с конца 1980-х гг. (в России — несколько позже) началось активное проникновение термина «диаспора» в научную литературу, а также в язык политиков, деятелей культуры, журналистов и т. п. В рамках этой расширительной трактовки диаспорами стали называть множество очень разных экспатриированных этнических меньшинств, включая и те, что достигли высокой стадии вынужденной или добровольной ассимиляции, а также те группы, которые, формально проживая за пределами исторической родины, считают себя автохтонами по отношению к территории своего нынешнего расселения.
В последние годы именно это второе, производное значение термина «диаспора» становится наиболее употребительным, оттесняя его первоначальную семантику. Такое понимание одним из первых сформулировал Г. Шеффер, который отмечал, что диаспоры образуются путем насильственной или добровольной миграции этнических групп за пределы своей исторической родины (homeland). Они живут в принимающих странах (host countries) на положении меньшинств, при этом сохраняя свою этническую или этнорелигиозную идентичность и общинную солидарность. В дальнейшем было предложено множество определений понятия «диаспора», отражающих различные его аспекты. Так, по определению З.И. Левина, «диаспора – это этнос или часть этноса, проживающие вне своей исторической родины, сохраняющие представление о единстве происхождения и не желающие потерять стабильные групповые характеристики, заметно отличающие их от остального населения страны пребывания».
У. Сафран выделяет шесть базовых характеристик «классических» диаспор (на примере еврейской и армянской), которые вполне соответствуют особенностям черкесской диаспоры: 1. Рассеивание из единого центра в два или более «периферийных» места или иностранных региона; 2. Коллективная память о стране происхождения и ее мифологизация; 3. Ощущение своей чужеродности в принимающей стране; 4. Стремление к возвращению, или миф о возвращении; 5. Помощь исторической родине; 6. Сохраняющаяся идентификация со страной происхождения и базирующееся на этом чувство групповой сплоченности.
Что касается объекта данного исследования, то изучение формирования и истории абхазской диаспоры велось крайне неравномерно. Если турецкая часть диаспоры привлекла весьма активное (хотя также не вполне достаточное) внимание специалистов, то историография «арабского» сегмента абхазского зарубежья насчитывает лишь несколько наименований. Первый обобщающий очерк по зарубежным абхазам принадлежит Г.А. Дзидзария. В его классической монографии по проблемам истории Абхазии позапрошлого столетия на основе огромного количества разнообразных фактических материалов нашли широкое освещение не только вопросы многосложной истории выселения абхазских и других кавказских горцев в Турцию, но и дальнейшая тяжелая судьба махаджиров и их потомков. В монографии даются краткие сведения о пребывании абхазов в Сирии, Иордании, Египте.
Более развернутый очерк написан Ш.Д. Инал-ипа. В своей работе он рассматривает вопросы абхазской диаспоры со времени начальных этапов ее образования в первой половине XIX в. и до конца XX в. Опять-таки основное внимание уделяется абхазам, проживающим в Турции, но содержится ряд сведений об абхазах в арабском мире. Еще один обобщающий очерк по теме можно найти в монографии «Абхазы», в которой Ю.Г. Аргун описывает абхазов за пределами родины.
Среди специальных исследований, посвященных изучению конкретной проблемы абхазского зарубежья в арабском мире, выделяется статья Л. Кучберия на абхазском языке, в которой она детально описывает семейную жизнь абхазов, проживающих в арабских странах. Р.Х. Гожба (в другой транслитерации – Р.Х.Гуажба) предпринял исследование раннего этапа пребывания абхазов в Египте, а Б.Б. Шинкуба пишет о народах Западного Кавказа и Османской империи во второй половине XIX – первой половине XX вв. и последствиях махаджирства. Этим в основном исчерпывается историография проблемы в ее узком, абхазском дискурсе.
Широкий взгляд на северокавказскую диаспору в странах арабского мира позволяет раскрыть многие другие, более общие аспекты проблемы. Ценный фактический материал содержится в монографии А.В. Кушхабиева о черкесской диаспоре в арабских странах в XIX –XX вв., главной целью которой является выявление роли и места черкесских иммигрантов и их потомков в социально-политической жизни арабских стран в XIX –XX веках. Недостатком работы, на мой взгляд, является то, что автор не всегда различает этнические особенности «черкесов», вследствие чего не всегда возможно вычленить материал, относящийся не к собственно адыгам, а к другим этническим сегментам северокавказской эмиграции. Не меньшую ценность представляет другая работа А.В. Кушхабиева, посвященная «Международной Черкесской Ассоциации» и проблемам ее становления.
Богатый материал о жизни потомков махаджиров содержится в монографии Ф. Бадерхана. Автор рассмотрел вопросы истории образования северокавказской диаспоры, а также социально-экономическое и социокультурное положение потомков махаджиров в Сирии и Иордании .
Важным исследованием является монография Б.Р. Алиева, в которой автор освещает историю становления и динамику развития северокавказской диаспоры на территории бывшей Османской империи (современной Турции, Сирии, Иордании, Израиля, Ирака), а также в Западной Европе и США.
Проблематика махаджирства привлекала также внимание и арабских историков. ‘Абд ар-Рахман ал-Джабарти в своем многотомном исследовании Египта под властью Мухаммеда ‘Али (1806 – 1821) сообщает ценнейший фактический материал, который помогает в раскрытии темы данной работы. Некоторые сведения о черкесских мамлюках и их потомках содержатся в книге Расима Рушди, египетского писателя, по происхождению черкеса. Особый интерес представляет статья Калчо «Из Турции», где он, пишет о страшных бедствиях, постигших черкесов «на новой родине» и об их взаимоотношениях с местным населением.
В настоящей работе широко использовались материалы на арабском языке: работа профессора Дамасского университета ‘Абд ас-Салама ‘Адила «Общая география Сирии» ; работа американского востоковеда Нормана Льюиса «Nomads and Settlers in Syria and Jordan (1800 – 1980)» в переводе на арабский язык; книга «История Кавказа и Черкесии», также работа «Черкесские абхазы».
Отдельные аспекты проблематики темы раскрываются в англоязычных работах «Египет в Судане 1820 - 1881» Р. Хилла, «Новая история Судана» П. Холта, «Трансформация египетской элиты» Ибрагима Абу-Лухода и особенно – в книге Карпата Кемаля «Выселение черкесов с Кавказа и Балкан и их расселение в Сирии».
Внимание исследователей привлекла выдающаяся фигура Хайреддина-паши - великого просветителя Востока, великого визиря Туниса, великого визиря Османской империи, адмирала, маршала, автора первой Конституция на Востоке. Было несколько попыток изучения его биографии. Безусловно, хотелось бы отметить две книги, изданные на французском языке и посвященные широкой и разносторонней деятельности Хайреддин-паши. В какой-то степени они могут быть признаны источниками. Одна из них издана в Тунисе в 1970 году «Хайдраддин – министр-реформатор (1873-1877)», автор Монуки Смида; вторая – «Хайреддин и Тунис (1850-1881)» Г. С. Ван-Крикена , изданная в Лейдене в 1976 г. Обе книги переведены с французского Р. Г. Крючковым. Кроме того, Хайреддину посвящен целый рад статей, монографий, на которые ссылаются исследователи, изданы его личные воспоминания – «Наиболее прямой путь к познанию принципов государства».
Цели и задачи исследования
Учитывая отмеченную выше скудость историографического обеспечения избранной для исследования тематики, основная цель работы состоит в том, чтобы дать последовательную и всестороннюю характеристику исторического и современного состояния абхазской диаспоры в странах Арабского мира. Хронологические рамки определены периодом с XVIII по XXI вв. Нижняя граница связана с началом интенсивного миграционного движения абхазов за пределы исторической родины в регионы Ближнего Востока и Северной Африки; верхняя граница позволяет привлечь к исследованию материал, отражающий динамику политического и социокультурного развития абхазов диаспоры последних полутора десятков лет текущего столетия.
В контексте указанных целей и хронологических рамок определены задачи исследования:
рассмотреть причины и основные этапы вынужденной миграции населения с территории Абхазии;
проследить историю формирования абхазской диаспоры на территории Ближнего Востока и Северной Африки;
охарактеризовать территориальную, демографическую, социально-профессиональную и социокультурную структуру абхазской диаспоры в странах арабского мира;
выявить специфику положения абхазов в составе черкесской (северокавказской) диаспоры в регионах рассеяния;
выяснить роль и место абхазской диаспоры в общественной жизни стран проживания, проанализировать механизмы взаимодействия абхазов с доминирующим арабским окружением;
рассмотреть современные процессы в абхазской диаспоре в контексте новейших процессов общественно-политического развития арабских стран.
Научная новизна
В диссертационном исследовании впервые представлено специальное изучение истории и этнокультурного развития абхазской диаспоры в странах арабского мира. На основании сопоставления и анализа источников впервые выявлена динамика расселения и численности абхазов в этом регионе мира. Прослежены основные линии трансформации их этнической культуры в условиях доминирующего арабского окружения и в условиях тесного контактирования с близкородственными адыгами (черкесами). Впервые прослежен процесс эволюции этнического самосознания абхазских диаспорных групп и актуализировавшиеся в их общественном сознании идеи репатриации на историческую родину.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретические аспекты диссертационной работы связаны с пониманием феномена диаспоры, в частности по дискутируемому и не вполне ясному вопросу о закономерностях функционирования этнической культуры, представляемой группой носителей, в условиях территориального отрыва от традиции и в окружении иноэтничного и инокультурного окружения.
Практическая значимость работы имеет отношение к актуальной проблеме взаимоотношений с соотечественниками, оказавшимися по ряду причин за рубежом. Материалы диссертации могут способствовать выработке и уточнению позиции общественного мнения и соответствующих организаций по вопросу о приглашении, расселении и интеграции соотечественников, готовых к реэмиграции на историческую родину.
Методология и методы исследования
Выполнение общих и частных задач диссертационного исследования потребовало применения нескольких методологических подходов и методических принципов.
Исследовательский анализ рассматриваемого материала был осуществлен на основе метода историзма. Это дало возможность анализировать фактологическое множество не в изолированных формальных рамках, а в контексте социально-экономических реалий эпохи, во взаимодействии и соподчиненности причинно-следственных связей, образовавших хронологическую последовательность событийной и процессуальной канвы исторической динамики.
Важное значение имел биографический метод исследования. Примененный в работе, он показал, что анализ индивидуального жизнеописания несет огромный познавательный потенциал, который дает возможность увидеть субъективные стороны социальных процессов, что в конечном итоге определяет панорамную широту в исследовании соответствующей проблемы. Изучение биографий – это важный метод познания истории.
В работе был также применен метод интервьюирования. Основанный на непосредственном общении с носителями интересующей нас информации, он предоставляет очень важный, в ряде случаев уникальный материал, который не обеспечен другими видами источниковедческих ресурсов.
Положения, выносимые на защиту:
Образование абхазской диаспоры в регионах арабского мира явилось следствием сложных и противоречивых исторических процессов, протекавших на территории Западного Кавказа, ставшим в XVIII–XIX вв. ареной соперничества и противоречий Российской империи, Османской империи и ведущих европейских держав.
Махаджирство обернулось исторической трагедией, которая нанесла непоправимый урон территориальному, демографическому и этнокультурному потенциалу абхазского народа; часть абхазов, покинувшая родину, осела в ряде арабских регионов Ближнего Востока и Северной Африки, продолжив свое социокультурное развитие в качестве диаспорального образования;
Диаспоральные группы, оказывающиеся в новом природном, социальном и этнокультурном окружении, вынуждены вырабатывать новые основы своей жизнедеятельности, применять специальные стратегии, которые обеспечивают им соответствующие условия социального, демографического, культурного и прочего существования;
Объем новой социальной и культурной информации, обрушивающейся на диаспоральную группу, ставит под угрозу ее существование в качестве этнической целостности; необходимость социальной интеграции и культурной адаптации запускает ассимиляционные механизмы, которые активнее всего протекают в материальном компоненте бытовой повседневности и в сфере языковой компетентности; конечная фаза ассимиляционных процессов связана со сменой этнической идентичности;
Этнокультурный облик абхазов в диаспоре подвергся сильнейшей редукции, однако группа сохранила свою этническую идентичность; этому способствовала компактность территориальная проживания, особенно на первых этапах диспорального существования, определенная степень социального дистанцирования от окружающего арабского населения, гомогенность брачных кругов, тесные контакты с остальными сегментами черкесской (северокавказской) диаспоры;
В связи с нестабильностью политического положения в странах арабского мира, абхазская диаспора оказалась перед серьезной дилеммой связанной с перспективами ее дальнейшего исторического существования; наиболее благоприятным выходом является репатриация представителей социально и политически уязвимых слоев абхазского социума на историческую родину; правительству Республики Абхазии необходимо принять все необходимые меры, чтобы достойно принять соотечественников.
Степень достоверности исследования определяется спецификой источниковой базы, ее фундированностью и широтой. В работе задействовано несколько категорий источников.
В первую очередь автор опирался на архивные материалы, в частности на документы, впервые вводимые в научный оборот на страницах сборника – «История адыгов в документах Османского государственного архива». Это весьма ценная работа историков и археографов Кабардино-Балкарии, которые опубликовали документы Османского государственного архива Турции по истории адыгов и других народов Северного и Западного Кавказа в последней четверти XVIII – начале XX в. В них отражена сущность политики Османской империи в Кабарде, Западной Черкесии и Абхазии в период соперничества Стамбула с Российской империей на Кавказе. Особый интерес представляют материалы по истории формирования черкесской диаспоры в регионах Османской империи. В последнее время также проведена большая работа по тематической систематизации комплексов документов, отложившихся в известной многотомной публикации «Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею» (АКАК). В результате в распоряжении исследователей имеется двухтомный сборник «По обе стороны Большого Кавказа», в котором представлены важные для нашей темы источники: военные отчеты, правительственные указы, а также документы Министерства иностранных дел и ряда других ведомств, определявших государственную политику России на Кавказе. В научный оборот введено немало ранее неизвестных документов из фондов Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и Абхазского государственного музея (АбГМ).
Важную роль в работе играли источники литературного характера, в частности путевые заметки, воспоминания и др. публикации, в которых раскрываются впечатления от непосредственного общения с представителями абхазской диаспоры, проживающими в арабских странах. В первой половине 1980-х гг. в Сирии побывала известная абхазская поэтесса Нелли Тарба. Ей удалось встретиться с сирийскими абхазами и в своих содержательных заметках «Шардаамта – в стране Шам» она рассказала об их образе жизни. Журналистка Заира Цвижба описала свои встречи с диаспорами в Сирии и Египте, насытив свои очерки важными бытовыми деталями. В путевых заметках Д. К. Чачхалиа непосредственно рассказывается о его встречах с кавказскими диаспорами в Иордании и Сирии в конце 1990-х гг.
Важным источником работы стала информация, полученная автором при проведении интервью. Последние были взяты у недавних репатриантов из Сирии, которые покинули страну в условиях начавшейся там гражданской войны и в настоящее время являются гражданами Абхазии. Интервью проводилось по составленному автором вопроснику. Вопросы касались истории семьи репатрианта, исторической памяти и отраженных в ней сведений о махаджирстве, обстоятельствах переселения в Сирию, обустройстве на новом месте и т.д. Вопросы задавались также по сфере бытовых, хозяйственных, профессиональных занятий респондента. Уточнялись сведения по общественной и духовной жизни абхазской общины в Сирии.
В качестве источников привлекались также работы, в которых представлены материалы, собранные исследователями во время полевых фольклорно-этнографических экспедиций, а также описания очевидцев тех или иных исторических события. Исследование М.С. Тхайцухова «Через Босфор к абазинам – потомкам махаджиров» основано на полевом материале, собранном автором в абазинских селениях Турции в 2003 г..
Еще одной категорией источников являются материалы периодической печати. В частности, автором были привлечены к исследованию журналы, издаваемыми общественными организациями северокавказских махаджиров, а также соотечественников на исторической родине.
Апробация результатов работы.
За время работы над диссертацией автор участвовал в работе Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, конференциях и семинарах. Автор принимал участие:
- в конференции, которая проходила в г. Москва в Государственной Думе РФ (22 ноября 2005 г.);
- в научной конференции ОСТИ ИВ РАН (Отдел сравнительно-теоретических исследований) «Восток: вызовы XXI века» в г. Москва (октябрь 2008 г.);
- в круглом столе молодых востоковедов «Актуальные проблемы современного востоковедения» в ЦИЦАК ИВ РАН (Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья) в содействии с Советом молодых ученых ИВ РАН в г. Москва (февраль 2012 г.);
- в Международной научно-теоретической конференции в г. Нальчик (ноябрь 2012 г.);
- в Международной научной конференции «Война и Мир в истории Кавказа» в АбИГИ (Абхазский институт гуманитарных исследования) им. Д.И. Гулиа в г. Сухум (сентябрь 2013 г.).
Структура работы соответствует содержанию и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка источников и литературы, приложений.
Проблема махаджирства
Кавказская война продолжалась около 100 лет и закончилась в 1864 году выселением значительной части горцев Северного Кавказа в пределы Османской империи55. Эта война явилась важнейшим событием в истории Северного Кавказа в целом, и Западного Кавказа в частности. Махаджирство затронуло главным образом Западный Кавказ. По свидетельству некоторых историков около 90% населения отдельных этносов было вынуждено покинуть свою Родину. Махаджирство не ограничилось только 1864 годом. Оно продолжалось и на протяжении всей второй половины XIX в. А отдельные волны переселения имели место и в начале XX века.
Хотелось бы еще раз отметить, что сам термин «махаджирство» или «мухаджирство» ведет свое происхождение от арабского «мухаджарат» (muhacarat) и означает переселение, эмиграция (араб. «мухаджир» -переселенец, эмигрант; инфинитив «хаджара» - переселяться, эмигрировать). Однако в данном историческом контексте его значение следует определить как выселение или изгнание. В среде северокавказской диаспоры этот термин применительно к себе не используется из-за того, что в арабском языке он имеет смысловой оттенок добровольности переселения или эмиграции. Поэтому в диаспоре предпочитают употреблять термин «тахджир» - выселение, вынужденное переселение (от глагола II породы «хаджжара» - переселять на новые места, вынуждать к переселению или эмиграции, выселять из родных мест). С учетом этого и арабской грамматики более точным по смыслу применительно к насильственно выселенным черкесским этносам было бы применение терминов «тахджир», «тахджирство». Тем не менее, во избежание разночтений в данной работе будут употребляться уже устоявшиеся в кавказоведении термины «махаджир», «махаджирство» («мухаджир», «мухаджирство»)56. Во многих трудах современных ученых переселенческое движение горцев Кавказа излагается в основном за период 50 - 60-х годов XIX в., с подразделением его на три этапа. Видимо, такое деление оправдано лишь при рассмотрении проблемы махаджирства только начального периода, хотя и самого массового и жестокого. Однако при более широком рассмотрении махаджирства целесообразно подразделить весь его период на ряд этапов, начиная с 50-х годов XIX в. до 50-х годов XX в. Подобная периодизация продиктована тем, что переселение северокавказцев, вызванное как внутренними, так и внешними факторами, происходило волнообразно и продолжалось до конца Гражданской войны, а также в послевоенный период, когда несколько тысяч советских военнопленных и перебежчиков вынуждены были остаться на Западе. Например, Алиев Б.Р. приводит следующие этапы; они являются совершенно условными и выделены как периоды наиболее массового махаджирства: первый этап - 1859-1872 гг., второй – 1877-1883 гг., третий – 1893-1917 гг., четвертый – 1917-1922гг., 1947-1955 гг.57 Кроме того, каждый из этих этапов имел свои причинно-следственные особенности.
Для Северного Кавказа махаджирство стало крупнейшей демографической катастрофой, которая вместе с усиленной колонизацией края в течение нескольких десятилетий перекроила традиционный этнический облик Кавказа. Это одна из самых сложных и трагических страниц новой истории Кавказа. Всех выходцев с Западного Кавказа, а также всех северокавказцев в целом часто называют, как уже отмечено выше, черкесами. Самоназвание племен Северо-Западного Кавказа, родственных по языку и культуре звучит «адыге». Сегодня адыгами считаются адыгейцы, кабардинцы и черкесы. Именно последнее название превратилось в трансэтническое, обозначая на Ближнем Востоке всех выходцев с Северного Кавказа. «Принятое в русской и иностранной литературе XIX века расширенное истолкование слова «черкес» имело под собой то реальное основание, что адыги были в то время самой значительной этнической группой на Северном Кавказе, оказывавшей большое и всестороннее влияние на окружающие их народы»58. Являясь родственными народами, адыги, абхазы и убыхи с давних времен составляют коренную часть населения Западного Кавказа. В XIX в. они подразделялись на ряд этнических групп, часть из которых либо полностью переселилась в Османскую империю, либо вообще перестала существовать. В настоящее время адыги (адыгейцы, кабардинцы и черкесы) проживают на территории Российской Федерации в Республике Адыгея, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, а абхазы в Республике Абхазия. Кроме того, ок. 7 млн. человек59 адыгского и абхазского происхождения, потомки махаджиров, проживают сегодня в Турции, странах Ближнего Востока, Северной Африки, Западной Европы, США, Австралии – всего в 40 странах мира. Как уже отмечалось выше, переселение народов Северного Кавказа стало носить официальный характер после постановления Кавказского комитета «О переселении горцев» от 10 мая 1862 года60. Самое крупное и трагическое изгнание народа Западной Черкесии произошло в 1862-1864 годах. Окруженные со всех сторон и теснимые русскими войсками, черкесы покидали свои жилища и скапливались на побережье Черного моря в ожидании кораблей. Перевозка черкесских беженцев помимо турецких судов осуществлялась и на русских, разных европейских кораблях, которые хотели заработать. Сухопутные переезды в Османскую империю были запрещены, дабы таким образом помешать вывозу имущества и перегону скота.
Иммиграция приняла настолько широкий размах, что правительство Османской империи не успевало перевозить и расселять иммигрантов, и вынуждено было обратиться к российскому правительству с просьбой временно приостановить выселение. Значительное количество черкесов, скопившихся на черноморском побережье в ожидании своей очереди на отплытие, испытывало неимоверные трудности и лишения; среди них распространились эпидемические и инфекционные болезни; теснота и давка на судах, недостаток съестных припасов и воды унесли десятки тысяч жизней этих людей; нередки были и случаи кораблекрушения.
На пути в Османскую империю некоторые суда из-за перегрузки тонули со всеми пассажирами-переселенцами. В хорошую же погоду переселенцы сталкивались с новыми муками: безветрие задерживало их дальнейшее плавание, и им приходилось испытывать все ужасы голодной смерти. Многие барки, нагруженные горцами, имели пробуравленное дно и, будучи выведены в море, тонули вместе с переселенцами, а деньги, предназначенные на расходы, оставались в карманах у царских чиновников. Однако не лучшим оказалось положение беженцев и на турецких берегах. Местные власти, не рассчитавшие свои силы, не успевали своевременно расселять и обеспечивать беженцев всем необходимым; их размещали прямо на побережье, на голых пустынных землях в рваных палатках, оставляя без средств к существованию. Вот что пишут С.А. Алферов, А.И. Чукбар: «…Ужасные страдания пришлось перенести несчастным переселенцам и на море, и во время пути, и на местах новых поселений. Дети и женщины десятками погибали от жажды и голода, мужчины – от болезней, ожидавших бедных махаджиров, истомленных переселением, лишенных крова и пищи. Наконец, им была дана земля в Турции около города Измит. Свои поселения на новых местах абхазцы называли старыми именами. Так около Измита есть и Ачандара, и Аацы, и Дудрипш, и Лыхны. Переселенцы занимаются главным образом посевом кукурузы и отчасти скотоводством. Разводить виноград для вина им не приходится, так как в Турции они должны соблюдать мусульманские обычаи, по которым употребление вина запрещено»61. Вот что писал А.П. Берже: «… Это было вслед за окончанием войны на Западном Кавказе и в самый разгар выселения горцев в Турцию… Никогда не забуду я того подавляющего впечатления, какое произвели на меня горцы в Новороссийской бухте, где их собралось на берегу около 17 тыс. человек. Позднее, ненастное и холодное время года, почти совершенное отсутствие средств к существованию и свирепствовавшая между ними эпидемия тифа и оспы, делали положение их отчаянным. И действительно, чье сердце не содрогнулось бы при виде, например, молодой черкешенки, в рубищах лежащей на сырой почве, под открытым небом, с двумя малютками, из которых один в предсмертных судорогах боролся с жизнью, в то время как другой искал утоления голода у груди уже окоченевшего трупа матери. А подобных сцен встречалось немало, и все они были неминуемым следствием непоколебимой уверенности горцев в ожидающей их в Турции будущности, которую в таких красках рисовали им османские эмиссары… »62.
Османские власти создавали вдоль побережья, в местах скопления беженцев, специальные карантинные лагеря, страшась распространения эпидемических болезней среди османского населения. Такого рода лагеря были созданы в Ачка-Кале, Сари-Дере, Самсуне и других местах.
Хайреддин-паша – Великий просветитель Востока
Этот раздел посвящен одному из самых выдающихся личностей Османской империи – Хайреддину ат-Тунисе (1825-1890). Мамлюк абхазского происхождения, османский государственный деятель, великий визирь османского Туниса (1856), автор тунисской конституции (1861), великий визирь Османской империи (1879). Родился Хайреддин155 в Бзыбской Абхазии в 1821 г. Как пишет Хайреддин-паша в своих воспоминаниях, его предки вышли из поселка Бамбора (с. Лыхны, Абхазия)156. Отца его звали Хасан (высокого роста, белокурый), он был одним из предводителей отрядов, принимавших активное участие в национально-освободительной борьбе кавказских горцев против оккупации Кавказа царскими войсками. Погиб в одном из сражений. Монуки Смида о происхождении Хайреддина сообщает следующее: «…Он (Хайреддин – авт.) принадлежал к племени абазов или абхазов, живших в этой области (Западный Кавказ, Апсны – авт.) и с древнейших времен поставлявших Османской империи белых рабов, славящихся своей красотой»157. Абхазский ученый Аргун Ю. Г. сообщает: «… мамлюкский деятель XIX в. Хайреддин ат-Туниси, родом из Бзыбской Абхазии, 10-летним мальчиком был продан на стамбульском невольничьем рынке…»158. Арабский ученый Ахмед Амин в своей работе отмечает, что «Хайреддин– черкес из рода абаза»159, т. е. абхазов. Об абхазском происхождении Хайреддина неоднократно пишет Осман-бей160, лично хорошо знавшей его и впоследствии перешедший на российскую службу. О детстве Хайреддина, к сожалению, почти ничего не известно. В своих собственных воспоминаниях он не дает каких-либо точных сведений: « … я не сохранил никаких отчетливых воспоминаний о моей стране и моих родителях. Мои поиски всегда оставались безрезультатными…»161. Проданного в рабство после гибели отца малолетнего сироту из Абхазии купил в Стамбуле военный судья (главный кадия) Анатолийских войск Тахсин-беку ибн Мухаммед Эль Кобари, который жил на своей даче на берегу Босфора. Возможно, это стало главной удачей в жизни мальчика: он провел свою молодость с сыном Тахсин-бека, благодаря которому получил хорошее образование. Однако мальчик (сын Тахсин-бека) скончался, так и не став взрослым, и Тахсин-бек продал 17-летнего абхаза послу правителя Туниса Ахмед-бея162. Что касается Туниса, он в то время являлся географическим перекрестком, где пересекались различные цивилизации. И поэтому в этническом отношении Тунис отличался разнообразием. В середине XIX века тунисское общество оставалось в плену у своего прошлого. Существовал некий классический образ жизни, от которого нельзя было отклониться. Верность исламу, казалось, была несовместимой с современным образом жизни и особенно того, когда этот модернизм был европейского происхождения. В Тунисе существовал сильный социальный слой мамлюков, который являлся следствием турецкого завоевания. Турецкие элементы в стране организовали сильную военную аристократию и поскольку военный режим нуждался в охране, нужны были верные и смелые воины. И в этом деле ставка была сделана на мамлюков. В Тунис Хайреддин попадает в 1839 г. К этому времени он уже в Стамбуле в совершенстве овладел турецким языком и вскоре его отдали в недавно созданную Ахмед-беем военную академию. Там он хорошо научился говорить по-арабски и по-французски. Продолжая образование, он изучил такие традиционные арабские науки, как толкование Корана, изречения Пророка. Коран он знал наизусть. Вскоре способный юноша был замечен при дворе, и стал доверенным лицом Ахмед-бея. В 1846 году вместе с немногочисленным кругом других приближённых сопровождал бея во время его двухмесячного государственного визита во Францию. Впоследствии он не раз выполнял различные дипломатические поручения и продолжал подниматься вверх в иерархии элитной части тунисской армии — кавалерии. В 1848 году он получил чин алая (полковника), а в 1852 году стал бригадным генералом, главнокомандующим артиллерии. Достоинства Хайреддина были оценены настолько высоко, что его направили в Париж, чтобы провести переговоры о займе для правительства бея. Успехи посланника были столь очевидны, что бей продержал его во Франции для исполнения дипломатических поручений четыре года. Природная любознательность, языковые способности и растущий кругозор помогли Хайреддину разобраться в механизмах функционирования западного общества, в его промышленности и финансах.
В 1855 году Ахмед-бей, у которого Хайреддин пользовался неограниченным доверием, скончался, но карьерные позиции и авторитет молодого госслужащего не пострадали: ещё три года он успешно исполняет дипломатические обязанности во Франции. Продолжается его общение с французской культурой, он умножает официальные и личные связи с влиятельными французскими деятелями, детально знакомится с принципами функционирования государственного аппарата Франции.
Когда в 1857 году Хайреддин возвратился в Тунис, он был уже другим человеком: сохраняя веру в Аллаха, он глубоко проникся идеям просвещения и прогресса. Теперь он ставил перед собой задачу использовать приобретённый опыт и знания для осуществления программы возрождения Туниса. Сразу же по возвращении из Парижа Хайреддин был назначен министром морского флота. Занимал он этот пост до 23 ноября 1862 г. Более чем успешно выполняя обязанности министра, Хайреддин одновременно занимал пост губернатора (каида) Гулетты. Были учреждены новые уставы, проведено благоустройство города, и, что особенно важно, под председательством Хайреддина успешно осуществлялась работа комиссии по земельным участкам, незаконно захваченным иностранцами. Морской министр возглавил также комиссию по подготовке военных реформ. Он попытался приспособить к Тунису османское и европейское законодательство в этой области.
Параллельно шла ещё более ответственная работа — под председательством Хайреддина летом 1860 года была подготовлена первая Конституционная Хартия. Основным новшеством вводимой Конституции было создание Высшего Совета из шестнадцати членов сроком на пять лет, причём пятая часть обновлялась ежегодно. Эта конституция являлась первой, когда-либо провозглашённой в мусульманском мире163. 26 апреля 1861 года Конституция была принята на торжественном заседании Высшего Совета — тунисского Парламента, состоявшемся в этот день. Совет одновременно стал Законодательным собранием, сенатом и Верховным судом, а Хайреддин являлся его председателем. Но вскоре выяснилось, что премьер-министр Мустафа Хазнадар под прикрытием нового режима продолжил старую политику произвола и угнетения. Хайреддин, несмотря на то что был свойственником Хазнадара (по линии жены), не пожелал играть роль декоративной фигуры, отказался от поста председателя Высшего Совета и вышел из состава правительства. По этому поводу Хайреддин писал в своих мемуарах: «Не желая своим участием в государственных делах способствовать обману моей второй родины, которую безжалостно вели к гибели, я подал в отставку с поста председателя Совета и поста министра морского флота и возвратился к частной жизни»164.
Система жизнеобеспечения
Хозяйство. Абхазы сохранили на новых местах свои традиционные хозяйственные занятия. Поселившись в сельской местности в Сирии, они практиковали земледелие. При этом, как отмечает А.В. Кушхабиев, земельные наделы, предоставленные кавказским иммигрантам, были малопригодны к обрабатыванию. Например, Голанские высоты представляли собой повсеместно покрытые кратерами и усыпанное камнями плоскогорье, расположенное на высоте 980 м. над уровнем моря. Эти факты отложились в фамильной памяти нашего информатора Зиуара Арютаа, который со слов своих старших родственников свидетельствовал: «Вокруг ничего не было… приходилось приспосабливаться»194. Несмотря на трудности, «черкесы приступили к тщательной обработке земли, используя свои традиционные правила агротехники, и в ближайшие годы стали получать довольно высокие урожаи»195. Как сообщает Зиуар Арютаа, «…абхазы со временем привыкли к местности», но «вначале очень трудно было возделывать землю»196. Между тем, хозяйство налаживалось и помимо пашни абхазы также старались разводить бахчу (сад), где росли несколько сортов фруктовых культур (виноград, инжир и т.д.). По сообщению Мунира Бакира, со временем абхазы обзаводились рабочими, которые им помогали и жили в специально отведенных жилищах. За свою работу они брали часть полученного урожая. Другой хозяйственной отраслью было скотоводство. Сначала иммигранты выменивали или покупали мясо и скот у бедуинов, но впоследствии сами наладили скотоводческое хозяйство, используя его продукцию, как для собственных нужд, так и для продажи или обмена. Пища. Специальными исследованиями установлено, что пища является наиболее консервативным элементом бытовой культуры, который активно сопротивляется модернизационным изменениям, наблюдаемых в других элементах материального окружения. Наш материал подтверждает этот тезис. Абхазы в диаспоре, особенно в сельской местности, оставались приверженцами этнических традиций в питании. Значительное место в пищевой модели занимал растительный компонент. Так, основным блюдом была мамалыга (абыста) – круто сваренная кукурузная мука, фасоль, заправленную солью с красным перцем (аджика); употребляли также вареную кукурузу. Мясной компонент был представлен достаточно разнообразно. Так, любимым блюдом было вареное мясо. В то же время мясо часто коптили, в том числе в целях консервации; жир использовали для жарки. Готовили кучмач, шашлыки. Очень популярными были молочные продукты. Правда, свежее молоко не пили; как правило, его ферментировали и употребляли в кислом виде (ахарцэы). Постоянным элементом питания были сыры. Потребляли свежий сыр (ашэадза), сырные лепешки (ачашэ), сыр был обязательным элементом абысты. В пищевой модели присутствовал запрет на потребление алкогольных напитков, в том числе вина197. Переезд в Дамаск способствовал размыванию традиционной модели питания. Если до этого пища состояла в основном из национальных блюд, то в городской среде под влиянием окружающего населения и урбанистического образа жизни абхазы стали приобщаться и к арабской кухне. Жилище. Традиции исторической родины во многом были перенесены и на домостроительную технику. А.В. Кушхабиев отмечает, что строительным материалом для новопоселенцев сначала служил такой «экзотический» материал, как базальтовые и гранитные блоки античных руин, которые во множестве имелись на территории бывших провинций Римской империи. В то же время по внешнему виду черкесские жилища отличаются от домов феллахов, тем более кочевников. По описанию А.В. Кушхабиева, они «представляли собой небольшие, в основном двухкомнатные дома с меленькими верандами деревянными ставнями вместо окон»198. В жилищах имелась женская половина, куда вход мужчин, особенно посторонних, был табуирован. Одежда. Национальная одежда в народе, можно сказать, исчезла. Исключение составляют мужская папаха (ахылпарч) и женский головной платок (нередко белого цвета). Еще сравнительно недавно многие мужчины носили черкеску, а голову покрывали башлыком. Однако эти традиции остались в прошлом. В настоящее время абхазы- мужчины носят костюмы европейского типа.
Европейский тип одежды распространен и у большинства женщин. Однако немало тех, кто предпочитает платья арабского типа. В этом случае его неотъемлемой принадлежностью является хиджаб, который одновременно является манифестируемым знаком принадлежности к исламской умме. Однако ношение хиджаба не является строго обязательной деталью костюма. По утверждениям наших информаторов, он носится исключительно по желанию, в зависимости от религиозных убеждений; никто не заставляет женщин появляться в нем в публичных местах.
Семейная жизнь. Следует отметить, что малочисленные абхазы старались соблюдать внутригрупповую эндогамию. Однако результатом этого стало то, что они почти все стали родственниками между собой. Это, в свою очередь, резко сузило возможности поиска брачного партнера, так как экзогамные запреты оставались действующей нормой института брака и семьи. Во многом это вынуждало абхазов заключать межнациональные браки. При этом предпочтительными партнерами оставались представители других кавказских народов (прежде всего, кабардинцы и другие адыги). Были, конечно же, браки и с арабами (или представителями др. народов), но в очень редких случаях, и в более поздний период.
Среди абхазов сохранялись пережитки похищения невест, однако в подавляющем большинстве случаев брак совершался по обоюдному согласию. Обе стороны в лице старших представителей договаривались «утвердить» решение молодых. Далее жених платит т.н. «мехр», на что невеста покупает себе белье и свадебное платье, а сама ничего в дом мужа не доставляет. Кроме того, по словам Зиуара Арютаа, жених платит 500 сирийских лир (= 10 $) родителям невесты, которые передают их в благотворительное черкесское общество «Адыга Хасэ», которое помогает всем представителям диаспоры в решении имеющихся проблем.
Что касается семейно-брачных отношений в Иордании, они во многом были похожи на традиционные черкесские. Например, черкесская традиция разрешала девушкам общаться с юношами. Для этого у нее существовала особая комната, куда могли приходить юноши и знакомиться с ней. Но следует отметить, что в Иордании со временем встала проблема близкородственных браков. Принцип экзогамии не поддерживался. «Если в Абхазии не могли создавать семьи даже просто однофамильцы, не кровные родственники, то в Иордании – наоборот, родственники женились между собой. И таким образом, родственники становились одной семьей…»199. Нарушение принципа экзогамии в первую очередь связано, как уже отмечалось, с созданием браков между собой. Невозможны браки были между девушкой и парнем, вскормленными одной женщиной. Считалось, что они уже брат и сестра. А вот их дети уже могли жениться друг на друге. Абхазы к женитьбе относились очень серьезно. Этот вопрос не решался спонтанно. Мужчины женились, в отличие от арабов, поздно, в возрасте 30 лет. Это считался самый подходящий возраст для создания семьи. А девушки с 17 лет уже могут выходить замуж. У абхазов в Иордании была традиция собираться в одном месте и проводить разные мероприятия. Проводятся они в специально отведенном доме или в национальном клубе. На такие мероприятия арабам ходить запрещалось. Здесь молодые ребята могли выбирать себе девушек. Потом сообщали своим родителям, чтобы посвататься к ее родителям, после того как они соглашались, приглашали муллу и регистрировали брак. Свадьбу играли не сразу. Это если все было официально. Но если родители девушки отказывались, молодой человек похищал девушку, регистрировал брак и обращался к уважаемому шейху, чтобы тот уладил это дело. Шейх сам договаривается с родителями девушки и дело идет к свадьбе. Рассказы о пережитках похищения невест у черкесов известны и арабам.
Международная ассоциация абхазо-абазинского народа
В начале 90-х гг.XXв. черкесы проживали уже в 45 странах мира. Сложно было остановить процесс ассимиляции. Незначительным черкесским общинам, находящимся вдали от исторической родины, довольно сложно сохранять родной язык и традиционную культуру. Процессихассимиляции усиливался во второй половинеXXв. также в связи с сокращением черкесских компактных населенных пунктов в некоторых странах.
В сложившейся ситуации потомки махаджиров стали искать новые формы сохранения родного языка и культуры. Таким образом, во второй половине 80-х гг.XXв. в черкесских диаспорах начали появляться идеи проведения «съезда представителей всех черкесских общин и создания единой координирующей организации. 4–5 мая 1990 г., по инициативе черкесских культурных центров Голландии и Германии, в селении Ден-Алердник, расположенном под Амстердамом, была проведена конференция зарубежных черкесских организаций (США, Турции, ФРГ, Голландии). В ней также приняли участие представители Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Конференция приняла решение о создании единой общечеркесской организации, координирующей деятельность всех черкесских общин мира. В целях создания этой организации было решено провести первый общечеркесский конгресс в столице КБР г. Нальчике. Делегаты также избрали организационный комитет»225. Первый всемирный (международный) черкесский конгресс проходил в Нальчике (19 –21 мая 1991 г.),вработе которого приняли участие делегации от черкесских общин США, ФРГ, Голландии, Турции, Иордании, Сирии, Израиля, Югославии, а также правительственные делегации Адыгеи, Абхазии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, представители общественных организаций этих республик, представители черкесских землячеств и культурных обществ Краснодарского и Ставропольского краев, г. Москвы. На конгрессе было принято решение о создании Всемирной Черкесской Ассоциации (позднее переименована в Международную Черкесскую Ассоциацию). Первым Президентом Ассоциации стал народный депутат ВС СССР Ю. Х. Калмыков. Был сформирован Исполнительный комитет во главе с Генеральным секретарем. Высшим органом Ассоциации был объявлен конгресс, который должен созываться один раз в два года. Штаб-квартиру исполкома Ассоциации постановили учредить в г. Нальчике. По просьбе абхазской делегации, делегаты проголосовали за вступление Абхазии в Ассоциацию. Конгресс также принял Устав и Программу ВЧА, основные цели и задачи которого: координирование усилий всех черкесских общественных организаций, направленное на воссоединение черкесов, проживающих в разных странах мира; осуществление деятельности по сохранению культуры народа, изучению его языка и истории; оказание помощи всем зарубежным черкесам, желающим возвратиться на историческую родину. В документах также было отмечено, что ВЧА будет обладать полномочиями обращения в государственные органы разных стран и международные организации по вопросам, имеющим важное значение для черкесского народа. Для освещения жизни черкесской диаспоры и деятельности ВЧА была учреждена газета «Нарт». Следует отметить, что Международная Черкесская Ассоциация и Международная Ассоциация Абхазо-Абазинского народа–это две совершенно разные и самостоятельные организации. Каждая из которыз имеет свою сферу деятельности. Однако есть и общие интересы. Например, была идея соединения этих двух организаций единым координационным советом для решения общих вопросов. Но пока что к такому соглашению не пришли. МАААН была учреждена 7-8 октября 1992 г. в историческом центре Абхазии селе Лыхны. ПроведениеIКонгресса намечалось на сентябрь 1992 г. в Сухуме. Такое решение было принято 23 июня 1992 г. Президиумом Верховного Совета Абхазии, однако агрессия Грузии против Абхазии сделала невозможным осуществление этого намерения. Тем не менее, несмотря на опасность проведения конгресса в охваченной пламенем войны Абхазии, делегаты из дальнего и ближнего зарубежья посчитали не только возможным, но и крайне необходимым приехать на форум и тем самым поддержать народ Апсны в минуту смертельной опасности. Почти все, что говорилось на том конгрессе, касалось отражения агрессии против Абхазии. На Конгрессе присутствовали делегаты из Абхазии, Германии, Голландии, Грузии, России, Сирии, Турции, а также Кабарды, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Чечни, Аджарии. Избран исполнительный комитет в составе: Шамба Тарас (президент), Юра Аргун, Олег Дамения, Гонова Муминат, Ацушба Атай, Ашлахуа Наджметтин, Казан Иахья, Алексей Хуранов, Арутаа Фадель, Олег Этлухов. Принят Устав Ассоциации. Международная ассоциация абхазо-абазинского (абаза) народа (МАААН) является международным неправительственным общественным объединением. Свою деятельность МАААН строит на принципах общего согласия, добровольности, равенства всех участников, демократии, законности, гуманизма, миролюбия и ненасилия, соблюдения прав и свобод человека, уважения к людям всех национальностей, законам, традициям и обычаям стран проживания абхазо-абазинского (абаза) народа. Ассоциация действует в строгом соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. II Конгресс, состоявшийся 22-26 июля 1994 г. в Сухуме и Пицунде, можно с полным правом назвать «конгрессом победителей». Он стал грандиозным форумом, на который съехались отовсюду друзья Абхазии, чтобы поздравить ее народ с победой в войне. III Конгресс проходил 22-24 августа 1997 г. в Черкесске. Главными, пожалуй, темами разговора на нем были осуждение блокады Абхазии, обсуждение хода грузино-абхазского переговорного процесса и проблем образования в Карачаево-Черкесской Республике абазинского района. Конгресс народа абаза прошел как всенародный праздник. Неоценима роль в проведении конгресса Международной Черкесской Ассоциации. IV Конгресс проходил 29 сентября 2003 г. в Сухуме. После долгого перерыва Конгресс совпал с празднованием 10-летия победы. Основные направления деятельности Исполкома МАААН: - Формирование абхазской национальной идеи, интегрирующей народ абаза, находящийся в различных государствах мира. Сформулировали «Концепцию развития абхазского языка, искусства, литературы, культуры». Концепция широко обсуждалась, была опубликована в печати. - Организация выездов и встреч членов Исполкома МАААН с нашими соплеменниками, проживающими во многих странах мира (Россия, Турция, Сирия, Израиль, Египет, Германия, Голландия, Великобритания, США). Как правило, проводились заседания Исполкома МАААН с приглашением руководителей абхазских, адыгских, кавказских диаспор. Также приглашались руководители Конфедерации народов Кавказа, Международной Черкесской Ассоциации, депутатов российского парламента, выходцев из Северного Кавказа, лидеров национально-культурных организаций города Москвы, общественных деятелей. - Члены Исполкома МАААН регулярно встречаются с руководителями Федеральных органов законодательной и исполнительной власти России, Турции, Сирии, Израиля, стран Европы. - Члены Исполкома МАААН финансировали издание художественной, научной, исторической и популярной литературы. Проводили презентации наиболее значимых литературных произведений. - Объединяли усилия женщин–абхазок и абазинок, обсуждавших свои специфические вопросы: проблемы демографии, воспитания детей и подростков, организации женского движения, женского участия в государственной и общественной жизни республики Абхазия. - Помогают поступлению молодежи в высшие учебные заведения в Российской Федерации. - Исполком МАААН проводил необходимую работу по отправлению в Абхазию литературы для библиотек, ВУЗов, школ как учебную, так и художественную.