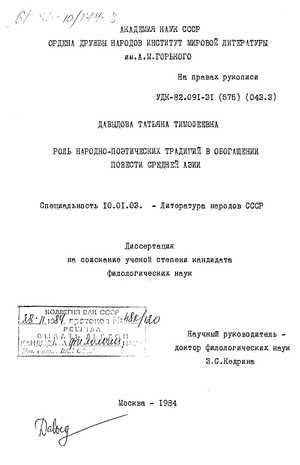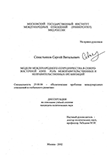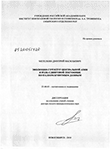Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА МИРА И ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФСКО-РОМАНТИЧЕСКОИ ПОВЕСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 60-х-80-х гг с. 31- 90
1. Роль фольклора в обращении философско-романтическои повести Средней Азии 60-х-80-х гг. к общим проблемам бытия с. 31- 55
2. Роль фольклора в формировании образа человека в философско-романтическои повести Средней Азии 60-х- 80-х гг с. 55- 79
3. Фольклорные сюжеты и мотивы и своеобразие действия в философско-романтическои повести Средней Азии 60-х-80-х гг с. 80- 90
ГЛАВА II. ПСИХОЛОГИЗМ В НАРОДНОЙ ПРОЗЕ И СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКО-РОМАНТИЧЕСКОИ ПОВЕСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ с. 91-145
1. Изображение чувств, мыслей, свойств героев в на родной и средневековой прозе Ближнего и Среднего Востока и философско-романтическои повести Средней Азии 60-х-80-х гг с. 92-117
2. Поступок и его мотивировки в народной и средневековой прозе Ближнего и Среднего Востока и современной повести Средней Азии C.II7-I2I
3. На пути к характеру. Становление индивидуализации в искусстве слова с.121-134
4. Способы создания характера в повести Средней Азии 60-х-80-х гг с.135-145
ГЛАВА III. МОТИВ ПУТИ В НАРОДНОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА И ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ФИЛОСОФСКО-РОМАНТИЧЕСКОИ ПОВЕСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 6О-х-80-х гг с.146-198
1. Значение мотива пути в мифах, сказках, преданиях, дастанах народов Средней Азии с.146-155
2. Жанр путешествия в прозе Ближнего и Среднего Востока ІХ-ХVII вв с.155-170
3. Мотив пути в народной и классической прозе Ближнего и Среднего Востока и жанровое своеобразие фи-лософско-романтической повести Средней Азии 60-х- 80-х гг с.170-198
а) Традиции сафар-наме у А.Дониша и среднеазиатских советских писателей 20- 30-х гг с.170-176
б) Традиции сафар-наме один из факторов романизации современной повести Средней Азии с.176-198
ЗАКЛЮЧЕНИЕ с.199-203
Список использованной литературы с.204-230
ПРИЛОЖЕНИЕ с.231-234
- Роль фольклора в обращении философско-романтическои повести Средней Азии 60-х-80-х гг. к общим проблемам бытия
- Изображение чувств, мыслей, свойств героев в на родной и средневековой прозе Ближнего и Среднего Востока и философско-романтическои повести Средней Азии 60-х-80-х гг
- Значение мотива пути в мифах, сказках, преданиях, дастанах народов Средней Азии
Введение к работе
Развивая известное положение В.И.Ленина, высказанное им в статье "Партийная организация и партийная литература", о многообразий писательских стилей в литературе социалистического общества, современные советские ученые обращаются к сопоставительному исследованию национальных традиций, своеобразия их изобразительно-выразительных средств. Ведь, как отметил в своем докладе, посвященном 60-летию братских республик нашей страны, Генеральный секретарь Ш КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Ю.В.Андропов, "... каждая из союзных республик - Российская Федерация, Украина и Белоруссия, Узбекистан и Казахстан, Грузия и Азербайджан, Литва и Молдавия, Латвия и Киргизия, Таджикистан и Армения, Туркмения и Эстония ... вносит незаменимый вклад в общий подъем экономики и культуры Советского Союза" (4, с.8). Одним-из направлений, в которых ведутся плодотворные художественные искания в многонациональном искусстве слова СССР, является взаимодействие литературы, в частности, и такого ее достигшего значительных успехов на нынешнем этапе жанра, как повесть, с народно-поэтическим творчеством. Правда, предшествовали этому обогащающему повесть взаимодействию периоды иных отношений с фольклором.
В 20-30-е гг. в новописьменных литературах Средней Азии и Казахстана преобладали идейно-эстетические принципы устно-поэтического творчества. Его влияние на литературы, лишенные богатых реалистических традиций (например, на киргизскую), на том этапе было закономерным. Однако подчас оно затягивалось, выражаясь в стилизаттиях и подавляя развитие собственно литературного мышления. Именно это наблюдается в произведениях киргизского прозаика Т.Сыдыкбекова "Темир", туркменского писателя Б.Керба-
баева "Ай-Солтан из страны белого волота" и в других. В 40-50-е гг. литературы региона преодолевают механическое следование фольклорным образцам, стремятся оттолкнуться от них. Это приводит не только к свершениям, но и к известному отрыву от животворных традиций народной культуры, продолжавшемуся, к счастью, недолго. Начиная со 11-й половины 50-х гг. и по настоящее время литературы Средней Азии и Казахстана вступали и вступают "в качественно новые отношения с национальным фольклором" (Бор-бугулов М.)(114, с,86). В современный период обращение прозы к сюжетам, обравам, художественным средствам устно-поэтического творчества - сознательный прием, обогащающий не только проблематику, но и изобразительно-выразительные возможности. При этом писатели "лепят" на основе того материала, которым располагают, новый, обусловленный проблемами наших дней и несущий печать их мысли и стиля. Происходит то, что отмечал уже А.Н.Веселовекий: "... старые бравы, отголоски образов, вдруг возникают, когда на них явится народно-поэтический спрос, требование времени. Так повторяются народные легенды, так объясняется в литературе обновление некоторых сюжетов, тогда как другие видимо забыты" (126, с.71). Особенно активно взаимодействует с фольклором повесть, которая с 1958 г. - времени публикации "Дкамили" Ч.Айтматова - и до наших дней занимает лидирующее положение среди других прозаических жанров региона и становится как бы "формой времени". Такое взаимодействие, получившее название "второй волны фольклоризма", на редкость ярко проявилось в фялоеофско-романтической разновидности повести. Творчество ее авторов представляет собой обширный и различный по своему художественному уровню материал.
На сегодня среди прозаиков региона "тон задает" киргизский писатель и крупнейший представитель современной советской
- б -
литературы Ч.Айтматов. На его художественную деятельность в той или иной мере ориентируются казахские мастера слова А.Ке-кильбаев, О.Бокеев, С.Санбаев и А.Алимжанов, таджикский прозаик Ф.Мухаммадиев и узбекско-таджикский литератор Т.їїулатов, туркменский писатель Т.Джумагельдиев и каракалпакский романист Т.Каипбергенов. Большинство этих авторов достигает подлинного успеха на пути обращения литературы к фольклору. Их повестям присущи мощное философское начало, романтическая приподнятость , лирическая взволнованность, не исключающие реалистической достоверности.
В_качестве предмета исследования в диссертации мы и выбд-paeM^H^gco^CKOj-poMaHTHqecKyio повесть литератур Средней Азии и Казахстана 60-80гХ_гг. Мы остановились на повестях Ч.Айтматова, Ф.Мухаммадиева, Т.Пулатова и А.Кекильбаева, потому что в них наиболее полно и ярко выражена идейно-эстетическая природа философско-романтической разновидности жанра, а также оттого, что они обладают бесспорными художественными достоинствами. Казалось бы, творчество А.Кекильбаева, казахского писателя, выходит за рамки нашей темы. Тем не менее исторические судьбы казахской литературы имеют много общего с литературами родственных казахскому народу киргизов и каракалпаков. Поэтому мы и рассматриваем казахскую повесть в едином контексте со среднеазиатской.
Ограничение анализа преимущественно современным периодом объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, на более ранних этапах своего бытования философско-романтическая повесть взаимодействует с фольклором еще неосознанно и является недостаточно зрелой в художественном отношении.Во-вторых, формирование и развитие жанра в 20-50-е гг. хорошо изучено и освещено в б-ти тт. "Истории советской многонациональной литера-
туры", в историях и очерках отдельных национальных литератур региона, а также в диссертациях, касающихся становления социалистического реализма в прозе Средней Азии и Казахстана (Шала-баев Б.(327), Шамурадов Б. (328), Эркебаев А. (337) либо тех или иных аспектов жанра повести (Рашидов А. (265). Впрочем, в ходе исследования мы станем делать необходимые экскурсы и в более ранние периоды существования среднеазиатских и казахстанской литератур.
Современная повесть региона достигла заметных успехов. Поэтому неудивительно, что некоторые черты ее идейно-художественного своеобразия уже рассмотрены в ряде изданий: казахской - в диссертации Б.Шалабаева (327); киргизской - в книгах К. Асаналиева (86, 88), К.Бобулова (НО), М.Борбугулова (114); таджикской - в исследованиях Дж.Бако-заде (95), М.Шукурова (333); туркменской и узбекской в диссертациях Дж.Аллакова (80), Э.К.Ахмедярова (94), А.Оразова (241), К.Тагматова (304) и прочих. Тем не менее покалочти еще нет работ, где бы в сравнительно-типологическом и историко-генетическом аспектах как с точки зрения содержания,^ так и в плане поэтики анализировались повести не какой-либо одной среднеазиатской литературы,а всего региона в целом. Да, и конкретны^-анадиг роли Фольклора в развитии прозы 60-80-х гг._одна из актуальных задач современное о _ л ит ер ат ур о ве де ния.
Работ по проблеме "литература и фольклор" в советской науке немало. Среди них назовем исследования М.М.Бахтина (101), П.С.Выходцева (137), В.М.Гацака (139), У.Б.Далгат (155), Л.И. Емельянова (162), З.С.Кедриной (182), її .її.Лупано вой (217), З.Г.Османовой (244) и других. Заслуживают внимания и коллективные сборники "Взаимодействие литературы и фольклора (Материалы конференции "Взаимодействие литературы и фольклора наро-
- о -
дов Средней Азии и Казахстана - Душанбе, 1968.")" (129), "Вопросы советской литературы. Фольклор в русской советской литературе'' (133), "Миф. Фольклор. Литература" (229), "Роль фольклора в развитии литератур народов СССР" (269), "Русская литература и фольклор (Первая половина XIX века)" (274), "Русская литература и фольклор (Вторая половина XIX века)" (275), "Русская советская поэзия и народное творчество" (276), Ш-й, УП-й и ХУШ-й тома сборника "Русский фольклор. Материалы и исследования" (277, 278, 279) и прочие. В последние двадцать лет в исследовании фольклоризма литературы очевидна тенденция к смене распространенного ранее монографического аспекта вниманием к взаимодействию с устным народным творчеством литературных стилей, жанров, направлений. Симптоматично в этой связи название монографии У.Б.Далгат "Литература и фольклор. Теоретические аспекты". Однако и по сей день все еще недостаточно проанали-,9.ироваш_ф5[нкдйи жанров, обравзв. художественных средств уст-лого народного творчества на таких,уровнях произведений совре-ішнной советской литературы,., как жанровая форма, проблематика, структура образовf сюжет, стиль. В диссертации мы и попытаемся выявить отличительные содержательные и художественные особенности среднеазиатской и казахстанский повести ,60-80-х гг_., взаимодействующей с Фольклором.
Думается, что сегодня изучение Фольклоризма литеря,ту|ш_ может осуществляться и в виде исследования Фольклорной условности. Такой подход подсказывается самим литературным процессом, так как фольклорное и условное начала в современной советской прозе часто соединены. Особенно это относится к произведениям новописьменных литератур Средней Азии и Казахстана. О возможности и актуальности изучения подобного рода пишут ученые, например, Г.Ломидзе в своей книге "Ленинизм и судьбы на-
циональных литератур" (213). Тем не .менее до. сих_пор., вс_е_е_ше Jgafg^_H^ILl^Hgi^giL^j|^bKJlQPJ- к-ак одноцу. иа источников художественной условности в литературе. Прежде чем наметить один из возможных путей решения этой проблемы, обратимся к основным положениям теории художественной условности в литературоведении и эстетике.
Как отмечал еще А.В.Луначарский, революционное искусство "может принять фантастическую гиперболу, карикатуру, всевозможные деформации, если эти деформации не преследуют какой-нибудь, в сущности говоря, никем еще не объясненной мнимой цели, которую ставил себе футуризм.Если для эффектного выявления известной социальной черты необходимо изобразить ее совершенно непохожей на ее реальное проявление, но так, что искаженный и карикатурный образ вскрывает как раз то, что, скажем, скрыто за ее внешним благообразием и безразличностью, то это прием, конечно, глубоко реалистический" (3, с.300-301). На важность и полноправность условного воссоздания жизни, на его способность реалистически отражать действительность указывают и современные советские ученые. Как пишет М.Б.Храпченко, "... реализм никогда не был тождествен, натурализму. В лучших своих проявлениях он включал и включает в себя изображение могучих характеров, ярких страстей, так же как гиперболу, преувеличение, фантастику" (319, с.67). Мы совершенно солидарны с Т.Ас-каровым (90), В.Дмитриевым (159, 160), З.Кедриной (181),Б.Сучковым (301), Я.Г.Якименко (340) и другими исследователями, которые считают, что использование художественной условности писателями социалистического реализма расширяет возможности данного метода, придает ему романтическую окрыленность, позволяет поднимать значительные вопросы философии, истории.
Для осмысления сложной проблемы художественной условности
в советской науке в последние годы сделано немало. Основой для ее дальнейшей разработки служит то, что большинство ученых употребляет термин "условность" в двух значениях. "Первичная" условность - изначально присущее искусству свойство, о котором говорится в известном высказывании Л.Фейербаха, подчеркнутом В.Й.Лениным в "Философских тетрадях": искусство не требует признания его произведений за действительность (2, с.1 53). "Вторичная" условность, включающая в себя как разновидность и фольклорную, - это собственно условные формы, в'фантастическом или иносказательном виде обобщающие действитель-
ность.
Однако далеко не все еще "белые пятна" исчезли. Не всегда наблюдается необходимое разграничение между "первичной" и "вторичной" условностью. Между тем при современном состоянии науки такой водораздел необходим. Известную трудность представляют и поиски единого угла зрения на различные литературоведческие категории, к которым обращаются исследователи при рассмотрении форм вторичной, в том числе и фольклорной, условности: миф как вид дофольклорного мышления и повествования; легенду, сказку как жанры преимущественно устного народного творчества (существуют, впрочем, и литературные легенды и сказки); басню и притчу как фольклорно-литературные жанры хх;
х - Попытки подобной дифференциации встречаются в работах Т. Аскарова, А.С.Бушмина (121), Н.В.Виденеева (130), сборнике "Ленинская теория отражения и действительность" (204), книгах Ю.А.Лукина (216), А. Михайловой (231), В.А.Разумного (262), Н.И.Черной (322) и других.
хх - В настоящее время не все ученые выделяют среди жанров повествовательного фольклора басню и притчу. Однако основания
(см. на ел.стр.)
- II -
метафору, метонимию, олицетворение, символ, аллегорию, эмблему - универсальные изобразительно-выразительные средства. Поэтому почти каждый из исследователей предлагает свод ряд вторичных условных форм, в разной степени убедительный. Некоторые из этих форм, а если точнее, приемов и жанров, в самом деле относятся, на наш взгляд, ко вторичной условности. Среди них метафора, сравнение (Аскаров Т.), метонимия (Аскаров Т., Разумный В.А. (262), символ (Михайлова А. (231), Разумный В.А.), аллегория (Михайлова А., Черная Н.И. (322), притча (Михайлова А.), гипербола (Разумный В.А.). С другой стороны, вызывает возражение рассмотрение в ряду форм вторичной условности времени, ретроспекции, авторского повествования, ситуаций, портрета (Аскаров Т.); переброски сценического времени и места действия, авторских комментариев в драматургии (Михайлова. А.); способов изображения душевного состояния, сюжета и замысла (Черная Н.И.)» На наш взгляд, все это - идейно-художественные средства, которые извечно присущи словесному искусству как виду творческой деятельности. Они применяются и в жизнепо-добных, и в условных формах, то есть относятся к первичной условности.
Недостаточная изученность про б л ещ ,втодичной_усд овности
Лй в^я^т_вн^стіі_в„нє^яєк^ ,
мьшопытаемся определить, что объединяет такие условные до-
для подобного выделения дают факты искусства слова. Значителен пласт народных басен и притч в таких памятниках средневековой Индии, как "Панчатантра" и ее перевод на среднеперсид-ский и сирийский языки "Калила и Димна"; в "Тути-наме" перса Нахшаби. К народной прозе притчу относит К.С.Давлетов (153), басню - И.Левин (201), позицию которых по данному вопросу мы полностью разделяем.
фольклорныеt фольклорные и литературные Формыу как миф, легенда, сказка ^ басняя притча, и названные выше поэтические тропы г метафору ,_мет нижний олицетворение. символ, аллегорию, эмблему, гиперболу. Это тем более важно, что именно данные формы и тропы мы считаем первоначальными носителями вторичной условности.
Почти все ученые, разрабатывающие проблему художественной условности, отмечают, что ее нужно рассматривать в тесной связи с категориями воображения и фантавии. Исследователи единодушны и в следующем утверждении: вторичной условности присуща фантастическая образность. В самом деле, этот признак является очень значительным. Дополнительными важными.свойствами условных,форм, отличающими их от жизнеподобных способов воссоздания действительности, назовем ведущую роль философского начала, отражение тех явлений, которые не всегда имеют в жиз-ни конкретно-чувственный облик, но обладают характером всеоб-щности, повторяемости.
Многовековая история науки насчитывает большое количество определений форм вторичной, в том числе и фольклорной, условности. Симптоматично, что различные исследователи на первый план в понятии "миф" выдвигают одни и те же черты. Г.В.Ф. Гегель подчеркивает философичность, символизм мифа, которые выражаются в обравах (142, с.21, 203, 204). А.А.Потебня, сближая миф с научным мышлением, считает, что он не исключает ни религиозного, ни философского, ни собственно поэтического содержания. Ученый раскрывает иносказательность мифического образа, не осознаваемую, впрочем, самим субъектом (252, с.418,
х - Никто из цитированных выше авторов, за исключением Т.Ас-карова, не вычленяет в качестве особого типа сказочную условность.
- ІЗ -
с.427-434). Ф.Буслаев видит в мифе меткий взгляд на природу, а также яркую изобразительность и стихию чудесного (120). Советские филологи, опять и опять возвращаясь к феномену мифа, в основном исходят из его свойства, описанного Г.В.Ф.Гегелем и А.А.Потебней, - научно-художественного синкретизма. Наряду с ним, они характеризуют и другую ведуїдую черту жанра - фантастическую образность, которая, будучи основана на воображении и фантазии, не исключает и известной реалистичности мифа как одной из первых попыток человечества в объективном отражении действительности. Так понимают миф философы Ф.Х.Кессиди (183), Мих.Лифшиц (208), фольклорист В.Е.Гусев (151), литературоведы Е.М.Мелетинский (224), О.М.Фрейденберг (314). В этой связи хочется сослаться на вступительную статью О.А.Токарева и Е.М.Ме-летинского к двухтомной энциклопедии "Мифы народов мира", наиболее полно отражающую современный взгляд на миф в советской науке (307).
Нпучная литература о мифе, сложнейшем предмете ряда гуманитарных дисциплин, огромна. Мы не ставим здесь задачу сделать ее обзор, не касаемся особенностей мифических мышления и фантазии. Мы хотим лишь показать, опираясь на самые общие суждения ряда ученых, не раскрывая богатство концепций, заключенных в этих суждениях, правомерность нашего понимания форм вторичной, в том числе и фольклорной, условности.
Фантастическое отражение действительности, обобщенно-философское звучание присущи также легенде и сказке. Исследователи единодушно отмечают эти черты (Азбелев О.Н. (73), Аникин В.П. (82), Богатырев П.Г. (112), Ведерникова Н.М. (124),Кравцов Н.И. (195), Пропп В.Я. (256) и другие), равно как и свойственную данным жанрам высокую степень обобщения (Пивьян Т.В. (321), Чистов К.В. (325).
Для одних форм вторичной условности, таких, как сказка, легенда, миф, наиболее характерна фантастическая образность, а для мифа еще и научно-художественный синкретизм. Еапример, фантастичны творчески переработанные Ч.Айтматовым в его прозе образы героев киргизских и нивхских народных легенд и сказаний: Рогатой матери-оленихи, Рыбы-женщины, Серой козы, птицы, кружащей над манкуртом Жоламаном. В них воедино сплавлены черты животных и людей, при этом герои наделены волшебными свой-, ствами. В других формах вторичной условности - басне, притче - самой значимой является установка на мысль, подчеркивание повторяемости, широкой типичности воссоздаваемых явлений.Это не исключает и элементов чудесного в басне. Так, притча о блудном сыне, легшая в основу "Второго путешествия Каипа" Т.Пула-това, вызывает размышления о неких общих жизненных закономерностях.К ним относятся стремление человека к родине, особенно усиливающееся к старости, способность переоценивать свои поступки. Библейская притча обнаруживает здесь и свою вечность, так как судьба ее персонажа эхом отзывается в участи нашего современника Каипа. Похожа функция и мифа-притчи об Иосифе (Юсуфе) Прекрасном в дилогии Т.Пулатова "Жизнеописание строптивого бухарца". Основные свойства басни и притчи находят отражение в научной литературе. Г.В.Ф.Гегель обращает внимание на обобщенное звучание и нравоучительный характер басни (142, с.95). А.А.Потебня подчеркивает, что образы басни служат средством познания и "общей схемой" и объяснением "спутанных явлений жизни" (252,с.476-486, с.509). Советские литературоведы и фольклористы, размышляющие о басне, также видят содержащееся в ней обобщение (Фрейденберг О.М. (314) и подчеркивают ее фантастичность. Действующими лицами басни чаще всего бывают животные, ведущие себя таким же образом, как герои сказок о
животных (Левин И. (201). В основе басенного повествования -выдумка, нередко похожая на сказочную фантастику (Аникин В.П.
(82).
Почти все характерные черты басни можно найти и в притче. Это очевидно, например, в следующем определении Г.В.Ф.Гегеля: "Притча имеет ту родственную черту с басней, что она берет события из сферы обычной жизни, но придает им высший и более всеобщий смысл, ставя своей целью сделать понятным и наглядным этот смысл с помощью повседневного случая, рассматриваемого сам по себе" (142, с.ІОО-ІОІ). А.А.Потебня называл басню, притчу и пословицу поэтическим ответом на поставленный вопрос (252). Советские ученые тоже, в свою очередь, указывают на обобщенную, философскую и образную природу притчи и, кроме того, на то, что она близка другим формам вторичной, в том числе и фольклорной, условности (Аверинцев С.С. (68), Давлетов К.С. (153), Михайлова А. (231), Фрейденберг О.М. (314). Как следует из приведенных высказываний известных дореволюционных и советских эстетиков и литературоведов, басню и притчу с остальными формами вторичной, в том числе и фольклорной, условности объединяет установка на обобщение и философичность, стремление к воссозданию явлений, не имеющих в действительности конкретно-чувственного облика, а басню иногда отличает еще и наличие фантастики.
Данному выше определению вторичной условности в общем соответствуют и такие изобразительные средства или приемы, как символ, аллегория, эмблема, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола. В самом принципе иносказательности, или изображения одного предмета вместо другого, объединяющем названные тропы, заложена известная фантастичность. Например, в символическом предвосхищении смерти Анны в гибели лошади Вронского Фру-Фру
и сне о мужике, что-то делающем с железом ("Анна Каренина" Л.Н.Толстого), в символическом сближении суши и родинн нивхов с сопкой Пегого пса ("Пегий пес, бегущий краем моря" Ч.Айтматова) есть элементы фантастичности. Ведь в реальности между образами лошади и героини, сопкой и родиной мало общего. Но в сознании героев и авторов романа и повести они сопоставляются, Фру-Фру наделена почти человеческой понятливостью, тонкостью восприятия и преданностью хозяину и этим, как и своей судьбой, - гибелью из-за неверного движения Вронского - напоминает Анну. Поезд, под колесами которого оборвется жизнь героини,входит в ее сны, "олицетворяясь" в образе мужика, говерящего,что нужно "мять" железо. Юный Кириск одушевляет сопку Пегого пса, воспринимая ее как живое и напоминающее о родине существо.
То же можно сказать и об аллегориях, эмблемах. В романе Ч.Айтматова "Буранный полустанок (И дольше века длится день)" птица, кричащая манкурту, утратившему память, имя его отца -аллегория животворной памяти человеческой» Олицетворение памяти в образе птицы фантастично.
В меньшей степени стихия чудесного ощутима в метафорах. В метафорическом соотнесении метели, сильного ветра с зарождающейся: в сердцах Вронского и Анны страстью и пламени свечи с пылающей любовью и тающей, как свечка, душой героини ("Анна Каренина" Л.Н.Толстого) есть оттенок фантастической параллели между явлениями природного или материального мира и областью человеческих чувств. Но имеются и более правдоподобные, по нашему мнению, сближения живого существа с живым или неживого с неживым. Таково восходящее к фольклору сопоставление кровж животного на снегу с цветом щек и лица прекрасной ханши из повести А.Кекильбаева "Хатынгольская баллада". В этих метафорах нет фантастичности, вато присутствует иносказательность (Ге-
гель Г.В.Ф. (143, с.386-387), тоже являющаяся приметой вторичной условности.
Для понимания символов, аллегорий, эмблем, метонимий,метафор, олицетворений, гипербол требуется усиленная работа мысли - вот еще одна черта, сближающая тропы со вторичной условностью. Особенно богат по своему смыслу символ, который чрезвычайно обобщен и идейно насыщен и подвергается различным толкованиям (Лосев А.Ф. (215). Как мифн, сказки и легенды, басни и притчи, и символ, и аллегория, и олицетворение часто воссоздают явление, не имеющее в жизни конкретно-чувственного облика. В меньшей мере это свойство присуще метафоре, метонимии, гиперболе.
В свете всего сказанного.выше о тропах можцо сделать вывод, что и они относятся ко вторичной условности, являясь ее
ЩШещми.
В фольклоре символика и метафорика могут встречаться в сказке и легенде с их установкой на чудесное, в басне и притче, основанных на иносказании. Хотя тропы и называют универсальным языком различных направлений мировой поэзии, прозы, драматургии, все же более охотно к ним прибегают представители романтических течений. Если обратиться к современной советской литературе, то можно убедиться, что символичны образы ряда персонажей Ч.Айтматова, Т.Пулатова, А.Кекильбаева, Ф.Муха-ммадиева, грузинского писателя Ч.Амирэджиби, тяготеющих к условности и романтическому письму.
Итак, ко вторичной, в том числе и Фольклорной,..условности относятся жанровые Формьь свойственные доФолькл орному (миф), преимущественно.фольклорному,(сказка.„легенда), фольклор но-литературному Г басня, притча) „типам мышления и_повзст0. -вания, а также изобразительно-выразительные_приемы - метафог
psu ідетонимия. аллегория, эмблема f олицет воре ни е, символ, ги-пецбщщ.
Вторичная, в том числе и фольклорная, условность - форма типизации, но, как справедливо пишет В.Дмитриев, понимание условности только как формы натолкнулось бы на жестко очерченные пределы (160). Именно поэтому в диссертации цы попытаемся показать как ртиле- и жанрообразующуЮг так и содержательную Функцию ^вторичной Фольклорной условности в философско-романтической повести Средней Азии и Казахстана 60-В0~х гг. Материал работы не ограничивается только мифами, легендами, скавками. Наряду с ними анализируются и "неусловные" произведения фольклора. Это героический эпос, песня, дастан, а также произведения средневековой (ІХ-ХУП вв.) и более поздней (ХУШ-ХХ столетия) литературной ближнє- и средневосточной и русской традиций. Для лучшего раскрытия эстетических закономерностей жанра повести он сравнивается с романом.
Как очевидно, сама задача диссертации - исследование фо-льклоризма повести 60-80-х гг. целого стилевого (философско-романтического) течения в литературах обширного региона продиктовала структуру работы, состоящей из введения, трех глав и заключения. Материал и структура диссертации определили и ее методику. Необходимость оперировать множеством источников, как фольклорных, так и литературных, обладающих идейно-эстетической общностью и "принадлежащих определенному типу, роду" (Храпченко М.Б. (319), заставила обратиться к сравнительно-типологическому анализу, преобладающему методу во всей работе.
В первой главе, выявляющей роль используемой лиатдяж фидософско-ромянтического течения Фольклорной условности в формировании своеобычного образа мира и человекд. к сравнительно-типологическому анализу присоединяются приемы системного
рассмотрения повести Средней Азии и Казахстана 60-80-х гг. Здесь с^^^т^я_1Шь_лШ0ШШМзЩ0Ж-^
ж^крхо^^бщес^в^лшішода-^аавддшіс .оодиадддма-одаЛаайШИЕа
ЩіО^ЗД&ШУ^с^^хкт^^
Ч.Айтматова и других.писателей. То, что в первой главе внимание устремлено на содержательную сторону фольклоризма, продиктовано логикой самого анализа. Ведь одно из основных положений диалектического материализма - мысль о том, что во взаимосвязи содержания и формы объекта содержание представляет ведущую сторону.
Ряд идей и проблем повестей философско-романтического течения в литературах Средней Азии и Казахстана 60-80-х гг. уже нашел свое истолкование в современном советском литературоведении и критике. И это вполне объяснимо. Например, творчество Ч.Айтматова в последние пятнадцать лет заслуженно находится в центре внимания исследователей из Киргизии и других республик. Оно анализируется в книгах К.Асаналиева (88), Вл.Воронова (135), Г.Гачева (140), Л.Лебедевой (198, 199), В.Левченко (202) и других. Ему посвящено множество критических статей и рецензий. Освещаются также и произведения других мастеров фи-лософско-романтической повести Средней Азии и Казахстана. Тем не менее до сих пор еще слабо. изучена_доэтика их произведений. Среди немногих исключений из данного правила назовем монографии П.М.Мирзы-Ахмедовой (228) и В.Левченко, обратившихся к художественным особенностям прозы Ч.Айтматова. На этот пробел в освещении.советской литературы.указывают Д.Ф.Марков (219), В.М.Озеров, (240). О том, что,.проблемы эстетиче^кой_супщобти метода с оди алистического р_еаливма _выд в иг аю ts5_^_iiq ел едн ез вре -мя_Ла.передний план нашей н^уки ,,настоятельно говорил Л.Г.Якименко (341). Необходимость такого исследования тем более ощу-
щается, что в работах, посвященных фольклоризму прозы, скажем, Ч.Айтматова, анализируются не все устно-поэтические истоки его произведений, упор делается, как правило, на обработку эпических жанров (см., к примеру, книги П.М.Мирзы-Ахмедовой, В.Левченко). Поэтому в первой главе диссертации, освешая различные содержательные уровни филосоФско-романтической повести, мы пытаемся показать, что Ч.Айтматов не ограничивается привлечением одних эпических традиций. но охотно прибегает и к лирической стихии и к зачаткам драмы в словесном искусстве киргиз-
іщаго_нщшда.
Важным вопросом, который встает при анализе поэтики Фи-дософско-романтической повести, является определение творческой манеры ее авторов* Прежде чем изложить наш взгляд на ее художественную природу, сделаем небольшой экскурс в историю понимания романтического начала в советской литературе» В целом данная проблема отличается сложностью и недостаточной разработанностью, что отмечают и некоторые исследователи (Тимофеев Л.Й, и Тураев СВ. (305). Тем не менее почти все ученые, соприкасающиеся с ней, подчеркивают различие романтизма и романтики и нередко определяют первое через второе. Романтика - и определенные черты действительности, связанные с героизмом революционных или трудовых подвигов; и возвышенный идейно-эмоциональный мир личности (Ванслов В.В. (123).
В то же время романтика - это и пафос, особая разновидность направленности творчества (Волков И.Ф. (132). Думается, что все эти стороны романтики входят в социалистическое искусство, влияя в той или иной степени на отбор жизненного материала » характеры героев, стиль. Не случайно А.В.Луначарский утверждал, что социалистический реализм немыслим без примеси романтики (3, с.527). Романтика находит различное воплощение
в разных стилевых течениях внутри социалистического реализма. Мы солидарны с Л.Новиченко, который пишет, что в тех случаях, когда романтическая устремленность выступает в творчестве художника с особой интенсивностью, можно говорить о принадлежности, его произведений к романтической стилевой линии в советской литературе (238). На важные, на наш взгляд, приметы романтического стилевого течения в социалистическом реализме указывает Л.Залесская. Это интерес к яркому, необычному, выдающемуся, изображение порывов человека в момент наивысшего душевного напряжения, красочное выделение ведущих сторон жизни, черт характера (169).
На современном этапе в многонациональной советской про-8е наблюдается ряд изменений. К ним относится укрепление реалистической, в частности, аналитической, основы в произведениях романтического стилевого течения, что отмечается ГЛомид-зе (213), Л.Залесской (169), В.Оскоцким (242). Данное явление и привело к возникновению внутри романтического течения его философско-романтической разновидности. Имеет место также взаимопроникновение традиционных романтических и реалистических жанров и образование новых жанровых форм; по-прежнему животворным для романтического стиля остается обращение к фольклору. Эти процессы затронули творчество Ч.Айтматова, Ф.Муха-ммадиева, Т.Пулатова, А.Кекильбаева и других писателей региона.
На основании всего.вышесказанного мы считаем, что в произведениях Д.Айтматова и близких ему по манере прозаиков реалистическое и романтическое начала органически,связаны, но при .адом.преобладаем, второе.
Почему писатель примыкает именно к тому, а не иному стилевому течению? Немаловажную роль в этом играют особенности
его характера и мировосприятия, вкус и, конечно же, национальные традиции. Существует определенная закономерность в том,что романтическая линия в социалистическом реализме получила преимущественное развитие в литературах Средней Азии и Казахста-на, а также украинской, армянской, грузинской, азербайджанской. В таджикско-персидской, узбекской, туркменской, равно как и в украинской, армянской, грузинской, азербайджанской классике, в богатом фольклорном наследии казахского, каракалпакского, киргизского народов преобладали лирико-романтическое ( это не исключает наличия эпического) мироощущение и образность, "Романтизм в этих литературах составляет национальную стилевую традицию, и она выбивается на поверхность не в определенные, наиболее благотворные для возникновения романтических тенденций времена, но неизменно сопутствует литературному развитию, - пишет Г.Ломидзе. - Неразрывность романтической формы искусства с национальной литературной традицией, вернее, слитность романтической традиции и национального стиля, придавала романтизму особое идейное и эстетическое содержание. В романтических красках, в романтической форме искусства светилась реальная жизнь. Пышность, нарядность, сверкание метафор не затмевают большую мысль писателя, но резче обнажают ее... Этим объясняется земной и одновременно возвышенный характер романтизма, его крылатость и человечность" (214, с.419-420). Как видно, романтические тенденции в повестях Ч.Айтматова и других прозаиков, региона, (Ф.Мухаммадиева, Т .Пулатдва, А*Кекидьбае_ва^а также О.Б.океева. С^Ознбаева. Т.Джумагельдиева, М.Гап^рова) имеют t помимо соотнесенности с общесоветским стилевым течением^ ,еще и сугубо "местные", среднеазиатские и казахстанские традиции. В диссертации мы попытаемся показать обе стороны данного процесса.
Так, одна из задач, которые ставятся в первой главе, -обоснование того, что выбор писателями условных форм национального фольклора в значительной степени продиктован обращением к романтико-философской проблематике. Автор стремится показать , что сплав реалистического и романтического начал проявляется в организации сюжета, в системе характеров.
Наряду с преобладающими в первой главе приемами сравнительной типологии, исходным методологическим принципом диссертации следует назвать историзм, охарактеризованный В.Й.Лениным в его лекции "О государстве": "... не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь" (I, с.67). Руководствуясь данным принципом, мы, прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению предмета второй главы - особенностей психологизма в философско-романтической повести Средней Азии и Казахстана 60-80-х гг., пытаемся воссоздать, пусть в основных, узловых моментах, историю зарождения и становления в искусстве слова форм и способов изображения внутреннего мира и характера человека. Задача исследования состоит в том, чтобы проследить эволюцию психологического анализа от простейших (в произведениях фольклорной условности) через более развитые (в средневековых литературных сборниках Ближнего и Среднего Востока) до сложных (в творчестве мастеров русской и западноевропейской литературы ХУШ-ХІХ вв., а также в прозе Ч.Айтматова и других современных писателей Средней Азии и Казахстана) приемов. Из сказанного очевидно, что в исследовании делаются попытки объединить теоретичность с историко-генетическим рассмотрением предмета.
Одна -М_Цєле_й .второй„главы диссертации т_попытка_ваес_Л!И
свои вклад в^ащіШІш<і-іША-іШїншш^и^^
современной Фольклористике проблемы психологизма в устном на-родном творчестве. Хотя ряд советских ученых признает наличие психологизма в фольклоре (Азадовский М.(72, с.196-272), Ауэ-зов М. (93), Богданова М.(ПЗ), Кравцов Н.И. (194), Путилов Б.Н. (257), в последнее время центральной проблемой советского сказковедения по-прежнему остается изучение сюжета. При этом героям сказочного жанра отводится вторичная, производная от сюжета роль. Так, Е.М.Мелетинский в своей монографии "Герой волшебной сказки", где показан генезис образа демократического сказочного героя, подчеркивает, что наиболее развитая и специфически эстетическая категория в сказке - сюжет (222). Даже Н.В.Новиков, автор специальной книги, посвященной системе образоз волшебной сказки, в целом разделяет эту точку зрения (237). Поэтому избираемый, во второй главз аспект анализа сказки через призму изображения человека может раскрыть те свойства и эстетические закономерности, которые доцолнят существующие ныне предетавления^о данном фольклорном жанре. О том, что время для этого пришло, недвусмысленно заявляет исследователь русского народного эпоса Ф.М.Селиванов: "Проблема отношения былин к предшествующей фольклорной традиции и - тем более - к исторической действительности не может быть решена только на основании разысканий в области сюжета, который оказался в центре внимания в силу его относительно легкого освоения сравнительно-типологическим методом. Проблема героя в эпосе в современных исследованиях должна занять важнейшее место" (284, с.214).
Во второй главе ставится задача проанализировать в общем контексте с произведениями фольклорной условности (сказкой,
легендой), а также с дастаном сборники литературных средневековых сказок в силу близости их поэтики между собой. В то же время эти сборники рассматриваются и как характерные для более развитого, собственно литературного этапа в искусстве слова, ознаменованного зарождением психологизмав
В области изучения психологизма художественной литературы уже немало сделано. Многие исследователи, обращающиеся к советской прозе на современном этапе, отмечают ее особую аналитичность, интерес ко внутреннему миру героев, умение изображать борьбу противоречивых начал в его душе. Между тем далеко не все аспекты психологизма в литературе освещены. Поэтому нельзя не согласиться с З.Г.Османовой, считающей, что при современном состоянии науки нужно исследовать сложность, противоречивость, цельность личности в эстетике и поэтике социалистического реализма; особенности соотношения эмоционального и рационального в поведении и духовном мире героев (243). Вот почему одной из целей второй главы дис с ер та,иии_д_ является конкретный анализ некоторых категорий психологизма, в современной философско-романтичеокой повестд Средней .Азии и Кдзах-
т&на.
Одновременно наша задача состоит и в том, чтобы раскрыть. каким образом в приемах воссозДания внутреннего, мира героев обнаруживаются и жанровые особенности современной сЬилософско-романтической повести. Присущие этому эпическому жанру аналитичность, сосредоточенность на одном-двух конфликтах и жизненных событиях, преимущественный интерес к одному-двум персонажам в произведениях 60-х - 1-й половины 70-х гг. проявляются в том, что предпочтение отдается монологической форме,при которой преобладают точка зрения, план повествования и голос одного героя. Однако со временем данные особенности жанра от-
ступают на задний план, теснимые иными, романными компонентами. Поэтому в философско-романтических повестях Средней Азии и Казахстана П-й половины 70-х начала 80-х гг. рассказ от д^р-ир^-ДШ^Р^ШШе^меото несобственно-прямрй_речи .отделяются друг от друга точки зрения ._пданы_до.вество.вания_и.годося-SJB-
^Ш-^-СеВй^і^-^-^б^^^^^&н^^-ЛйшіРіїааациИі^ти^
^^B_njJ3THj формы. Похожая эволюция на современном этапе наблюдается и в других разновидностях жанра, например, в лирико-психологичес-кой русской повести (см. об этом у Н.Лейдермана (203). В третьем главе, как бы подводящей итог нашим наблюдениям над современной философско-романтической повестью Средней Азии и Казахстана, в поле зрения - ее жанровая специфика, исследование которой призвано углубить и расширить сегодняшнее представление об одном из значительных прозаических жанров. Современная философско-романтическая повесть Средней Азии и Казахстана испытывает специфический интерес к элементам путешествия в фольклоре. Поэтому в этой главе мы хотим показать, что некоторые черты анализируемых в диссертации произведений восходят к мотиву пути в народной прозе и средневековой литературе Ближнего и Среднего Востока. Іктуальность такого под-хада^ бусл^вд ejis_T е м^дт_ ср е ад фодькдоризма советское литературы почти, отсутствует _цр.едд,аг.а,е-_ мое нами исследование взаимодействия мотива путешествия в народном поэтическом искусстве...и средневековой прозе Бдианего и. Среднего. Востока с_жадром_повести Средней;..А.зии_и Казахстана. Научные работы, затрагивающие идейно-художественное своеобразие путешествия в дофольклорном, фольклорном и литературном видах повествования, немногочисленны. Помимо монографии В.А. Михельсона (232), посвященной судьбам жанра в рус- ской классической литературе, и статьи в" КЯЭ* , носящей обзорный характер (283), есть и некоторые специальные исследования. Они уделяют значительное внимание конкретному бытованию различных разновидностей книг странствий в классический период персидско-таджикской, древнерусской и арабской культур. Это труды В.В.Бартольда (96), Е.Э.Бертельса (107), Н.К.Гудзия (148), Й.Ю.Крачковского (196). Выводы, которые можно сделать на основании изысканий этих ученых, представляются важными и ценными. В то же время жднр путешествия еще недостаточно исследован как совокупность литературных памятников определенно^ эпохи. Не изучена в той мере,^в какой она этого заслуживает, и его историческая судьба. Поэтому цель третьей главы - проследить эволюцию путешествия от его элементов в жанрах народной прозы (как условных - мифе, сказке, так и неусловном да-стагне) через публицистически-художественные произведения Во -стока ІХ-ХУП вв. до его бытования в,современной советской литературе. Небезынтересно также и охарактеризовать то неизмен-ноев что в нем осталось от древнейшего времениf и то новое, что привнесли в эту Форму филосоФско-романтические повести Средней Азии и Казахстана как произведения социалистического реализма. Мы стремимся попутно,показать, что в описаниях средневековых паломничеств, хождений, странствии зародились неко-рые черты литературного повествования нового времени - ХУЩ-XIX вв. Актуальность подобных задач обусловлена курсом современного советского литературоведения на сочетание комплексного эстетического анализа произведений слова с теоретическим осмыслением исторических судеб литературных направлений, стилей, жанров. Эти цели были сформулированы, в частности, в докладах М.Б.Храпченко, Е.М.Мелетинского, В.М.Гацака и других на кон- ференции "Историческая поэтика и принципы ее изучения", состоявшейся 19-22 мая 1982 г. в ИМИ им.А.М.Горького АН ССОР. При этом, рассматривая в третьей главе средневековые хождения (сафар-наме) Ближнего и Среднего Востока,мы стремимся активизировать в литературоведческом обиходе целый пласт памятников,принадлежащих одной эпохе и отмеченных идейно-художественной общностью.Чтобы ярче обрисовать их своеобразие, литературу Арабского халифата ІХ-ХП вв. и более позднего периода (XIII-ХУЛ вв.) имеет смысл анализировать в ее глубоких связях с социально-политической и научной жизнью данного государственного объединения. Что касается собственно филологических методов этой части работы, то исследование сафар-наме носит системный характер и затрагивает их.содержательно-эстетические аспекты. ТТель данного рассмотрения состоит, в частности, и в том, чтобы на материале определенного круга памятников внести некоторые коррективы в существующие в современной науке представления о характере средневековой культуры Ближнего и Среднего Востока. Мы пытаемся доказать, что ей присущи гуманизм, широкий интерес к человеку и многообразным сторонам жизни, необычная для мусульманства веротерпимость. Благодаря данным чертам, литература ІХ-ХУ вв. может расцениваться как проявление "предренессансной" культуры средневекового города (см. об этом у В.М.Жирмунского (165, с.40). Подобная точка зрения подкрепляется и нашими наблюдениями в сфере художественного психологизма: именно в этот период зарождается показ индивидуальных, особенностей характера героя, предвосхитивший в известной степени интерес ко внутреннему миру и страстям раскрепощенного и могучего человека в искусстве Возрождения. 0 первых ростках индивидуализации применительно к средневековому романическому эпосу настоятельно говорят и В.М.Ширмунс- кий (165, с.44), Е.М.Мелетинский (225), А.Д.Михайлов (230). Среди задач третьей главы - и желание проследить последующую историческую судьбу сафар-наме. Мы находим переосмысленные традиции средневековых "хождений" Ближнего и Среднего Востока в XIX столетии в творчестве выдающегося таджикского просветителя и писателя А.Дониша, в 20-30-х гг. ХХ-го в. - в первых среднеазиатских и казахстанских произведениях социалистического реализма. Наиболее же радикальное изменение старинного жанра странствий происходит в "Бухаре (Воспоминаниях)" (1949-1954) зачинателя нового, революционного искусства в таджикской литературе С.Айни. Писатель .отказывается от_форіладьво-го мотива пу,ти. выдвигая на первый план философское, путешествие духа. Открытием таджикского прозаика широко пользуются наши современники: Ч.Айтматов, Ф.Мухаммадиев, Т.Пулатов, А.Ке-кильбаев, а также М.Гапаров, А.Абу-Бакар. Таков круг проблем, которые целесообразно затронуть, чтобы очертить "предысторию" жанрового своеобразия философско-романтической повести Средней Азии и Казахстана 60-80-х гг. Нри_анаяизе же ее жанровой природы мы присоединяемся jk т^чке зрения ряда исследователей, сближающих.эпическое довествова-вие Ч.Дйтматова и других советских_пис_йT^eй_^_poJшдoJl_lcJЬJP-a= б QxuJLM^hmxmosB^iM 1^Бедо*Ш05),,, TULSMsmsBLSZSSiL Д.Г.Якименко.(340). Стирание жанровых границ - характерное явление не только в современной советской литературе, но и в других видах искусства, например, в театре, кино, где, скажем, оперетта активно осваивает серьезное драматургическое начало, а комедия прибегает к аналитизму и лиризму. Основными критериями при определении романного звучания тех или, иных образчиков повести в третьей главе диссертации - зо - принципе изменения (внутреннего движения) героев, о свободном и гибком стиле, сочетающем различные языковые пласты. При этом автор стремится показать, не делая прямых аналогий, что средневековые книги хождений являются одним из источников жанрового своеобразия современной филососЬско-рома,нтической повести. Таким образом, в диссертации ставится двоякая задача.Во-первых, это стремление осуществить системный, комплексный,всесторонний анализ фольклоризма философско-романтической повести Средней Азии и Казахстана в плане проблематики, структуры образов, сюжета, способов изображения человека, метода и стиля, жанрового своеобычия. Во-вторых, желание проследить при помощи историко-теоретического подхода, как на разных этапах искусства слова зарождаются и формируются принципы психологизма и эстетика литературы нового времени, то есть ХУШ-ХХ вв.Здесь в поле нашего зрения попадают следующие литературные категории: проблематика, специфика соотношения образа автора с образами других героев, своеобразие стиля. В своих статьях и беседах Ч.Айтматов неоднократно высказывался против натуралистического представления о реализме, настоятельно подчеркивая, что современному советскому искусству должна быть свойственна напряженность нравственно-философских исканий (75). Этому требованию вполне отвечает прова самого Ч.Айтматова, равно как и повести близких ему по своим идейно-творческим принципам писателей Средней Азии и Казахстана 60-Х-80-Х гг. Т.Пулатова, Ф.Мухаммадиева, А.Кекильбаева и других авторов региона: О.Бокеева, С.Санбаева, М.Гапарова, Т.Каипбергенова. Диапазон проблем, которые избирают эти мастера слова, поистине космичен: добро и зло, война и мир, человек и все мироздание, религиозная вера и научное знание,нравственность и безнравственность, уроки истории и современность и многое, многое другое. На обращение к именно такому кругу проблем влияет и тот устойчивый интерес, что испытывает философско-романтическая повесть Средней Азии и Казахстана бО-х-80-х гг. к народным мифам, легендам, сказкам, дастанам, притчам, которые прозаики то прямо цитируют в своих произведениях, то значительно трансформируют. Независимо от того, какому из этих двух способов фольклоригма отдают предпочтение авторы современной повести, в ней можно условно выделить собственно реалистический, имеющий исторически-конкретную определенность, и фантастико-метафорический, обладающий характером всеобщности и исполненный романтичности планы, между которыми нет непроходимой грани. Например, в "Материнском поле" (1963) Ч.Айтматова историческая конкретика ощутима в изображении трудового и нравственного подвига и в то же время трагедии киргизских женщин, не дождавшихся с поля боя своих мужей и сыновей. Повторяющиеся же сцены сельскохозяйственных работ, лейтмотивное описание Дороги Соломщика, диалоги Толгонай с Матерью-Землей выводят конкретно-историческое повествование на присущий романтическому стилевому течению обобщенный уровень философских раздумий о смысле жизни, о силе человеческой натуры, убиваемой горем и вновь возрождающейся к радости, подобно тому, как, по мифологическим представлениям, умирает и вновь воскресает для нового сева земля. Подобное соотношение двух видов повествования дает и любое иное И8 последующих произведений писателя, например, повесть "Белый пароход" (1970), в которой, по сравнению с "Материнским полем" и "Прощай, Гульсары!", усиливается значение условного начала. Благодаря этому возрастает и удельный вес поставленных в повести столь излюбленных романтическим типом творчества вечных вопросов: добра и зла, слабости и активности, покорности и насилия, ответственности человека перед родной историей и народом, природой. В содержании и художественной организации повести большую роль играет сказка о Белом пароходе и легенда о Рогатой матери-оленихе. Новым эффектом в прозе Ч.Айтматова от его обращения к фольклору становится то,что народное творчество помогает писателю высветить не только духовный, числящийся в основном по романтическому ведомству, но и общественный аспекты бытия современного советского человека, его нравственную сущность, в чем видны и прочные реалистические корни произведения. Но прежде чем показать, как используются в реальном и фантастическом планах повествования эти сказка и легенда, небезынтересно проследить этапы трансформации в повести произведения киргизского фольклора. В "Белом пароходе" Ч.Айтматов подвергает творческой обработке одну популярную народную легенду, сказку же придумывает сам. Киргизская легенда о Рогатой матери-оленихе записана еще в прошлом столетии Ч.Валихановым как "предание племени бугу". Вот ее основные моменты: "Бугу" значит олень. О происхождении этого названия в народе существует замечательный миф. Кара-Мурза и Асан .., охотясь за оленями на горах Ала-Мышык, увидали в стаде маралов прекрасную девочку и мальчика с оленьими рогами. Они убили мальчика, схватили девочку, которая с воплем бросилась на труп брата и долго неутещно, плакала. Предание гласит, что вследствие проклятия рогатой девицы Асан и Кара-Мурза де имели потомства" (122, с.300). "Затем девушка вышла замуж и прославилась своей необыкновенной мудростью под MJ lfe r iI ,J i1 Ti J_ M_aTej jiJ ..." "Дикокаменные киргизы до сих пор свято чтят память этой рогатой матроны.._,_"(подчеркнуто нами - Т.Д.) (122, с.301). Изображение чувств, мыслей, свойств человека - общая форма психологизма в фольклоре и литературе. Ее наиболее простой вид - покав внутреннего состояния во внешних проявлениях -действиях, мимике, жесте, nose, речи. Рисуя эмоциональные реакции черев действия и состояния, народная и литературная восточная скавка, а порой и предание часто прибегает к устойчивым формулам. Напуганный хитрым охотником, дрожит от страха глупый великан (киргизская сказка "Дыйканбай и великан" (20). В дрожи проявляется страх леопарда, которого смог провести маленький олененок (таджикская сказка "Леопард, олень и лисица" (44). В этих же сказках и в киргизской скавке "Койлубай" (20) ужас, охвативший героев, заставляет их пуститься в бегство. Криком выражает свое состояние оставленная по приказу мачехи отцом в гоночном лесу Зумрад (узбекская сказка "Зумрад и Киммат" (54). Горе, печаль, любовное страдание изображаются в народной прозе весьма экспрессивно: герой плачет, лишается чувств, отказывается от пищи, заболевает. Плачут старик и его сын, обиженные баем (узбекская скавка "Мулла Панкущ" (54), девочка, потерявшая своего брата (киргизское предание о Рогатой матери-оленихе (122), красавица, разлученная с возлюбленным (таджикская сказка-дастан "Тахир и Зухра" (49) и др. В народной прозе похожи на болезнь некоторые проявления горя и любви. Шах слег в постель ив-за того, что разбилась его любимая пиала (узбекская сказка "Насыр Плешивый" (54). Влюбившись, герой лишается чувств (таджикская сказка-дастан "Фархад и Ширин" (49), ходит сам не свой (Козу-Корлеч из казахского дастана "Баян-Слу и Ко8у-Корпечп (ІЗ). Не в силах забыть погибшего возлюбленного, Зухра из таджикской сказки-дастана "Тахир и Зухра" тает как свеча (49). В произведениях фольклорной условности и дастанах радость обычно изображается через порывистое движение, смех, поцелуй. Угнав, что храбрый Хатам решил освободить народ Герата от дракона, шах этого города обнимает героя (узбекская сказка "Хатам" (54). Чувство красавицы Баян к Kosy-Корпечу обнаруживается в ее веселом смехе (казахская скавка-дастан "Баян-Олу и Ко-зу-Корпеч" (13). Ве8ир из таджикской сказки-дастана "Тахир и Зухра", ликующий оттого, что у него появился долгожданный наследник, целует новорожденного (49). В средневековой прозе, изображающей, по сравнению с фольклором, человека более тонко, за внешним обнаружением внутреннего состояния часто кроется не одно, а несколько чувств. Так, в одной из сказок "Тути-Наме" вмея, увидев, что ее исконный враг эмир лягушек пришел к ее норе , засмеялась (33, с.189). По-разному можно толковать этот смех - и как предвкушение трапезы, и как отношение к наивности лягушки или проникновение в замысел эмира, ищущего союзника в борьбе с врагами. В другой скаэке этого же сборника влюбленные, встретившись после вынужденной разлуки, "испустили радостный вопль" и "... томимые страстью зарыдали" (33, с.302). В этих рыданиях обнаруживаются печаль при воспоминании о тяготах равлуки, радость при встрече, любовное нетерпение. Таким образом, уже довольно простой прием изображения чувств персонажа во внешних проявлениях свидетельствует о возможностях воссоздания в фольклорной и средневековой литературной традиции многообразия внутреннего мира человека. Более сложными являются наблюдения над мимикой, жестом, позой.Образчик такого описания дает "Калила и Димна" (17, раздел I) и трактующие определенный эпизод данного сборника народные сказки (например, казахские - "Лев и лиса" (13) и "Похождения одной лисицы" (15); агрессивные намерения льва и быка проявляются во внешних признаках - шерсти, вставшей дыбом; рогах, направленных на противника, и т.д. В волшебных скавках подобное изображение персонажа носит характер деталей, подчас реалистически точных. Например, в ярости, поверив клевете жены на пасынка, не ответившего на ее любовь, отец хватает плеть (узбекская сказка "Гуль и Сунбуль" (54). Более заметную роль жест играет в бытовой разновидности жанра, что неудивительно, так как в нем меньше фантастических элементов и больше наблюдений над реальной действительностью. В узбекской сказке "Бай и казни" (54) бай жестами сулит кавию подарок, и тот решает дело в его пользу. В этой сатирической сказке жест является средством социальной типизации обравовбая и казия. Так же запоминаются мимика и позы лисгс, выражающие мнимое благочестие, в таджикских антиклерикальных сатирических сказках "Хитрый лис" и "Благочестивый лис" (44). В средневековых сборниках литературных сказок мимика,жест, пова то выступают, как и в народной прозе, в виде незначительных для повествования деталей, то служат средством для социальной типизации и свидетельствуют о первых зачатках реалистической традиции. В "Скаэке о Синдбаде-мореходе" (25) о человеческой и социальной скромности носильщика Синдбада красноречиво свидетельствуют его позы: устав от работы в гнойный день, он робко присаживается на край скамьи у ворот богатого дома. Приглашенный богатым Синдбадом-мореходом на пышный пир, он стоит в зале, скромно опустив голову. Как отмечалось выше, способы изображения чувств, мыслей, свойств человека в их внешних проявлениях общие у фольклора и литературы. Поэтому естественно, что они широко испольвуются и в искусстве слова нового времени, то есть ХУШ-ХХ вв., являясь зачастую тем первоначальным строительным материалом - своего рода кирпичиками, из которых и со8идается здание художественного образа. Например, в философско-романтической повести Средней Азии и Казахстана 60-80-х гг. внешние проявления чувств тоже могут раскрывать общечеловеческие переживания. Во всех видах народной прозы странствования героя образуют устойчивые типологические мотивы. Как свидетельствует В.Я. Пропп, в сказке и эпосе "действие очень часто начинается с того, что герой выезжает из дома. Путь героя как бы представляет ось повествования. Это - древнейшая форма композиции. Повествование кончается либо возвращением героя домой, либо прибытием его в иной город или иную землю" (256, с.92). О распространенности такого сюжета пишут и исследователи тюркоязычного фольклора: применительно к турецко-османским сказкам В.Д.Смирнов (288, с.223-260), к узбекским Г.А.Джалалов (158). Каковы причины, заставляющие отправляться в путь персонажей народной прозы? Что ждет их во время странствий? С чем возвращаются они из путешествия? В зависимости от ответов, предлагаемых на эти вопросы, в народной прозе можно выделить три вида путешествия, В путешествии ради достижения благополучия герои покидают дом в силу различных обстоятельств. В сказках о животных они поступают так из-sa грозящей им смертя, плохого обращения хозяев, желания найти лучшую жизнь. Подобные мотивировки встречаются в таджикских (44 б, г, е, ё, ж, к, м ), казахских (12 г, д), узбекских (53 а), туркменских сказках (52 б, в,г). Далее действие развивается следующим образом. После того как персонажи сказок преодолевают встретившиеся им в пути препятствия и избегают таким образом смерти, они поселяются в чужой земле, где вдоволь еды, либо, взяв богатство побежденных,воз-вращаются домой. Данные мотивы встречаются в таджикской сказке "Осел-богатырь" (44 ё), казахской "Храбрый осел" (12 д), узбекской "Умная коза" (53 а), туркменской "Как осел, петух и коза обманули дэвов" (52 в). Анализ сюжетов этих сказок показывает, что в них выделяется несколько устойчивых мотивов, относящихся по известному указателю сказочных сюжетов. В волшебных и социально-бытовых сказках,а также дастанах Средней Азии и Казахстана среди причин, побуждающих героя отправиться в путь, - постигнувшая его неудача (14 д, то же в дастанах "Плутовка из Багдада", "Семь каландаров", "Падишах и три дервиша" (36), желание правителя осмотреть свои владения (20 е), любопытство (персидский дастан "Отважный царевич" -(36). Симптоматично, что именно из-за того, что данные мотивировки встречаются не часто, такие сказки не поддаются определению по Aarnehompson , Аарне-Андрееву и другим указателям сказочных сюжетов. Популярны же, особенно в волшебных сказках,следующие мотивировки путешествия. Первая - гонение невинных. Падчерицу или пасынка преследует мачеха, золовку - невестка, детей младшей жены старшие жены, властитель хочет извести дочь или сына приглянувшейся ему красавицы и т.д. (21 в; 54ё, з, к, м, о). Из-за наветов мачехи становятся странниками братья Гуль и Сунбуль, герои одноименной узбекской сказки. В пути Гуль умирает. Сунбуля выбирают шахом. Гуля воскрешают. Затем новое испытание судьбы: антагонисты, задумавшие отнять у героя жену, помещают Гуля в сундук, который спускают по реке. Герою опять грозит гибель, но он вторично избегает ее и в конце кон вается заключением номера в скобки. Типы, обозначенные "Ев Во", приводятся по кн: Свод таджикского фольклора, - Воскрешение, восходящее к аграрным мифам, распространенный мотив в волшебной сказке. См..например, таджикскую сказку "Бахрам и Бахман" (49 б), киргизскую "Два друга" (20 д)цов соединяется с братом и женой (54 к). Путешествие Гуля и Сунбуля напоминает странствие Асана и Усена (об этом как бы свидетельствуют созвучные имена двух пар персонажей) из киргизской сказки "Два брата", Усен падает в колодец, ватем спасается. Асан становится ханом. После ряда унижений Усен встречается со старшим братом и женит его на красавице (21 в). Героиня узбекской сказки "Хасан и Хурлико", гонимая братом, который отрубил ей руки, поверив клевете на сестру злой жены, становится женой сына падишаха. Из-за козней ее невестки Хурлико изгоняют вторично. Брат и муж, поняв свою вину, находят ее (54 о). К зтому типу сказочного странствия относится и библейский миф об Иосифе Прекрасном. Иной вариант странствия невинно гонимой встречается в персидском дастане "Семь каланда-ров", героиня которого оклеветанная добивающимися ее взаимности влюбленными, спасается от преследований отца и от домогательств тех, кто, встретившись ей в пути, идет ее любви (36).Роль фольклора в обращении философско-романтическои повести Средней Азии 60-х-80-х гг. к общим проблемам бытия
Изображение чувств, мыслей, свойств героев в на родной и средневековой прозе Ближнего и Среднего Востока и философско-романтическои повести Средней Азии 60-х-80-х гг
Значение мотива пути в мифах, сказках, преданиях, дастанах народов Средней Азии
Похожие диссертации на Роль народно-поэтических традиций в обогащении повести Средней Азии