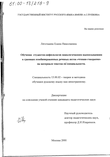Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Определение общих понятий
1. Акт чтения
а) Апология рецептивной теории 18
б) Критика рецептивной теории 26
2. Нравственное измерение в литературе
а) Акт нравственной оценки: способы концептуализации 36
б) Моральный компонент в литературе: репрезентация и функция 38
3. Нравственная рефлексия как элемент рецепции и как феномен романтического сознания 42
Глава II. Тексты в контексте: проблематизация пуританского наследия в малой прозе Готорна
1. Мировоззрение автора: между догматом и чувством 47
2. Пуританизм: на переломе культурных эпох
а) Догматические и нравственные аспекты истории западного христианства 62
б) Пуританизм в Новой Англии 70
3. Пуританское прошлое в прозе Н. Готорна: особенности художественного освоения 97
4. Проблемное ядро исторической новеллистики Готорна: бесчеловечная вера и естественная человечность
а) «Кроткий мальчик»: мученик религии сердца 103
б) «Майское дерево Мерри Маунта»: карнавал света и мрака 141
в) «Эндикотт и красный крест»: разрыв с прошлым 154
Глава III. Роман «Алая буква»: автор-текст-читатель
1. Автор в поисках идеального читателя: потребность понимания 169
2. Прием смысловой неопределенности: понимание как проблема 190
3. Рецепция: варианты прочтений
а) Критическое освоение романа на ранних этапах рецепции: становление художественной репутации и генерализованные оценки 206
1. Художественный строй романа: «догма в образах реальной жизни» 207
2. Способ морального воздействия: воскресная проповедь или роман в духе Жорж Санд? 211
3. Идейно-эмоциональная доминанта 219
I) «Страница литературы отчаяния»: язычество как основа мировидения романа 220
II) «Великая мрачность» пуританизма 222
III) «Небесный свет над позорным помостом»: христианская идея в романе 224
б) «Выбор» героя как акт нравственного самоопределения читателя
1. Эстер как «герой» романа 228
2. Димсдейл: «сила и реальность совести» 257
в) От нравственной рефлексии к нравственному суждению и обратно: крушение и исполнение надежды на понимание 272
Заключение 291
Приложение
- Апология рецептивной теории
- Мировоззрение автора: между догматом и чувством
- Автор в поисках идеального читателя: потребность понимания
Введение к работе
Цель настоящей работы — исследовать особенности раскрытия нравственной проблематики в произведениях Н. Готорна (1804-1864) в аспекте коммуникативных стратегий текста, то есть последовательно анализируя формально-содержательные структуры текста в их адресованное читательскому восприятию.
Читательское восприятие произведений Готорна интересует нас прежде всего с «формальной» стороны: в работе анализируется «акт чтения» и такая когнитивная составляющая читательской активности, как «нравственная рефлексия». В качестве материала избран роман «Алая буква» (The Scarlet Letter, 1850) и три «исторические» новеллы Н. Готорна («Кроткий мальчик» (The Gentle Boy, 1832), «Майское дерево Мерри-Маунта» (The Maypole of Merry Mount, 1836), «Эндикотт и красный крест», Endicott and the Red Cross, 1837).
Помимо «имплицитного читателя»,1 нас будет интересовать и читатель исторический: материалом для исследования послужит ряд отобранных нами рецензий и интерпретаций романа «Алая буква», помещенных в периодических и научных изданиях с момента первой публикации романа (1850) до 1990-х годов. Проводя обзор мнений читателей по различным вопросам, связанным с содержанием романа «Алая буква», мы проследим динамику читательского восприятия романа на протяжении истории его рецепции. При этом полнее выявляется «горизонт ожидания» читателей, идейный контекст, в котором происходит восприятие романа. В ходе критического анализа интерпретаций романа в центре внимания будет оставаться нравственная тема. Сопутствующей задачей станет выяснение относительной герменевтической состоятельности тех или иных прочтений.
Теоретической основой исследования послужили некоторые постулаты рецептивной
теории (В. Изер, Х.-Г. Яусс) и научно-философское наследие М. М. Бахтина. В первой
главе, полностью посвященной вопросам теории, мы изложим принципы методологии
данной работы, опирающиеся на разработки указанных авторов, а также попытаемся
критически осмыслить их наследие с целью определения нашей творческой дистанции от
них. Общетеоретические вопросы будут затронуты нами и в завершающих разделах
работы. у
Актуальность данного исследования обусловлена прежде всего недостаточностью внимания, которое отечественное литературоведение до сих пор уделяло творчеству Н. Готорна, хотя произведения его начали издаваться на русском языке еще при жизни автора,
1 «Имплицитаный читатель» - исследовательская модель «идеального» реципиента информации, помогающая описать смыслозадающие структуры текста, а также предпосылки и условия перехода этих структур в читательский опыт.
4 и с тех пор знакомство с ними русского читателя не прерывалось, они включены в университетские курсы истории зарубежной литературы, и т.д. Творчество Готорна сразу же получило отклик в русской критике (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, М.Л. Михайлов), а также было отмечено маститыми писателями (например, Готорн был любимым американским автором И.С. Тургенева (112:374)). Критическое и научное осмысление наследия Готорна в России тем не менее остается недостаточным, особенно на фоне того количества исследований, которые из года в год выходят о Готорне на английском и других языках. Число диссертаций невелико, а первая монография о Готорне
на русском языке увидела свет лишь в 2004 году. В основном русскоязычное готорноведение существует в форме предисловий к изданиям его произведений, разделов в академических и учебных курсах истории литературы, а также отдельных учебных пособий и статей. Такое положение дел, как нам кажется, не соответствует месту Готорна в истории американской литературы и его значению как писателя самобытного таланта и общемирового культурного влияния.
Следует также отметить, что Готорн сравнительно мало известен у нас и широкому читателю, в то время как имена его соотечественников и современников - Ф. Купера, Р. Эмерсона, Г. Торо, Э. По, Г. Меллвила, М. Твена - составляют неотъемлемую часть российского культурного горизонта. Возможно, это связано с недостаточными усилиями по популяризации его наследия или самим характером этого наследия (сам Готорн неоднократно писал, что его книги «не отвечают вкусам большинства»). Но можно предположить, что главной причиной известной сдержанности российского читателя (профессионального и «широкого») по отношению к Готорну было трагическое насильственное отчуждение нашего народа от духовных основ жизни, которое сделало полноценное понимание «идеалистических» произведений искусства затруднительным, а случаи открытого выражения такого понимания в научной и общественной среде -редкими. Так или иначе, данная работа является попыткой осмысления творчества Готорна на фоне сравнительно небольшого числа таких опытов в отечественном литературоведении. Отчасти по этой причине мы сочли необходимым включить в нашу работу обзор суждений о Готорне и его лучшем романе, сделанных на Западе за всю историю его рецепции.
Научная новизна данной работы определяется избранным теоретическим подходом (рецептивная теория и эстетика) к творчеству Готорна. Число опытов освоения и
2 Федосенок И.В. Грани романтического сознания: жизнь и творчество Натаниэля Готорна. М.: МГЛУ, 2004.
5 оригинального развития этой методологии в отечественной науке невелико, в сравнительно немногочисленных отечественных исследованиях наследия Готорна она не применялась никогда. Впрочем, и в западной (в частности, американской) литературной науке наследие Готорна с позиций рецептивной теории также практически не рассматривалось.4 В этом можно увидеть своего рода парадокс: о внутренней амбивалентности прозы Готорна писалось давно и написано немало (еще в 1938 г. А. Уинтерс назвал эту особенность «формулой альтернативных возможностей», в 1941 г. Ф.О. Маттисен обозначил ее как «прием множественного выбора» и т. д.)5, но трактовалась она как объективная характеристика поэтики и стиля, - коммуникативная составляющая «структур неопределенности» в тексте (термин В. Изера, 1976) оставалась вне поля внимания критиков. Тем более органичным, обоснованным и «назревшим» представляется исследование текстов Готорна в свете рецептивной теории.
То же можно сказать и о содержательном религиозно-нравственном аспекте книг Готорна: он стал объектом многочисленных работ.6 Но никем, насколько нам известно, еще не предпринималась последовательная попытка рассмотреть моральную тему у Готорна в аспекте нравственной рефлексии как составляющей читательского восприятия (а также шире — рефлексии как составляющей романтического и постромантического типа сознания).
В соответствии с обозначенным подходом и составляющими объекта исследования, историю вопроса можно изложить следующим образом.
См., например: Чернец Л.В. «Как слово наше отзовется...» М.: Высшая школа, 1995; Анцыферова О.Ю. Литературная саморефлексия и творчество Генри Джеймса. Иваново: Ивановский государственный университет, 2004.
4 Наиболее приближается к рецептивному подходу монография М. Данна: Dunne, Michael. Hawthorne's
Narrative Strategies. Jackson, University Press of Mississippi, 1995.
5 Winters, Yvor. Maule's Curse: Seven Studies in the History of American Obscurantism. Norfolk, Connecticut:
New Directions, 1938; Matthiessen, F.O. American Renaissance: Art and Expression in the Age of Emerson and
Whitman. N.Y.: Oxford University Press, 1941; Dauner, Louise. "The 'Case' of Tobias Pearson: Hawthorne and
the Ambiguities,"/4merican Literature, XXI (January 1950); Fogle, R.H. Hawthorne's Fiction: The Light and The
Dark. University of Oklahoma Press, Norman, 1952; Lang, H.J. How Ambiguous is Hawthorne?// Hawthorne. Ed.
A.N. Kaul. Eaglewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1966.
6 Например, Fick, Leonard J. The Light Beyond: A Study of Hawthorne's Theology. Westminster, Md: Newman
Press, 1955; Stewart, Randall. The Vision of Evil in Hawthorne & Mellville// The Tragic Vision and The Christian
Faith. N.Y., 1957; Waggoner, Hyatt H. Art and Belief II Hawthorne Centenary Essays. Ed. By Roy Harvey Pearce.
Ohio State University Press, 1964; Fairbanks, H.G. The Lasting Loneliness of Nathaniel Hawthorne. A Study of
the Sources of Alienation in Modern Man. Albany: Magi Books, 1965; Frederick, John T. Nathaniel Hawthorne//
The Darkened Sky: Nineteenth-Century American Novelists and Religion. Notre Dame: University of Notre Dame
Press, 1969; Axelsson, Arne. The Links in the Chain. Isolation and Interdependence in Nathaniel Hawthorne's
Fictional Characters. Uppsala, 1974; Donohue, Agnes McNeill. Hawthorne: Calvin's Ironic Stepchild. Kent: The
Kent State University Press, 1985; Forrer, Richard. Theodicies in Conflict. A Dilemma in Puritan Ethics and
Nineteenth-Century American Literature. Greenwood Press, 1986; Harris K.M. Hypocrisy and Self-Deception in
Hawthorne's Fiction. Charlottesville: University Press of Virginia, 1988; Abel, Darrel. The Moral Picturesque.
Studies in Hawthorne's Fiction. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 1988; Johnson, Claudia D.
Hawthorne and the Nineteenth-Century Perfectionism II On Hawthorne. The Best from American Literature. Duke
University Press, 1990; Ратушинская H.B. Пуританское уховное наследие в творчестве Н. Готорна и Г.
Мелвилла. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1997 и др.
Уже ранние читатели Готорна рассматривают нравственную доминанту его произведений в связи с его особым способом письма. Так, Гильдерой Грифин (1871), откликаясь на еще более ранние критические суждения о Готорне, пишет: «В качестве отрицательного свойства его произведений часто называли то, что он не предлагает решений нравственных и психологических коллизий, но лишь раскрывает их действие и последствия в конкретных и живых образах. Но именно это и вызывает у нас наибольшее восхищение... Кажется, что Готорн более желает предоставить читателю возможность самому найти истину, чем указать ее» (29:65). Более поздний критик, Т. Мюнгер (1904) писал о том же: «Готорн, этот совершенный художник, никогда не утверждает и не изображает до конца, но только намекает и оставляет прочее читателю» (29:125). Важную роль при этом, по наблюдению Мюнгера, играет «символизм»: «До последнего штриха Готорн верен символизму, который одновременно обнаруживает и скрывает его смыслы» (29:131).
В XX веке «амбивалентность» Готорна получила дальнейшее внимание и теоретическое осмысление. В книге Айвора Уинтерса она обозначена как «формула альтернативных возможностей» (43:170), а в монументальном труде Ф.О. Маттисена как «прием множественного выбора» (44:276). В середине века в статье, посвященной этой особенности произведений Готорна, ее автор Л. Даунер (1950) считает нужным заметить: «Стало, наверное, уже общим местом наблюдение, что элемент парадокса составляет неизменную черту книг Готорна и, можно даже подумать, предмет его нездорового удовольствия...» (47:24). Причем исследовательница пишет об амбивалентности Готорна вновь в связи с его нравственной проблематикой: «С точки зрения морали, Готорн чаще всего предлагает интригующие, но, в конечном счете, неопределенные моральные гипотезы. С точки зрения художественности и символического изображения, он любит доставлять читателю сомнительное удовольствие «множественного выбора» (Маттисен)... Мы получаем текучую смесь воображения и факта, символического и конкретного. Поэтому всегда остается мучительная неопределенность, доводящая до досады и останавливающая нас всякий раз, когда мы беремся сформулировать для Готорна какую-нибудь удобную этическую доктрину. Мы не знаем, куда именно «поместить» этого автора, поскольку для каждого "белого" у него всегда есть свое "черное"» (47:25).
Для критики 1950-х годов остается характерным повышенное внимание к моральной
проблематике Готорна и одновременно - к его амбивалентности и «символизму». Так, Р.Х.
, Фогл (1952) пишет: «Уже отмечалась неоднозначность (ambiguity) Готорна. Этот тип
і неоднозначности есть способ ввести чудесное без ущерба для вероятного. Но есть и более
7 Fogle, R.H. Hawthorne's Fiction: The Light and The Dark. University of Oklahoma Press, Norman, 1952.
7 глубокая цель — передать через легенду и суеверие нравственную и психологическую правду» (48:11). Возражая Маттисену, назвавшему особенность текстов Готорна «приемом множественного выбора», Фогл пишет: «Это не прием, а всеобъемлющее состояние ума. Оно выделяет чистую форму истины, рассеивая второстепенное, - такова его положительная функция. С отрицательной стороны, оно обозначает пределы видения, за которыми - тьма» (48:11).
Фогл осмысливает неоднозначность у Готорна как способ художественного выражения его нравственной позиции: «Готорн судит безжалостно, но с сочувствием, и эта неоднозначность всегда оставляет место для иного приговора» (48:14). Такую моральную позицию Готорна по отношению к его персонажам Фогл объясняет религиозным мировидением автора: «Именно благодаря присутствию "сверхъестественного" (небесного, абсолютного) в мышлении Готорна, конечные судьбы его главных героев облечены в неоднозначность. Он уважает их как живых людей и отказывается выносить окончательное суждение» (48:109). Таким образом, неоднозначность у Готорна, по мнению Фогла, есть проявление его положительной моральной и христианской позиции. О романе Готорна исследователь пишет: «Подлинное завершение "Алой буквы" есть неразрешимое противоречие — неразрешимое не вследствие неуверенности или скудости авторской мысли, но благодаря честности его воображения» (48:105). Фогл высказывает суждение и о «герменевтических» плодах такой манеры письма Готорна: «Наличие столь многих возможностей ясно намекает, что вся истина не заключается в каком-то одном выборе» (48:119). Отсюда проистекают особые принципы оценки различных интерпретаций: «Во множестве интерпретаций, которые составляют моральную неопределенность "Алой буквы", нет четких различий между истинным и ложным, но есть различие между поверхностным и глубоким» (48:118). Таким образом, для Фогла неоднозначность Готорна есть положительная особенность с моральной и художественной точки зрения.
Р. Меил (1957)8 решительно утверждает приоритет морального содержания у Готорна: «Критики, которые занимаются исключительно образностью или художественными приемами у Готорна никогда не познают его подлинную силу. Готорн обладал, по выражению одного его друга, "великой силой прозрения", и его произведения ценны главным образом благодаря проникновению в истины человеческого сердца. Его единственной плодотворной темой была тема нравственного роста» (51:6). Одновременно исследователь отмечает и «двойственность» Готорна: «Наши трудности понимания Готорна в значительной мере возникают при попытках выразить его идеи в абстрактной, неподвижной форме. Если мы честно пытаемся это сделать, то приходим к неразрешимой
8 Male, Roy R. Hawthorne's Tragic Vision. Austin: University of Texas Press, 1957.
«двойственности», отмеченной несколькими критиками. Готорн предстает как протестант, в глубине души желающий стать католиком, как защитник пуританизма, который сатирически изображал пуритан, как романтик, критикующий трансцендентализм, как скептик и одновременно верующий, и т.д.» (51:18). Разрешение этой «неразрешимой двойственности» Р. Меил находит в уравновешенном, прозрачном «повествовательном ритме» прозы Готорна: «Как свидетельствует сам стиль письма Готорна, каждый шаг исполнен альтернативных возможностей, но путь в целом предельно ясен» (51:18). Но все же остается не ясным, каким образом стиль писателя служит к разрешению противоречий его жизненного и творческого пути. Скорее, он может служить для их выражения, либо сокрытия.
Х.Х. Уэгонер (1955, 1964) прямо связывает «двойственность» Готорна с особенностями его религиозного сознания. По мнению исследователя, «творчество Готорна отражает его веру и служит ее выражением; и в большей степени, чем у других художников, мы можем узнать его веру только через его искусство» (52:178). Действительно, Готорн был довольно сдержан в формальном, понятийном выражении своих взглядов: «В том, что было ближе всего его сердцу, он либо не мог достичь полной убежденности, либо не желал заявлять свою убежденность однозначно. Его неопределенность... есть перевод этого аспекта его верований в искусство» (52:193).
Как и Меил, Уэгонер отмечает парадоксальность Готорна, который «считал себя поэтом, хотя писал только прозу, и христианином, хотя после унитарианского воспитания держался в стороне от всех церквей, включая эту» (52:167). Соответственно, «"прием неопределенности", в свое время отмеченный Маттисеном, есть не просто "прием", но выражение в технических терминах существенного состояния веры Готорна... - пишет Уэгонер. - Можно сказать, что это способ избежать ясности - той ясности, которую Готорн считал обманчивой или несущественной. Допустим, нам кажется, что произошло нечто сверхъестественное. Этому можно дать одно или несколько естественных объяснений. Но может ли любое объяснение, даже при уверенности в его истинности, упразднить религиозное значение странного происшествия?» (52:192). Соответственно, «двусмысленность не только не коробила Готорна, но казалась ему необходимой для любого полного и честного отражения опыта» (52:169).
Для Готорна-художника «это означало трансформацию традиционной аллегории в мифопоэтическое искусство, иногда близкое к Баньяну и Спенсеру, иногда к Фолкнеру, но в лучших своих проявлениях занимающую самостоятельную область» (52:195). По мнению
9 Waggoner, Н.Н. Hawthorne. A Critical Study. Cambridge (Mass.): The Belkap Press of Harvard University Press, 1955; Waggoner, Hyatt H. Art and Belief II Hawthorne Centenary Essays. Ed. By Roy Harvey Pearce. Ohio State University Press, 1964.
Уэгонера, «"аллегории сердца" Готорна привносят новый элемент в эту традиционную форму письма. Ни Баньян, ни Спенсер не писали "аллегории сердца" в существенном смысле: Спенсер и Баньян воплощали в аллегорию Истину — общепринятую, внешнюю истину, а обличие, которое они придавали ей, было случайным. В произведениях Готорна обличие имеет решающее значение, а "истина" сомнительна, неоднозначна, неокончательна» (49:95). О романе «Алая буква» Уэгонер пишет: «Интересно, что наиболее читаемый и любимый роман Готорна одновременно породил нескончаемый спор о его смысле. Разнообразие критических толкований подсказывает несколько выводов, один из которых состоит в том, что если роман "Алая буква" и аллегория, он не может быть аллегорией прежнего вида с ее четкими абстракциями, поскольку иначе роман не вызвал бы столько споров касательно его смысла» (49:118-119). Для Уэгонера «едва ли подлежит сомнению, что особое лицо Готорна как писателя определяется его уникальным отношением к форме и содержанию традиционной христианской аллегории, с одной стороны, и современному ему символизму, с другой» (52:189). Поскольку «значение его символов частично связаны с христианской традицией, а отчасти заданы контекстом», «произведения Готорна можно толковать и с теологических, и с психологических позиций, и оба подхода правомерны, хотя и не полны сами по себе» (52:189).
В отличие от упомянутых выше критиков, Уэгонер предпринимает и попытку содержательно охарактеризовать веру Готорна, которая представляется ему довольно традиционной. «Как часто отмечалось, Готорн был в большей степени, человеком XVII-ro и XVIII века, чем своего. Баньян повлиял на него больше, чем Скотт - его любимый писатель XIX века» (49:33). Хотя, в отличие от Баньяна, Готорн писал «аллегории сердца», «но сердце это настроено по исторической вере» (52:187). Под «исторической верой» Уэгонер подразумевает некую просвещенную «ортодоксию», чуждую сектантских крайностей, близкую по духу вере С. Джонсона и Э. Спенсера. В другом труде Уэгонер пишет: «Несмотря на то, что время от времени на его сцене появляются светловолосые девы, чтобы замолвить слово за «религию сердца», и чьи сердца кажутся чистыми «по природе», — Готорн полагает неискупленную человеческую природу немощным тростником...» (49:16). Здесь Уэгонер точно обозначает очень важное, с нашей точки зрения, идейное напряжение в творчестве Готорна — между «религией сердца» и верой в греховную поврежденность человеческой природы. Однако, Уэгонер разрешает это трагическое противоречие Готорна в пользу взвешенной, гармоничной умеренности, которая приносит благие духовные плоды: «В битве Веры и Дел он оказывается строго посередине... Он отрицает и пуританскую "полную поврежденность", и естественное добро пелагиан и модернистов... Вывод из этой позиции, далекой от цинизма или
10 отчаяния, становится основой его веры в братство людей» (49:16). Но, как будет показано в данной работе, положение в таком «центре» оказалось для Готорном серьезным испытанием, поскольку он не нашел здесь единомышленников, собранных в религиозную общину. Результатом стало одиночество и идейная раздвоенность, вера в «братство во грехе», не далекая и от отчаяния.
Подобно предшествующим критикам, Уэгонер отмечает моральную доминанту творчества Готорна: «Я думаю, мы должны согласиться, что чувствительность (sensibility) Готорна могла вполне откликнуться только на моральные ценности. Когда он не видел в факте нравственного значения, он не мог использовать этот факт творчески» (49:34). Вывод Уэгонера, который мы разделяем, выражается в двух положениях: «Формирующая сила искусства Готорна есть особый характер его религиозной веры»; «религиозная вера Готорна была экзистенциально ориентирована, не институциональна и традиционна... Но религиозный опыт, в отличие от доктрины и догмы, всегда, по необходимости, неоднозначен» (52:192). Эта неоднозначность, проецируясь в творчество, выражается в «структурах неопределенности», которые, в совокупности с моральной доминантой творчества Готорна, и порождают разительную поляризацию читательских мнений.
Г. Фэирбэнкс (1965)10 также склонен связывать художественные особенности книг Готорна с его «экзистенциальной» драмой, которую он осмысливает в контексте общей культурной ситуации XIX века. Для последней, по мнению исследователя, характерно «напряжение между требованиями Западной традиции - и американской Декларации независимости» (55:х). Готорн оказался выразителем этого «раскола в американской душе» (55:3): «Со смятенностью Гамлета, Готорн отразил основное смещение XIX века: распад религии, новое отношение человека к природе, проблему разъединяющего индивидуализма, разрушение традиционных концепций личности. Неоднозначности стиля, его обескураживающее использование приема "множественных возможностей" более обусловлено причастностью этой общей дилемме, чем ухищрениями искусства» (55 :х).
По концепции Фэирбэнкса, драма жизни и творчества Готорна связана с его религиозной «бездомностью»: «Он был глубоко духовным человеком. Это ключ к его обостренному переживанию неполноты. Он был религиозным человеком в век, потерявшем пути в богословии, а вместе с тем и общее чувство цели» (55:75). Для Готорна, «человека столь чуткого к немощи человеческой, жизнь в секулярном обществе была изгнанием, символом которого были его образы, а его опыт - фактом» (55:81). По мнению исследователя, Готорн «был не просто чувствителен к неполноте американского опыта, но
Fairbanks, H.G. The Lasting Loneliness of Nathaniel Hawthorne. A Study of the Sources of Alienation in Modern Man. Albany: Magi Books, 1965.
поглощен ею, одержим одиночеством» (55:3). Такое умонастроение определяет особое место Готорна в рамках его культурной эпохи: «Его постоянное утверждение немощи человеческого сердца и чуткость к тем потребностям человека, которые не могут получить земного удовлетворения, определенно помещает его вне обычных романтических категорий» (55:88).
Исходя из своего восприятия Готорна, Фэирбэнкс придает его творчеству особое духовно-нравственное значение: «Рассмотренные in toto, его произведения представляют собой наиболее впечатляющее воплощение традиционных христианских принципов, созданное значительным писателем XIX века. В качестве духовного чтения, ничто не сравнится с ними в американской литературе. Акцент на нравственности столь постоянен, что подвергает опасности художественность. Приверженность традиции столь строга, что кажется реакционной» (55:17).
«Золотой век» готорноведения в США (1950-е годы) совпал с религиозным возрождением в этой стране, что отразилось в подходах к Готорну упомянутых выше авторов. Хотя в целом такой подход близок к представленному в данной работе, все же нельзя не отметить тенденцию к упрощению у тех авторов, которые склонны видеть в Готорне ортодоксального христианина, а в его произведениях - литературу для благочестивого чтения. Такая трактовка еще в те годы вызвала протест, ярким примером которого явилась монография Ф. Крюза (1966).11
В послесловии ко второму изданию своей книги (1989) Крюз так ретроспективно обозначил ее место в истории готорноведения: «"Грехи отцов" не была первой книгой о Готорне, которая использовала психологический метод, но она была первой, где прозвучало «Довольно!» в адрес благочестивого поиска символов, которым литературоведение было заражено в течение предшествующего десятилетия» (63:274). А в 1966 году Крюз так охарактеризовал итог этого десятилетия: «Мы были свидетелями процесса канонизации, и, подобно всем святым, Готорн был возвышен до скуки» (63:8).
Сам Крюз считает Готорна человеком «рудиментарного христианства» (63:6) и замечает: «Можно говорить о его «ортодоксии» только ценой отказа исследовать психологическую подоплеку его сюжетов» (63:7). В восприятии Крюза Готорн предстает отнюдь не моралистом-догматиком, но человеком сомневающемся: «Ведущая нота Готорна была не «благочестие-нечестие», но неоднозначность (ambivalence). Готорн эмоционально вовлечен в свои произведения, и его эмоции обнаруживают в нем человека, мучительно раздвоенного в себе» (63:7).
11 Crews, Frederick. The Sins of the Fathers: Hawthorne's Psychological Themes. University of California Press, 1989.
Крюз обнаруживает у Готорна «глубинную силу страсти» (63:11) и отмечает разительный диссонанс между «прекрасным и одухотворенным цветком», подаваемым автором с услужливой церемонностью - и «человеческой слабостью и скорбью», которая и составляет содержание книг Готорна. «Неоднозначность Готорна, которой каждый критик платит словесную дань, прежде чем приступить к построению аллегорической башни — это отнюдь не дидактическая стратегия, но признак мощного напряжения между его влечением и страхом в отношении его глубинных тем. Ибо за его морализмом - и часто в прямом противоречии ему - стоит уверенное прозрение во все, что есть ужасного, неуправляемого, и потому аморального в человеческой природе» (63:7-8).
Поэтому «тексты Готорна содержат неоднозначность, с наличием которой ищущие назидательности критики не желали смиряться. Чтобы вполне объяснить эту неоднозначность, необходим метод анализа, который специально приспособлен для прояснения «смешанных намерений» (63:276). По мнению Крюза, таким методом является фрейдизм, дающий «правильное понимание особенностей, которые морализирующие критики Готорна сводили на нет» в своем стремлении «отдалиться от эмоциональной ткани воображения Готорна» (63:274). Эти критики старались «сгладить противоречия Готорна, игнорируя характерное для него настроение тягостного раздумья и иногда даже искажая построение его сюжетов» (63:9).
Мы упоминаем в этом ряду монографию Ф. Крюза не потому, что его подход совпадает с нашим - тем более что в послесловии ко второму изданию своей книги Ф. Крюз заявляет о своем решительном разрыве с фрейдизмом, который он называет «псевдонаукой». Но Крюз законно поставил под вопрос несколько «приглаженный», благостный, гармоничный образ Готорна, сложившийся в предшествующей критике. Впрочем, упреки Крюза в сторону христианских интерпретаторов Готорна справедливы лишь отчасти. Как мы видели, эти авторы совсем не исключают из своего поля зрения раздвоенность, неоднозначность Готорна, хотя и находят для нее примиряющие объяснения. Но этот упрек был принят к сведению и учтен впоследствии, что отразилось в еще одной монографии в этом ряду, автором которой является А. Донохью.12
Донохью (1985), вслед за своими предшественниками, отмечает такие особенности прозы Готорна, как «альтернативные толкования», сдвиги в «точке зрения», «манипулирование» читателем (60:5), которые Донохью тоже связывает с нравственной проблематикой: «Знаменитая неоднозначность Готорна относительно нравственной природы человека - есть самое большое затруднение и удовольствие для его читателей» (60:1). В качестве ключа к этой «неоднозначности» Донохью использует понятие «ирония».
12 Donohue, Agnes McNeill. Hawthorne: Calvin's Ironic Stepchild. Kent, The Kent State University Press, 1985.
По мнению Донохью, «неоднозначность Готорна, о которой много спорят, может быть отчасти прояснена исследованием его последовательно иронического способа письма» (60:ix).
Иронию Готорна Донохью в свою очередь объясняет влиянием на него идей Кальвина: «Важно заметить, что воображение Готорна было стимулировано кальвинистской догмой, согласно которой человек грешит по необходимости и, тем не менее, несет полную ответственность за свои грехи. ... Через все его творчество проходит скрытая и, быть может, неосознанная приверженность основным тенетам Кальвина, которая в его лучших рассказах и романах требует иронического метода» (60:1-2). По концепции Донохью, подспудный кальвинизм Готорна и «задает глубочайшую иронию, которая заставляет его прибегать к двусмысленности, определяет его эстетическую дистанцию и авторский голос, порождает альтернативный выбор концовок и интерпретаций, порождает богатую образность и символику, и диктует сложную структуру его романов и новелл» (60:1).
Как известно, у Кальвина Готорн мог почерпнуть представление о действии в бытии предопределенности, «железной необходимости», которая, при отсутствии посредников между человеком и Богом, порождает чувство одиночества (60:2). Донохью размышляет о возможных психологических последствиях таких представлений: «Невольный кальвинист XIX века мог впасть в глубокое отчаяние, или в вежливые, безжизненные нравоучения трансцендентализма, или же он мог воспользоваться ироническим методом, который позволяет ему воздерживаться от суждений, предлагать альтернативные объяснения, скрыть свое трагическое видение, и притворяться невинным и скромным автором, который пишет просто "небольшие хорошие истории". Готорн избирает скрытую сверкающую иронию, которая вводит в заблуждение его поверхностного читателя» (60:2).
Вслед за Уэгонером, Донохью отмечает мировоззренческое раздвоение Готорна: «Эта ирония обнаруживает разительную двойственность в Готорне - его отношение к нравственной природе человека. Иногда кажется, что он утверждает полную поврежденность человечества, - но в то же время он мечтает об "адамическом" герое... Он проявляет кажущееся, не реальное, колебание между доверием благим интуициям человеческого сердца - и убеждением, что сердце есть "отвратительный и скверный вертеп", который возможно очистить только через его уничтожение» (60:2). Как и Фэирбэнкс, Донохью усматривает также «идеологический» аспект мировоззрения Готорна: «Этот скорбный, но ироничный голос разоблачает испорченную мечту о стране, которая сулила Рай, но лишь заставила своих новых Адамов и Ев разыгрывать сюжет
14 грехопадения... Готорн хорошо знал, что цветы этого нового Рая - черные. Это сумрачное знание становится атмосферой его творчества, как бы сильно он ни желал иного» (60:5).
Таким образом, в представлении Донохью, мировидение Готорна чрезвычайно мрачно: ничто не могло вывести писателя из его трагического убеждения, что «человеческое сердце есть грязная, жалкая пещера, что дела человека неправедны и лицемерны, что семейные отношения несут в себе опасность, что ничто не таково, каким кажется, что лучшие усилия человека обречены на неудачу, и что смерть, хотя и страшна, но является единственным желанным избавлением» (60:6). Готорн у Донохью весьма далек от того благодушного, уравновешенного автора нравоучительных истории, каким он предстает более ранним исследователям: «Мой Готорн - это скрытный, обремененный виной, почти одержимый человек, человек парадоксов и противоположностей» (60:6). По сути, Донохью видит Готорна ортодоксальным кальвинистом со всеми психологическими последствиями приверженности такой вере. Но такой взгляд игнорирует реальное место Готорна в истории, что проявляется в позиции Донохью: «Для завороженного греховностью, изъеденного виной Готорна как будто не существовал ни американский XVIII век, ни его последствие, трансцендентализм XIX века» (60:5). В отличие от такого воззрения, в данной работе Готорн предстает как дитя своего века, и потому не «кажущимся», как Донохью, но вполне реальным представляется нам колебание Готорна «между доверием благим интуициям человеческого сердца — и убеждением, что сердце есть "нечистый вертеп"».
Мы рассмотрели ряд авторов преимущественно одного направления, сочетающего религиозно-философский и психологический подход к творчеству Готорна. Как мы видели, эти исследователи склонны связывать «амбивалентность» Готорна с особенностями его. мировоззрения, которое они представляют себе так или иначе христианским. В их концепциях амбивалентность Готорна есть либо проявление сознательной религиозно-этической позиции автора (благоговейное воздержание от окончательного суждения), либо результат трагического положения автора в рамках его эпохи, «экзистенциального» характера его религиозности, ее содержания (кальвинизм). Но во всех этих работах, авторы которых размышляют о причинах смысловой неоднозначности у Готорна, практически ничего не сказано о «рецептивных» следствиях этой особенности, то есть, о воздействии ее на читателей. Конечно, в этих работах так или иначе проявляется читательское отношение к наличию неоднозначности в текстах Готорна. Это отношение варьируется от одобрения (Маттисен, Фогль) до досады (Уинтерс, Даунер), но оно почти не становится у этих критиков объектом рефлексии. Между тем, амбивалентность в сочетании с ярко выраженным моральным интересом Готорна представляет собой редкую эстетическую
комбинацию, поскольку мораль традиционно является сферой глубоких убеждений и проистекающих из них суждений, а не рефлексии и неуверенности. Реакция читателей на эту особенность произведений Готорна, герменевтические плоды такой формально-содержательной комбинации представляют интерес для исследователя.
Однако современное направление в литературоведении, целенаправленно изучающее восприятие и рецепцию читателей, при этом по существу исключает из своего поля зрения идейно-содержательный аспект произведений. В качестве примера такого подхода к творчеству Готорна можно привести монографию М. Данна «Нарративные стратегии Готорна» (1995).
Несмотря на то, что работа М. Данна строится преимущественно на базе нарратологии (Ж. Женетт, Ц. Тодоров, Дж. Принс), он ссылается также на В. Изера, М. Бахтина и Джейн Томпкинс, и в целом характер его подхода близок к рецептивной эстетике. При этом автор, по его собственным словам, сознательно отказывается пополнить уже существующее многообразие интерпретаций Готорна своей собственной интерпретацией. В предисловии он пишет: «Я охотно допускаю, что другие читатели способны плодотворно истолковывать Готорна, обнаруживая в его произведениях великие истины. В прошлом я и сам нередко этим занимался. Но в этой книге я не собираюсь говорить, в чем, по моему мнению, состоят эти великие истины, ни доказывать превосходство моих истин перед теми, которые открыли иные критики. Пусть другие следуют стезей герменевтики во дворец премудрости, я же более не ожидаю, что она приведет меня туда. Вместо этого, я считаю более плодотворным для себя проанализировать нарративные стратегии Готорна» (65:21).
Итак, вместо традиционной идейно-содержательной экзегезы, М. Данн избирает исключительно формально-нарратологический подход. Сделав обзор направлений послевоенных исследований о Готорне («Новая критика», «фрейдизм», «историзм»), Данн рассматривает как наиболее близкий себе подход исследователей жанра «ромэнс», поскольку именно для этих авторов характерно внимание к акту интерпретации, проблеме смысла, они рассматривают взаимодействие автора и читателя, жанровый аспект как фактор «горизонта ожидания».13 Но все же и эти исследователи пытаются писать, «о чем» произведения Готорна. М. Данн принципиально отказывается от этого.
13 См.: Bell, M.D. The Development of American Romance: The Sacrifice of Relation. Chicago: University of Chicago Press, 1983; Carton, Even. The Rhetoric of American Romance: Dialectic and Identity in Emerson, Dickinson, Рое, and Hawthorne. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1985; Dryden, E.A. The Form of American Romance. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1988; Reynolds, D.S. Beneath the American Renaissance: The Subversive Imagination in the Age of Emerson and Melville. New York: Knopf, 1988; Millington, R.H. Practicing Romance: Narrative Form and Cultural Engagement in Hawthorne's Fiction. Princeton: Princeton University Press, 1992; Thompson, G.R. The Art of Authorial Presence: Hawthorne's Provincial Tales. Durham: Duke University Press, 1993.
Такой отказ обусловлен неким познавательным скепсисом, обоснованным рецептивной теорией. Данн пишет: «Даже не веря в "смерть автора", можно усомниться, что литературоведение способно найти "реального" биографического Готорна за его произведениями. Прошлый опыт показывает: как бы убедительно мы не заявляли о своем открытии этого Готорна, через пять, десять или двадцать лет другой, столь же "достоверный" Готорн займет его место» (65:4). Но не только автор, а и само произведение «без остатка» растворяется в различных «схемах толкования». Данн соглашается с Джейн Томпкинс: «Самая суть (essence) произведений всегда меняется в соответствии с применяемой системой описания и оценки».14 Исходя из этого, пишет Данн, «следует помнить, что какую бы точку зрения мы ни приняли, она потребует от нас игнорировать существенные свидетельства о противоположном. Это, среди прочего, и побудило меня не предлагать мое собственное "избирательное" прочтение, но сосредоточится на том, что я называю нарративные стратегии Готорна» (65:7).
Основной вопрос, интересующий Дана, состоит в том, «почему, десятилетие за десятилетием, профессиональные и обычные читатели читают и перечитывают Готорна?.. Постановка таких вопросов предположительно переносит критическое внимание с гуманистического содержания художественных произведений на их формальные характеристики как повествований» (65:16). Данн считает такой перенос внимания особенно плодотворным в случае Готорна, поскольку «он помогает увидеть, как Готорн создает смысловую неопределенность путем "дестабилизации" своих текстов» (65:16). По концепции Дана, пресловутая «неопределенность» Готорна есть технический прием, имеющий целью удержать внимание читателя и обеспечить продолжительность чтения путем своеобразной смысловой «игры» с читателем: «Мой интерес заключается не в том, что Готорн думал или не думал о трансцендентализме, романтизма и семейной жизни, но скорее в том, как он вызывает конвенциональные ожидания в своих читателях и затем варьирует и/или использует (exploits) эти ожидания» (65:21). Данн неоднократно подчеркивает суть своего подхода: «Я не могу поверить, что даже самое тщательная экзегеза может объяснить наш неослабевающий интерес и желание перечитывать Готорна, и поэтому я больше не читаю и не пишу о Готорне с целью разрешить критические споры. Мое намерение состоит не в том, чтобы соглашаться или не соглашаться с другими критиками и их интерпретациями, но просто описать то, что, как я вижу, происходит на странице. Это явление я называю нарративными стратегиями Готорна, и, наконец, мне
14 Tompkins, J. Sensational Designs: The Cultural Work of American Fiction, 1790-1860. New York: Oxford University Press, 1985, p. 196//65:4.
17 кажется, что именно они побуждают нас возвращаться к Готорну и истолковывать его десятилетие за десятилетием» (65:19).
Суть «происходящего на странице» — и в сознании читателя — можно вслед за Даном кратко описать следующим образом: «Предлагая или удерживая повествовательные подтверждения (assurances), Готорн вынуждает нас выбирать из числа предложенных им нарративных возможностей» (65:100). «В результате читатели должны энергично соучаствовать в создании этих произведений, выбирая свои собственные прочтения из текста, который при этом остается, как пишет Изер, "бесконечно богаче, чем любая из его частных реализаций"» (65:20). В результате «из наших почти безграничных возможностей выбора возникают почти бесчисленные интерпретации» (65:46), и «произведения Готорна остаются постоянно открыты для истолкования» (65:100). В представлении Дана, «Готорн остается Готорном, и потому мы можем только сказать с уверенностью, что его повествования всегда останутся проблематичными, обескураживающими и завораживающими» (65:192).
Ограниченность подхода М. Дана обнаруживается в том, что автор, проанализировав произведения Готорна различных жанров (очерки, рассказы, романы) с разных сторон (нарративные уровни и инстанции, нарративная функция исторических реалий, романтических идеологем, викторианского мотива домашнего очага и т.д.), - обнаруживает везде одно и то же: стратегии, призванные «дестабилизировать» культурные предрассудки и стереотипы восприятия читателя с целью удержания его внимания и активного вовлечения его в процесс чтения. При этом остается не проясненным, в чем заключается собственная ценность и уникальность каждого из упоминаемых произведений. Впрочем, они предстают исследователю лишь как «литературные перформансы, упражнения в нарративном дискурсе» (65:64), «не более чем сценические трюки, исполненные в прозе» (65:65).
В отличие от данного подхода, для нас не лишены значения и такие вопросы: «Каков смысл романа?», «Что хотел сказать автор?» Поэтому мы не исключаем содержательную сторону произведений Готорна из нашего исследования и не отказываемся от попытки наиболее адекватно выразить доступную нам полноту этого содержания, а также оценить мнения по этому поводу других читателей. Таким образом, новизна нашего подхода заключается во включении в сферу обсуждения как формальных, так и содержательных сторон наследия Готорна в их взаимосвязи и в рассмотрении их с точки зрения читательского восприятия в широком культурном и мировоззренческом контекстах.
Апология рецептивной теории
В качестве теоретической основы данной работы использованы некоторые постулаты рецептивной эстетики. Ее немецкие представители подчеркивали важность исторического контекста для понимания литературного произведения (Х.-Г. Яусс), а также временной, процессуальный характер актуализации текста в восприятии каждого читателя (В. Изер). Разработки М. М. Бахтина, во многом перекликающиеся с немецкими теориями, также использованы нами. Однако, мы не можем всецело принять подходы указанных теоретиков, и в данном разделе первой главы постараемся последовательно указать, что из их построений мы принимаем, а в чем расходимся с ними. А. Апология рецептивной теории
Рецептивная эстетика ставит своей программной задачей преодолеть «пропасть между историческим и эстетическим рассмотрением литературы»,15 которая образовалась вследствие крайностей в этих двух подходах. В качестве примеров таких крайностей Яусс приводит марксистское литературоведение и формальный метод. Формалисты замкнули развитие литературных норм на внутрисистемных процессах, изъяв литературу из общественно-исторического потока. Для марксистов же, напротив, искусство лишено автономности, обусловлено состоянием экономического базиса общества. Для преодоления разрыва между этими подходами, Яусс вводит в сферу исследования концепцию читателя как посредника между литературой и жизнью и связующего звена внутри литературной традиции.
Основываясь на разработках современной герменевтики (Х.-Г. Гадамер), рецептивная эстетика помещает произведение в обширный исторический контекст, восстанавливает в правах понятия «традиции», «авторитета», «предрассудка» как условий всякого понимания. Произведение искусства нельзя понять изолированно, оно является фактом культуры, и при его интерпретации необходимо реконструировать его место в духовной истории человечества. Герменевтический опыт характеризуется, с одной стороны, принадлежностью к традиции, а с другой - осознаваемой исторической дистанцией, разделяющей автора и интерпретатора. Эта дистанция есть позитивная и продуктивная основа понимания. «Историк литературы, - пишет Яусс, - прежде чем он поймет и оценит произведение, должен сначала стать читателем, иными словами, он должен осознавать современность своей позиции в историческом ряду читателей» (57). По Бахтину, «творческое понимание не отказывается от себя, от своего места во времени, от своей культуры и ничего не забывает».
Исходя из этого, в данной диссертации нами ставится предварительная задача рассмотрения некоторых аспектов исторического и культурного контекста произведений Н. Готорна (пуританизм, романтизм, позиция автора в русле этих явлений), а также рефлексивного определения нашей «дистанции» от предмета исследования. Без последнего существует опасность «модернизации» произведения, проецирования на него чуждых ему ценностных установок. Яусс предостерегает против этой опасности: «Тот, кто верит, будто «вневременно истинный» смысл поэзии непосредственно и полностью должен раскрыться интерпретатору благодаря всего лишь погружению в текст, как бы вне пространства, вне истории, минуя все «заблуждения» его предшественников и историю рецепции, не видит того исторического потока воздействий, в котором пребывает само историческое сознание. Он отрицает существование непроизвольных... фундаментальных предпосылок, направляющих его собственное понимание, и может лишь симулировать объективность» (67). О том же распространенном недоразумении пишет и отечественный литературовед И. А. Есаулов. Он отмечает, что современные исследователи «склонны не рефлексировать - в пределах какой именно аксиологии они находятся, а потому зачастую полагают, что они занимают безоценочную, истинно научную объективную позицию...» (123:6). Таким образом, мы ставим себе задачу определения нескольких идейно-культурных контекстов произведений Готорна: их автора (на основании биографических данных); «профессиональных» читателей различных периодов (на основании опубликованных интерпретаций); и, наконец, его современного российского читателя, которым в данном случае оказывается автор настоящей работы.
В данной диссертации нашли приложение идеи обоих немецких основоположников рецептивной теории - Ханса-Роберта Яусса и Вольфганга Изера, несмотря на некоторое различие в направленности их интересов.
В. Изера17 интересует прагматика процесса чтения и структура текста в ее нормозадающей для восприятия функции. Изер подчеркивает, что реализация смыслового потенциала произведения зависит прежде всего от особенностей протекания процесса чтения. О последнем можно судить посредством анализа самого текста. Текст отражает внетекстовые нормы и условности («репертуар текста») и содержит особые приемы («стратегии текста»), позволяющие определенным образом активизировать реакцию читателя, направлять и задавать его восприятие.
Центральным здесь является понятие «текстовых стратегий» как соотношения смысловой неопределенности и определенности составляющих его структур. Это соотношение задает степень активности читателя, направленной на восполнение «участков неопределенности» - содержательных и композиционных пробелов или «пустых мест» -исходя из собственного жизненного и литературного опыта.
Теоретические постулаты Изера будут использованы нами для рассмотрения «текстовых стратегий» в новеллах Готорна и его романе «Алая буква». Мы попытаемся выделить характерные для этих текстов «участки смысловой неопределенности» и выяснить их значение для реализации смыслового потенциала произведений в срезе интересующей нас темы - темы нравственной, принимая во внимание внетекстовой «репертуар» - нравственные нормы, присущие данной эпохе.
Мировоззрение автора: между догматом и чувством
В предыдущей главе мы наметили суть проблемы, важной, по нашему мнению, для понимания творчества Готорна. Она заключается в коллизии его интуитивного тяготения к традиционным духовно-нравственным истинам христианства - и отсутствия объективных, внешних оснований для того, чтобы предложить эту истину читателю в качестве герменевтического ключа своих произведений. За этим стоит, как нам кажется, личная драма Готорна - человека, томившегося «духовной жаждой» в «пустыне» Нового Света. Поняв эту драму, мы сможем лучше понять и произведения, вышедшие из-под пера Готорна. Речь идет о происхождении и функции приема «смысловой неопределенности», положенного в основу романа «Алая буква» и других произведений. Именно этот прием определяет характер рецептивной деятельности читателя как «нравственную рефлексию». В настоящей главе мы сделаем краткий обзор взглядов Готорна на существенные вопросы жизни, постараемся воссоздать полотно его мировоззрения.
Мы попытаемся понять мировоззрение Готорна, основываясь преимущественно на его записных книжках. Записные книжки содержат замыслы и наброски, использованные затем в произведениях. Преимущество их для нас состоит в том, что, будучи предназначены для «внутреннего пользования» в творческой мастерской писателя, эти записи более непосредственны, свободны от литературных условностей. И потому более достоверно выражают собственные воззрения автора.32 Как считала супруга писателя София, издавшая дневники, с их помощью «рассказы и романы составят очень полную и верную картину его [Готорна] личности, будучи часто открытым сезамом для художественных произведений» (5:412).
Сразу оговоримся, что Готорн не был философом или богословом или и не имел законченной, систематически сформулированной системы взглядов. При этом сам он избегал прояснения некоторых мировоззренческих пунктов, не был склонен вести бесед на религиозные темы. По его мысли из предисловия к очерку об Англии «Наша старая родина» (1863), истину полнее можно выразить в художественной форме, нежели в публицистике (5:15-16).
Прежде чем говорить о содержании взглядов Готорна, скажем о тех источниках, которые питали его миросозерцание.
По воскресениям в семье маленького Готорна позволялось только религиозное чтение. Позже в Англии Готорн возродил семейный обычай читать Библию детям. В детстве он не расставался с Баньяном, чья аллегорическая новелла «Путь паломника» осталась его любимой книгой на всю жизнь. Ему также нравились авторы XVIII века, от которых он позаимствовал свои латинизмы и громоздкий синтаксис. Мильтон, Спенсер, Самуэль Джонсон - вот авторы, которые преимущественно повлияли на его становление как писателя и человека, долгое время были его «единственными собеседниками» (5:315). Особенно выделял он Джонсона, которого знал с детства благодаря литературной биографии Джеймса Босвелла. Много читал Готорн по всемирной и отечественной истории. Трактаты пуританских историков и проповедников также отразились на образе его мысли и способах ее выражения. Напротив, современная ему литература оказалась не столь значима. Готорн так никогда не ознакомился с книгами Стендаля, Гюго и немецких романтиков, за исключением Тика, один-два рассказа которого он с усилием прочитал в оригинале.
Исследователи определяли Готорна по-разному: как правоверного христианина, пуританина, трансценденталиста, наследника Просвещения, даже как материалиста... (см. 52:172). Дело здесь не только в предубеждениях самих ученых: нечто в Готорне и его книгах поощряет такой разброс мнений. Но эти разногласия провоцируют дальнейшие попытки разобраться.
По нашему мнению, признание Готорна материалистом, позитивистом или скептиком не заслуживает серьезного рассмотрения: слишком непривлекательны выведенные Готорном безбожники, например, Вестервельт («Роман о Блайтдейле») или Знаток из рассказа «Собранье знатока». Первый представляет собой тип безбожника-оккультиста, второй — атеиста. По мнению Готорна, спиритам «не хватает воображения» (6:6). Атеизм же, мысль о полном уничтожении человеческой личности, вызывает его отторжение «хотя бы ради самих атеистов». Об одной такой даме от пишет: «Как! Только несколько сорняков должны будут вырасти из ее смертного состава, вместо того, чтобы ее интеллекту и чувствам цвести и плодоносить вечно!» (6:518).
Глубина скепсиса, который внушала Готорну деятельность современных ему социалистов, выражает следующий сатирический замысел в «Записных книжках»: «Набросать портрет современного реформатора... Он бродит по улицам, разглагольствует, и за ним уже готово последовать немало новообращенных, как вдруг его труды прерываются появлением смотрителя сумасшедшего дома, откуда он сбежал» (21:422). Отношение Готорна к революционерам как таковым также довольно определенно: «Темные личности выползают из своих нор, когда происходят события, благоприятные для их замыслов... Так, например, подобных негодяев вывела на свет Божий Французская Революция» (21:447). Свойственное реформаторам-революционерам восприятие мира как простого механизма, требующего починки, казалось Готорну близоруким. Корень зла виделся ему гораздо глубже - в человеческом сердце.
Но Готорн не был и трансценденталистом, и сходства здесь менее существенны, чем различия. По его собственным словам, ему нечего было позаимствовать у Эмерсона как философа, которого он назвал «вечным отрицателем всего сущего и искателем сам не знает чего» (10:357). Известна сатира Готорна на трансцендентализм в новелле «Железнодорожный путь в Небеса». Трансценденталист здесь представлен в виде нескладного великана. Он изъясняется на непонятном языке, потчует путников «дымом, туманом и лунным светом», а свойств и вида его никто не в силах описать, включая его самого (22:98).
Автор в поисках идеального читателя: потребность понимания
Роман «Алая буква» (The Scarlet Letter, 1850) предваряется пространной вводной главой под названием «Таможня». Это - автобиографический очерк, в целом как будто не имеющий жанровой и содержательной связи с романом, кроме единственного эпизода: обнаружение рассказчиком на верхнем этаже таможни старой рукописи и куска ткани с вышитой алой буквой. Эта вводная глава, написанная первоначально как предисловие к сборнику рассказов, либо давала повод для усилий критиков определить ее смысл и связь с романом, либо просто игнорировалась ими как некое недоразумение. Многие издатели, в свою очередь, присоединились к последнему мнению и печатали роман без вводной главы. Возможность этого, между прочим, с несколько парадоксальным самоумалением оговаривает и сам Готорн в предисловии ко второму изданию романа: "The sketch might, perhaps, been wholly omitted, without loss to the public, or detriment to the book" (1).84 Но, будучи все же написана и соединена с романом, вводная глава несет свой особый смысл и заслуживает внимания.
Традиция написания предисловий к романам восходит к первым образцам романного жанра. Соединение действительно или фиктивно не-художественного текста с художественным позволяет достичь определенных эстетических, сюжетных и повествовательных целей. Так, наличие предисловий к историческим романам можно объяснить потребностью автора выразить свое отношение к материалу с позиций не только писателя, но и историка. Это возможно в тексте иного, чем роман, жанра, где в форме эссе обсуждаются вопросы истории, творчества, мировоззрения, предлагаются ссылки на реальные или вымышленные источники, и т. п. Автор может коснуться и личных обстоятельств или побуждений к написанию произведения.
Наиболее близким и знакомым Готорну образцом жанра были многочисленные предисловия к историческим романам В. Скотта, в частности, предисловие к «Уэверли» (начиная с издания 1814 г.). Это предисловие обозначено тем же словом, что и очерк Готорна ("Introductory") и в нем есть как некоторые перекликающиеся мотивы с "Таможней" (обретение рукописи), так и общая содержательная схема: обоснование интереса автора к прошлому, определение своего места в современности и обстоятельства, вытекающие из сочетания этих факторов, побудившие к написанию романа.
Американский исторический роман первой половины XIX века следует европейской традиции романных предисловий. Предисловиями снабжены практически все романы Ф. Купера, а также такие романы «второго ряда» как Hobomok (Л.М. Чаилд, 1824), Hope Leslie (К.М. Сэджуик, 1827), Rachel Dyer (Джон Нил, 1828), Ruth Whalley (Г.У. Герберт, 1845), Naomi, or Boston Two Hundred Years Ago (Э.Б. Ли, 1848), The Puritan and His Daughter (Джеймс К. Полдинг, 1849). Существенно, что большая часть этих романов, как и «Алая буква», посвящена пуританскому прошлому Новой Англии.
Готорн внес в традицию предисловий свой вклад: четыре его романа и три сборника рассказов предваряются предисловиями. Кроме того, как мы видели при разборе рассказов, предисловиями снабжены и некоторые «исторические» новеллы. Цель всех этих предваряющих текстов у Готорна - прямое обращение к читателю по поводу своих произведений. В них он касается вопросов отечественной истории, писательского творчества, читательского восприятия.
В предисловии к первому большому роману «Алая буква» мы имеем дело с особым произведением, сочетающим в себе автобиографию, эссе, очерк, рассказ, в котором выражена позиция художника и взгляд на современную жизнь бытописателя и автора исторического романа.
В предисловии к «Алой букве» - очерке «Таможня» - Готорн обсуждает несколько важных для себя тем. На первой же странице поставлена одна из главных проблем романа и всего творчества Готорна: самораскрытия и самоутаения, сокрытия и обнаружения тайного. Она разрабатывается на материале вопроса о допустимой степени личного самораскрытия автора и его взаимоотношений с читателем.
Эта проблема раскрывается и в другой теме предисловия: особенности романного слова в русле литературной традиции. Заявленное намерение «привести доказательства истинности» событий романа немедленно дискредитируется оправдательной ссылкой на литературную традицию, в результате чего обнажается условность этой ссылки и самой традиции. В контексте этого двойного и взаимного разоблачения («доказательства истинности» через отсылку к заведомо условной романной традиции - и традиции через наличие обусловленного ею уже разоблаченного фиктивного «доказательства») получает амбивалентное звучание последующее заявление Готорна о фактографической ценности своего очерка и биографической тождественности в нем рассказчика и автора. Но в «Таможне», действительно, присутствует элемент бытового реалистического очерка, в котором служивший на таможне литератор стремится запечатлеть своеобразный быт этого учреждения.85 Противоречивое жанровое сочетание в главе «Таможня» романного предисловия и бытописательного реалистического очерка ставит под вопрос однозначное, наивное отношение к слову. Границы между «реальностью» и «вымыслом» (например, в эпизоде обретения алой буквы, вкрапленном в реалистический очерк о таможне) оказываются размытыми, что вынуждает читателя либо внимательно отслеживать моменты смены жанра (что разрушает эстетическое восприятие), либо воспринимать все целостно как единую реальность особого рода, не связанную с категорией факта, но тождественную правде, достижимой не вопреки, а благодаря преломленности слова сквозь литературную традицию. Вся реальность (и фактическая, и вымышленная) приобретает тогда символическое значение и открывает пути к постижению заключенной в ней правды «высшего порядка».