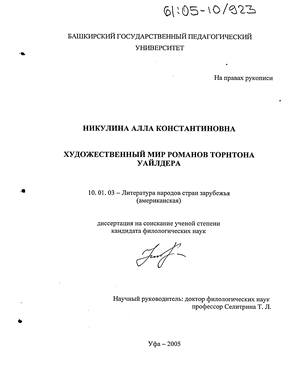Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Понятие «художественный мир» в литературоведении 16
Глава вторая. Философские истоки творчества Т. Уайлдера 35
Глава третья. Предметный уровень художественного мира Т. Уайлдера 77
Глава четвертая. Уровень пространственно-временных характеристик 98
4.1. Художественное пространство 100
4.2. Художественное время 116
Глава пятая. Уровень персонажей 141
Глава шестая. Сюжетно-фабульный уровень 199
Заключение 256
Библиография 262
- Понятие «художественный мир» в литературоведении
- Философские истоки творчества Т. Уайлдера
- Предметный уровень художественного мира Т. Уайлдера
Введение к работе
Торнтон Уайлдер (1897 - 1975) занимает особое место в литературе США XX века. Современник Э. Хемингуэя, У Фолкнера, Ф.С. Фицджеральда, Д. Стейнбека, Д. Дос Пассоса, он не уступает им в таланте, но ему посвящено сравнительно мало специальных исследований. Уайлдер является обладателем трех Пулитцеровских премий, а также многочисленных национальных и международных наград в области литературы и искусства. Но даже при его жизни критика уделяла поразительно мало внимания его творчеству. На это еще в 1956 году обратил внимание М. Каули: «Среди ведущих современных писателей Торнтон Уайлдер, в определенном смысле, больше всех обделен вниманием критики... Это не заговор молчания и не знак скрытой вражды: критики обычно своей вражды не скрывают. Если бы здесь имела место настоящая злоба, последовали бы атаки и контратаки, и это привело бы хоть к какому-то осознанию места Уайлдера в американской литературе. Но вместо этого критики обходили его молчанием, для чего у них всегда находились оправдания, которые, однако, трудно счесть весомыми» [140; 32]. Об этом же в 1967 году писал А. Кауи: «В некотором отношении карьера Уайлдера представляет собой аномалию. Странно, когда
0 писателе такого высокого уровня, выступающем на литературном поприще
уже сорок лет, так мало говорят серьезные критики» [136; 308]. Аналогичные
рассуждения присутствовали позже в статьях Э. Эриксона1 и Д. Макинтаера2.
Амос Уайлдер во вступительном очерке к своей книге «Торнтон Уайлдер и его читатели» так прокомментировал причины молчания критиков: «Я всегда чувствовал, что большинство работ моего брата представляют собой совершаемое при помощи художественных средств, а потому завуалированное, но критически осмысленное утверждение великих
1 См.: Erickson Е.Е. The figure in the tapestry: The religious vision of Kierkegaard in Wilder's The Eighth Da;, V
Christianity and Religion. - 1973. - № 32.
2 См.: Mclntyre J. Homage to Thornton Wilder. -
традиций Запада, классических и библейских. Многие критики до сих пор не знают, как расценивать подобные явления в наше время» [229; 11].
Действительно, на протяжении своей литературной деятельности Уайлдер писал о таких отдаленных друг от друга эпохах, как век Юлия Цезаря и начало XX столетия, о столь различных странах, как античная Греция, средневековое Перу и современная Америка. Ему принадлежит семь романов и большое количество драматических и литературно-критических работ. В каждом произведении автор ставит перед собой философские задачи, пытается осмыслить место и роль человека в мироздании, ищет пути к разгадке извечной тайны человеческого бытия. Его интересуют универсальные принципы, определяющие развитие Земли и вселенной; индивидуальная человеческая судьба в его книгах предстает неразрывно связанной с космической судьбой мира. Писателя занимают проблемы соотношения в жизни закономерности и случая, предопределения и свободы. Большинство критиков такая масштабность проблематики просто ставила в тупик. Проще было хранить молчание или ограничиваться общими, мало о чем говорящими высказываниями. Те же, кто все-таки предпринимал попытки серьезного осмысления литературного творчества Уайлдера, оказывались перед лицом немалых трудностей. Выходили в свет отдельные статьи и монографии, но в результате, как ни странно, общая картина не только не прояснялась, но часто представала еще более усложненной и запутанной. Пока об авторе было сказано и написано очень мало, его книги воспринимались в качестве бестселлеров, смысл которых казался ясным, однозначным и не нуждающимся в комментариях. Но по мере того, как в западной критике появлялись все новые отклики на его произведения, противоречия в оценках обрисовывались совершенно четко.
В современном американском литературоведении Уайлдера называют то модернистом (Т. Bogard, R. Fuller), то сторонником классицизма (М. Cowley, Е. Wilson, F. Gemme, В. Grebanier); то романтиком (R. Watt), то реалистом (М. Dolbier, D. Donoghue); то художником религиозного толка (М. Kuner,
A.N. Wilder, J. Mclntyre), то ниспровергателем христианских традиций (М. Cowley, P. Friedman, F. Fergusson); а его книги - то философскими притчами (R. Burbank, В. Atkinson, L. Stallings, M. Williams), то салонными безделушками (Т. Sherman, С. Fadiman, Д. Маккормик). Подобный диапазон мнений уже сам по себе свидетельствует, о мозаичности оценок литературного творчества Т. Уайлдера.
В отечественном литературоведении об Уайлдере писалось вообще крайне мало. Его имя стало впервые известно в СССР лишь в конце 1960-х годов, то есть с большим опозданием: на Западе к тому времени он уже считался признанным мастером. Первые отклики, появившиеся в советской печати, стремились дать читателям лишь общее впечатление о его работах. В дальнейшем постепенно были переведены на русский язык и опубликованы основные произведения Уайлдера, однако их глубокого критического исследования литературоведами по-прежнему не предпринималось. Только в 1984 году появились первые диссертации, посвященные его творчеству1. За ними в 1980-1990-х годах последовали еще пять работ, три из которых были посвящены изучению романов писателя2. Это, несомненно, стало значительным шагом вперед на пути научного осмысления художественного наследия писателя в России. В декабре 1997 года в Москве состоялась конференция, посвященная проблемам культуры и литературы США, в рамках которой был проведен круглый стол, приуроченный к столетию со дня рождения Уайлдера. В его работе приняли участие литературоведы России, Белоруссии, Украины и Кыргызстана. Был сделан ряд докладов, затрагивающих различные аспекты творчества писателя, анализировались и идейная направленность его литературного труда в целом, и особенности отдельных произведений. Пристальное внимание было уделено ранним
1 Кабанова Т.В. Драматургия Т. Уайлдера. — М., 1984. Гончаров Ю.В. Творческая эволюция Т. Уайлдера-романиста. - М., 1984.
Садовская И.Г. Жанровое своеобразие философского романа Т. Уайлдера. - М., 1990. Николаева И.В. Проблемы психологизма романов Т. Уайлдера (в контексте развития американского романа новейшего периода). - Киев, 1990. Прохорова Т.А. Жанровое своеобразие романов Т. Уайлдера. - М., 1998.
философским романам Уайлдера (Э.Ф. Осипова) и его последнему крупному произведению - роману «Теофил Норт» (М.К. Бронич, М.П. Кизима); говорилось о связях творчества писателя с литературными тенденциями европейского классицизма (Е.Н. Корнилова); подчеркивалась мысль о принципиальной соотносимости духовных исканий автора с нравственными основами классической русской литературы (И.Е. Бабушкина, Н.П. Коваленко); творчество Уайлдера анализировалось в контексте «планетарной» литературы XX века (Т.В. Кабанова). Конференция продемонстрировала рост интереса к изучению литературного наследия Уайлдера в нашей стране, но в то же время указала и на тот факт, что размышления о работах этого замечательного мастера по-прежнему порождают больше вопросов, чем ответов. Об Уайлдере в нашей стране писали крупные литературоведы А.С. Мулярчик, Н. Анастасьев, Г. Злобин, Д. Урнов, Ю. Фридштейн, М. Нольман, С. Ильин, Т. Денисова, И. Бабушкина, Ю. Гончаров: их статьи публиковались в периодической печати, а также в качестве предисловий к изданиям произведений писателя. Ни одной монографии о творчестве Уайлдера в России создано не было.
В зарубежном же литературоведении крупные исследования о Т. Уайлдере неоднократно издавались, начиная с 1960-х годов. Первые из них появились еще при жизни писателя, авторами их выступали Р. Бербанк (1961), Б. Гребаниер (1964), М. Голдстайн (1965), Г. Папаевски (1968), Г. Стресау (1971), М. Кюнер (1972). Монографии продолжали выходить и после смерти Уайлдера: к ним относятся работы Р. Голдстоуна (1975), Л. Саймон (1979), Г. Харрисона (1983), Д. Кастроново (1986). Их авторы каждый по-своему, с большим или меньшим успехом, пытались дать общую характеристику творчеству писателя. Одни делали главный упор на фактах личной биографии автора (Г. Харрисон), другие, наоборот, стремились выявить общие философские тенденции его творчества (Р. Бербанк). Уайлдера рассматривали как проповедника религиозных идей (М. Кюнер) или же пытались обнаружить скрытый подтекст его работ, прибегая к
методам фрейдистского психоанализа (Р. Голдстоун). Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, Уайлдер оставался одним из самых сложных и малоизученных авторов в американской литературе.
В 1992 г. Д. Браер сделал попытку собрать в одном томе все основные интервью, данные Уайлдером в газетах и на радио, но во вступлении к сборнику вынужден был констатировать, что их набирается довольно мало: Уайлдер, несмотря на свою признанную в светских кругах общительность, не любил делать громких публичных заявлений о своем творчестве и тем самым еще больше усложнял положение критиков, привыкших подхватывать и развивать мысли самих авторов.
В 1996 и 1999 годах вышли два объемных сборника критических эссе, посвященных анализу отдельных аспектов творчества Т. Уайлдера. В них собраны интересные, содержательные работы литературоведов разных стран, раскрывающие неизвестные прежде грани произведений Уайлдера и намечающие новые направления в исследовании богатого художественного наследия писателя.
Итак, несмотря на то, что прошло уже почти тридцать лет со времени-смерти Уайлдера, и его книги признаны классикой американской литературы, их философская глубина и значимость еще не получили должной оценки.
Все вышеизложенное обосновывает выбор темы данного исследования и ее актуальность. В настоящей диссертации мы собираемся изучить романное творчество Уайлдера, рассмотрев особенности внутреннего мира его художественной прозы. Мы намереваемся детально проанализировать компоненты этого мира на материале всех семи романов писателя, выявить наиболее характерные черты каждого компонента, а также сделать вывод о том, каким образом они взаимодействуют друг с другом, создавая в восприятии читателей единый и законченный художественный образ.
Именно необходимостью дать целостный анализ художественного мира Уайлдера обусловлена актуальность избранной темы. Как справедливо
указывает Л.В. Чернец: «Не будучи собственно содержанием (идеей, концепцией) произведения, его мир в то же время — ведущая сторона художественного изображения, порождающая его целостность» [33; 198]. Анализ внутреннего мира произведения, таким образом, дает ключ к пониманию всего художественного замысла его создателя. Исследователи неоднократно обращались к рассмотрению отдельных аспектов творчества Уайлдера, в том числе и тех, что могут быть определены в качестве составляющих художественного мира его произведений. Так, например, М.Э. Уильяме посвятила свою монографию анализу проблемы художественного времени в романах Уайлдера. Характеристику отдельным персонажам и сюжетным мотивам в произведениях писателя пытались давать многие литературоведы. Однако никто из них никогда не ставил перед собой задачи целостного представления художественного мира Уайлдера, сведения воедино многочисленных разрозненных фактов, имеющих непосредственное отношение к его характеристике, с тем, чтобы проследить, в какой степени каждый из элементов через взаимодействие с другими способствует, в конечном итоге, реализации общего авторского замысла.
В нашей работе мы намерены не только суммировать с критической точки зрения отдельные мнения, высказанные разными исследователями в разное время, но и, главным образом, мы собираемся выдвинуть ряд собственных предположений, позволяющих по-новому взглянуть как на некоторые общие аспекты творчества писателя, так и на отдельные значимые детали романов Т. Уайлдера. Мы не претендуем на окончательное раскрытие всей философской сложности и многозначности произведений Уайлдера, но, тем не менее, в данной работе мы попытаемся выделить основные положения, позволяющие говорить об отличительных особенностях художественного мира Т. Уайлдера в целом и его внутренних законах.
Предметом исследования в настоящей диссертации, таким образом, является художественный мир Торнтона Уайлдера, рассматриваемый во всей своей внутренней полноте и взаимосвязи составляющих его уровней.
Объектом исследования выступают романы Т. Уайлдера: «Каббала» ("The Cabala", 1926), «Мост короля Людовика Святого» ("The Bridge of San Louis Rey", 1927), «Женщина с Андроса» ("The Woman of Andros", 1930), «K небу мой путь» ("Heaven's My Destination", 1934), «Мартовские иды» ("The Ides of March", 1948), «День восьмой» ("The Eighth Day", 1967) и «Теофил Норт» ("Theophilus North", 1973). Мы сознательно ограничиваем свой выбор только романным творчеством писателя, поскольку оно представляется нам изученным в меньшей степени по сравнению с драматургией Уайлдера. При этом именно жанр романа, с точки зрения самого Уайлдера, позволяет автору наиболее полно и последовательно изложить свои собственные воззрения на действительность. Сравнивая драматический и романный жанры, писатель утверждал: «Драматург - это тот, кто верит, что чистое событие, действие, в которое вовлечены человеческие существа, лучше поддается фиксации, чем какие бы то ни было рассуждения... Роман - это то, что имело место: никакое самозатушевывание рассказчика не может скрыть того факта, что мы слышим голос, воссоздающий события прошедшие и минувшие, которые он отобрал из бесконечного множества - чтобы представить нам свой наблюдающий рассудок. Даже наиболее объективные романы закутаны в авторские эмоции и авторские предположения о жизни, уме, страстях» [44; 198]. То есть, высоко ценя драму как остановленное мгновение, Уайлдер все же именно перед романом, в первую очередь, ставил задачу осмысления человеческого бытия в целом, во всей его исторической полноте. Именно роман благодаря своей масштабности и всеохватности, по выражению Уайлдера, «позволяет читателю почувствовать себя богом» [6; 63], а «любая диспропорция в организации романного материала будет подразумевать диспропорцию в организации вселенной, понимаемой и как идея, и как механизм» [6; 64]. Поэтому именно к романам Уайлдера как произведениям, призванным наиболее полно отразить особенности философских, этических и эстетических воззрений писателя, мы и обратимся в данном исследовании. Мы оставляем в стороне анализ жанровой специфики романов, поскольку
данная проблема, на наш взгляд, достаточно глубокой полно исследована в диссертационнах работах И.Г. Садовской (1990) и Т.А. Прохоровой (1998).
Цель диссертации состоит в том, чтобы дать всестороннюю характеристику художественному миру Т. Уаилдера, опираясь при анализе на созданные писателем романы.
Из означенной цели вытекают следующие задачи работы:
дать определение термину «художественный мир», сопоставив мнения по этому вопросу ведущих литературоведов;
рассмотреть философские истоки художественного творчества Уаилдера; определить наиболее значимые влияния, оказавшие воздействие на формирование этических и эстетических воззрений писателя; проследить, как менялись его философские и религиозные убеждения на протяжении жизни;
выделить художественную доминанту творчества Т. Уаилдера и проследить ее проявления на всех уровнях художественного мира, а именно:
на предметном уровне
на уровне пространственно-временной организации
на уровне системы персонажей
на сюжетно-фабульном уровне
Выделяя указанные уровни, мы опираемся на концепцию А.П. Чудакова, изложенную им в работе «Слово - вещь - мир» (1992).
Все творчество Т. Уаилдера пронизано идеей противостояния трагическому ощущению хаоса, столь характерному для художественного мировосприятия большинства писателей и философов XX века. «Многие современные авторы, - писал Ч. Гликсберг в своем исследовании «Литература и религия», - страдают от того, что Юнг называет «общим неврозом нашего столетия», а именно: от ощущения, что не только их собственные жизни, но вся жизнь сегодня бессмысленна и бесцельна» [168; 32]. Ж.-П. Сартр утверждал, что литература XX века превращается в
«отрицание самой себя». Она «заставляет нас видеть за сражением слов ледяное безмолвие, а за духом серьезности - пустое и голое небо равносильных величин. Она призывает нас подняться над небытием через разрушение всех мифов и шкалы ценностей. Будит в человеке, вместо близости к божественной трансцендентности, его крепкую и скрытую связь с Ничто» [91; 130].
Однако в творчестве Уайлдера с самого начала заметно критическое отношение к пессимистическому умонастроению эпохи. Уже в «Каббале» один из главных героев демонстративно сметает со стола труды современных философов и противопоставляет им мыслителей-моралистов прошлых веков, восклицая: «Что случилось с вашим двадцатым веком..?» [1; 113]. Практически о том же говорит Джордж Браш - персонаж романа «К небу мой путь»: «Если хотите знать, я не сумасшедший. Это мир сошел с ума.., вот в чем дело» [1; 209]. «Мы живем в век, когда «жалость» и «милосердие» приняли оттенок снисхождения, когда «смирение» означает скорее признание провала, когда «простота» воспринимается как «глупость», а «любопытство» как вмешательство не в свои дела. Сегодня «надежда» и даже «вера» подразумевают лишь самообман», - писал сам Т. Уайлдер в предисловии к сборнику «Ангел, смутивший покой вод» [11; VIII]. Писатель с самого начала взял на себя роль учителя, стремясь всеми способами воздействовать на разум и чувства современников с тем, чтобы нравственные понятия веры, надежды, любви, совести, долга вновь обрели для них свой прежний высокий смысл, утраченный в погоне за материальным процветанием и чувственными удовольствиями. «Бывают эпохи, когда смелость заключается в том, чтобы говорить банальные вещи», - замечал Уайлдер [238]. Его попытки утверждения высшей гармонии мироздания, смысла, плана, скрытого за внешней разрозненностью и непоследовательностью событий, неочевидностью причин и следствий, отсутствием зримого воздаяния за совершенное добро или зло, оценивались
многими современниками негативно - как нежелание пробудиться от счастливого сна, трезво оглядеться вокруг, признать очевидное.
Но вовсе не философская слепота и незнание жизни, как это казалось некоторым критикам, заставляли Уайлдера писать именно так. «Я не безоглядный оптимист», - однажды сказал он о себе [242]. В своих произведениях он никогда не избегал изображения страданий, горя, ситуаций духовного кризиса и отчаяния. Но при этом мир не только не обесценивался постоянным присутствием в нем человеческого страдания, а, наоборот, во многом именно через него приобретал смысл, указывал на возможность новых перспектив, на присутствие в жизни высшего замысла, придающего значение каждой мелкой детали повседневного быта.
В раннем творчестве Уайлдера эта осмысленность напрямую отождествлялась с христианской верой, с религиозным мировосприятием, хотя даже на том этапе его религиозность никогда не отличалась догматичностью. В позднем творчестве Уайлдер отошел от однозначно христианской точки зрения на мир, его концепция приобрела универсальные философские черты, но главная мысль — о присутствии некоего плана, изначально лежащего в основе всего сущего - по-прежнему доминировала в его произведениях.
В данной работе нам предстоит подробно рассмотреть, как эта мысль раскрывается во всех романах писателя, проявляясь на каждом из уровней художественного мира.
Теоретической и методологической основой исследования служат работы отечественных литературоведов по проблеме художественного мира (Д.С. Лихачев, В.В. Федоров, А.П. Чудаков, В.Е. Хализев, Н.Л. Лейдерман, М.М. Гиршман и др.), а также по общей теории романного жанра (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, Н.Т. Рымарь, А.Б. Есин, Л.Я. Гинзбург, Л.Е. Пинский и др.). В основе методологии лежит системный подход, предполагающий анализ произведения в совокупности его выразительного и содержательного
планов, соотнесенности части и целого внутри единого художественного организма.
Новизна диссертации заключается в том, что художественный мир Т.Уайлдера впервые становится специальной темой научного исследования. Впервые осуществляется попытка дать комплексный анализ всех составляющих этого мира, проследить их взаимосвязь и то, как каждый уровень в отдельности и весь художественный мир в целом способствуют формированию у читателя представления о высшем смысле и нравственной доминанте как основах бытия и мироздания. Предметный компонент как один из уровней художественного мира Т. Уайлдера прежде никогда не анализировался. Подход к анализу пространственно-временных характеристик в романах писателя также отличается элементами новизны, поскольку полемизирует с укоренившимся в литературной критике восприятием художественного времени у Уайлдера как однозначной статики. При рассмотрении уровней персонажей и сюжета мы исходим из утверждения о наличии в творчестве Уайлдера неизменного типа героя и магистрального сюжета. Исследование художественного мира проводится в тесной связи с изучением философских, этических и эстетических воззрений писателя. Сопоставление отдельных характеристик этого мира с положениями, выдвинутыми философами и богословами, в разное время оказывавших влияние на формирование взглядов Уайлдера, позволяет оценить не только черты преемственности, но и идейное новаторство писателя, послужившее основой его художественных замыслов.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее результаты расширяют представление о творчестве Т. Уайлдера, выявляют внутреннюю логику и соподчиненность всех элементов художественного мира, создаваемого писателем, и способствуют более глубокому осмыслению философского значения романов писателя.
Практическая значимость заключается в том, что данные материалы могут быть использованы при составлении учебников и разработке общих
лекционных курсов по истории зарубежной литературы XX века, а также при подготовке специальных курсов по проблемам литературы США XX века и проблематике и поэтике романного жанра. Положения, выносимые на зашиту:
Несмотря на присутствующие в романах Уайлдера отдельные расхождения с каноническими постулатами христианской церкви и неприятие автором ее узкой догматики, в творчестве Уайлдера выделяется ярко выраженная религиозная доминанта. Идея присутствия в мироздании высшего смысла пронизывает все уровни художественного мира в романах писателя.
Трактовка Уайлдером неодушевленных вещей в романах близка к традиционной христианской точке зрения и служит утверждению приоритета духовного над материальным.
Особенности художественного времени в романах Уайлдера близки христианской концепции времени.
Принципы создания образа положительного героя в романах Уайлдера основываются на христианской концепции личности.
Магистральным сюжетом всех романов Уайлдера является «путь веры» - приобщение героя к высшим духовным истинам, составляющим основу мирового устройства, совершаемое в процессе прохождения через «обращение» и открытие в себе внутреннего дара интуиции.
Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 9 работ. Результаты исследований излагались на следующих конференциях: Пуришевские чтения «Всемирная литература в контексте культуры» (г. Москва, 2001, 2002, 2003, 2004 гг.); Всероссийская научная конференция «Библия и национальная культура» (г. Пермь, 2004 г.) межвузовская научно-практическая конференция «Система непрерывного образования: школа - педучилище - педвуз - РШК» (г. Уфа, 2001, 2002 гг.); Всероссийская
конференция молодых ученых «Структура ценностей и истин педагогики» (г. Уфа, 1999 г.).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и библиографического списка литературы, насчитывающего 307 наименований, в числе которых ИЗ работ на русском языке и 194 - на английском. Основной текст работы составляет 259 страниц, общий объем -282 страницы.
Автор выражает благодарность сотрудникам университета Фрида-Хардемана (г. Хендерсон, штат Теннеси, США), а также Иельского университета (г. Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США), в частности руководству Библиотеки редких книг и манускриптов, за предоставленный доступ к материалам из личного архива Т. Уайлдера.
Понятие «художественный мир» в литературоведении
Термин «художественный мир» довольно часто используется в соверменном литературоведении. «Это понятие еще не стало, но должно стать опорным в теоретической поэтике», - полагает А.П. Ауэр [63; 106]. Однако на сегодняшний день данный термин еще не обрел устоявшегося значения, и поэтому возникает возможность очень широкой и неоднозначной его трактовки. В последнее время появились многочисленные работы, ориентированные на описание художественного мира того или иного автора1. Однако в большинстве случаев авторы работ не ставят себе целью дать определение самому понятию, которое, в итоге, приобретает довольно расплывчатое значение: к художественному миру относят самые разнообразные аспекты литературного произведения - от стилистики до идейного содержания. В связи с этим мы считаем необходимым, прежде чем приступить к рассмотрению художественного мира Т. Уайлдера, четко определить то терминологическое содержание, которое мы намерены вкладывать в данное понятие в рамках настоящей работы.
В литературоведении, так же как и в других научных областях, теоретически подходящих к изучению различных видов искусства, давно и прочно утвердился взгляд на художественное произведение как на обособленный мир, созданный поэтическим воображением и являющий собой, по словам А. Мерзлякова, своеобразную «маленькую вселенную» [цит. по: 103; 5]. Уподобление совершенного художественного творения вселенной, мирозданию, нашедшее отражение в высказываниях многих философов и критиков разных эпох, свидетельствует о высоком значении, традиционно придаваемом гармонической целостности и внутреннему совершенству произведения.
Художественное творчество осмысливалось многими теоретиками как инстинктивное подражание деятельности творца вселенной. Центром философии искусства, утверждал Ф. Шеллинг, является «не искусство как искусство, как данный особенный предмет, но универсум в образе искусства» [ПО; 67]. При этом сам универсум, в трактовке немецкого философа, представляет собой совершенный образец, ибо «построен в боге как абсолютное произведение искусства» [ПО; 85]. А потому «в истинном универсуме для особенных вещей может быть место лишь постольку, поскольку они вбирают в себя неделимый универсум и, таким образом, сами суть универсумы» [ПО; 88]. Принимая во внимание это общее утверждение, Шеллинг приходил к необходимости и каждое художественное произведение рассматривать в качестве такого обособленного универсума: «Поэтическое художественное произведение подобно всякому другому должно быть абсолютностью в особенном, некоторым универсумом, небесным телом», -заключает он [110; 341].
Так же и согласно учению Г.В.Ф. Гегеля, «искусство происходит из самой абсолютной идеи», и «его целью является чувственное изображение абсолютного» [36; 1; 75]. И.В. Гете видел высшую задачу искусства в том, чтобы «овладеть всем миром и найти для него выражение» [цит. по: 41; 43].
Аналогичным образом в нашей стране высказывался В.Г. Белинский: «Искусство есть выражение великой идеи вселенной в ее бесконечно разнообразных явлениях... Все искусство поэта должно состоять в том, чтобы поставить читателя на такую точку зрения, с которой бы ему видна была вся природа в сокращении, в миниатюре, как земной шар на ландкарте...» [27; 60]. «Сокращенной вселенной» называл художественное произведение М.Е. Салтыков-Щедрин [цит. по: 103; 5]. Б. Пастернак характеризовал поэтическое творение как «образ мира, в слове явленный» [цит. по: 40; 5]. А Ю.М. Лотман писал, что «произведение искусства представляет собой конечную модель бесконечного мира» [67; 256].
При этом из всех существующих литературных жанров роман в наибольшей степени тяготеет к всеохватности бытия и универсальности художественных оценок. Еще Г. Лейбниц подчеркивал, что «никто не может подражать господу лучше, чем создатель хорошего романа» [цит. по: 89; 45], а Гегель отмечал, что художественное изображение в романе «требует полноты миро- и жизнесозерцания» [35; 274]. Н.Т. Рымарь в своем «Введении в теорию романа» так характеризует особенность данного литературного жанра: «Роман есть форма эпического сознания, отражающего в своем развитии различные этапы осознания человеком своей деятельностной связи со всеми людьми и миром, а тем самым и формы восприятия и понимания мира как универсального порядка, в котором индивидуальное и надиндивидуальное находятся в отношениях определенного ценностного единства, образующего целостность жизни, единство всех форм бытия - от человеческих до природных, социальных, космических, божественных» [89; 61]. Роман, таким образом, выступает идеальной художественной формой, позволяющей воссоздать образ мира одновременно в его масштабности и внутреннем единстве.
Однако для того, чтобы успешно решить задачу целостного и максимально полного воплощения универсума в рамках художественного произведения, конкретное произведение само должно отличаться абсолютной внутренней целостностью. «Целостность литературного произведения, - утверждает М.М. Гиршман, - это глубоко существенная его характеристика, ни в коем случае не сводимая к внешним предметам цельности, законченности» [101; 6]. Еще В. Гумбольдт предостерегал от неправильной трактовки понятия «целостность» в применении к поэтическому творению: «Дело вовсе не в том, чтобы показать все, что само по себе невозможно, или даже многое, что устранило бы многие виды искусства, а в том, чтобы привести в такое настроение, при котором мы готовы все обнять взором... Пусть только поэт заставит нас сосредоточиться в одном пункте, забыть себя ради известного предмета, - и вот каков бы ни был этот предмет, перед нами — мир» [87; 32]. Целостность определяется единством художественного замысла, согласованностью эстетических принципов, лежащих в основе произведения. «Целостность чего бы то ни было есть состояние самодостаточности, завершенности, индивидуальной полноты и неизбыточности... Целостность есть... состояние объекта, располагающее к созерцательному приятию его», - пишет В.И. Тюпа [101; 20]. Именно на восприятие произведения как художественной целостности должно быть направлено любое теоретическое исследование.
Философские истоки творчества Т. Уайлдера
Оценить художественный мир Т. Уайлдера невозможно без учета философских, этических и эстетических воззрений самого писателя.
Трудность, с которой неминуемо сталкиваются исследователи творчества Уайлдера, - это невозможность однозначно причислить его к какой-либо определенной философской школе, определенному направлению в искусстве. « Торнтон Уайлдер принадлежит к тем американским писателям, чье творчество невозможно оценить и понять, поместив под заданные рубрики. Он все время оказывается в положении между категориями», -писал А. Кауи [136; 321]. А Ф{ Фергюссон определял место Уайлдера в американской литературе как «ничейную территорию» [132; 29].
Все попытки критиков при анализе отождествить Уайлдера с представителями какого-нибудь известного направления в литературе обычно заканчивались безрезультатно. В поисках выхода из этой ситуации М. Каули первым применил тактику «доказательства от противного». В своей статье «Человек, отменивший время» (1956) он попытался определить суть творчества Уайлдера через противопоставление его знаменитым литературным современникам: Э. Хемингуэю, Д. Дос Пассосу, Ф. Фицджеральду, Д. Стейнбеку. «Другие пишут о социальных группах, - в том числе указывал М. Каули, - иногда это совсем маленькая группа, как, например, в романе «Ночь нежна», иногда очень большая, как в «США», -или о личности, восстающей против норм, предъявляемых этой группой, как в романе «Прощай, оружие». В центре их внимания взаимоотношения общества и отдельного человека... Все они, в большей или меньшей степени, могут быть отнесены к социальным писателям. Уайлдер же, в противоположность им, - писатель-моралист». Далее Каули более глубоко рассматривает разницу между двумя названными категориями, подчеркивая, что «социальные отношения определяют нормы поведения внутри отдельной группы людей, большой или маленькой, а потому подвержены изменениям, как пространственным, так и временным». Мораль же, в этом смысле, «регулирует индивидуальные связи между людьми, одного человека с другим: ребенка с каждым из родителей, мужа с женой, богатого с бедным (но не богатых с бедными), а также каждого человека с самим собой, своей судьбой, своим богом». Отношения, порождаемые моралью, неизменны в истории, а потому их можно «показать на примере жизни любого человека, в любом месте, в любое время, начиная с доисторического» [140; 50].
Именно эта черта творчества Уайлдера — его видимая отрешенность от сиюминутных политических и экономических проблем США - зачастую вызывала довольно резкие высказывания критики. Так известный критик-марксист М. Голд в 1930 г. писал: «Уайлдер избрал убежищем лишенный корней космополитизм, который отличает всякого эмигранта, пытающегося избежать решения проблем своего общества» [169; 267]. «Где в его романах современные улицы Нью-Йорка, Чикаго, Нового Орлеана? - патетически восклицал М. Голд. - Где рабский труд детей на свекольных полях? Где самоубийства держателей прогоревших акций, где эксплуататоры рабочих, где страсти и муки шахтеров?» [169; 267].
С ответом на полемически заостренную статью Голда на страницах «Нью рипаблик» практически сразу же выступил Э. Уилсон. За два года до этого Уилсон сам, хотя и в более мягкой форме, чем М. Голд, призывал Уайлдера обратиться к американскому материалу: «Мистер Уайлдер уже знает Европу и немного знаком с Востоком. Он нужен нам дома... Мне хотелось бы, чтобы он изучил разнохарактерные элементы, из которых складываются Соединенные Штаты, и нарисовал бы их национальные портреты» [234; 305]. Однако теперь Э. Уилсон выступил на защиту писателя. Полемизируя с Голдом, он отмечал: «Когда мы размышляем о литературном произведении, мы должны рассматривать его не только с точки зрения его социальной значимости, но также и с точки зрения его создателя. Критик-коммунист, который, анализируя книгу, отказывается видеть в авторе художника, по сути отрицает духовную значимость человеческого существования во имя задач политической пропаганды» [233; 266].
Тем не менее, тогда, на рубеже 20-х - 30-х годов, многих американцев действительно удивляла тематика произведений Уайлдера. США переживали бурный исторический период. «Век джаза», Великая Депрессия, «красные тридцатые» занимали умы современников, оказывая непосредственное влияние на их творчество. Уайлдер же писал о Риме, Перу, Греции... Критики пытались объяснить это исходя из фактов биографии писателя. «...В его жизни нет такого места, которое он считал бы своим домом, - писал М. Каули. - Возможно, это результат детства, проведенного в Китае... Он больше не был жителем Среднего Запада, и он не стал калифорнийцем оттого, что несколько лет посещал там школу... В целом, он американец, чей дом там, где он раскрывает свой блокнот, берет ручку и принимается писать о людях, окружающих его» [140; 14].
Однако выбор тематики всегда осуществлялся Уайлдером вполне сознательно и в соответствии с его общей творческой установкой. «Уайлдер обращался к далеким временам и странам вовсе не для того, чтобы скрыться от реальности, но, наоборот, чтобы подчеркнуть ее», - указывала М. Кюнер [189; 212]. «Поэт демонстрирует триумф здравого смысла, но в масштабе столетий. Памфлетист же поглощен своим десятилетием», - говорил сам Уайлдер [134; 26]. Его Перу и Греция - не столько указания на географическую локализацию действия, сколько способ подчеркнуть универсальность описываемых событий и ситуаций.
Все творчество Т. Уайлдера, таким образом, может быть охарактеризовано как сознательная попытка творения собственного мифа. Не случайно Амос Уайлдер в своем сочинении назвал писателя «современным мифотворцем» [229; 41]. Одним из основных признаков современного мифотворчества, по определению Н.Д. Тамарченко, является «не наличие в произведении определенных (общеизвестных) мифологических персонажей и сюжетных мотивов, а создаваемая художественной структурой возможность превращения всего сиюминутного, эмпирически или исторически реального в мире и человеке в отражение или воспроизведение вечных прообразов» [63; 47]. Человек в произведениях Т. Уайлдера всегда предстает на фоне вечности, он ощущает свою неразрывную связь с универсумом во всей его полноте - временной, пространственной, духовной. Сам автор в одной из своих лекций отмечал: «Миф, парабола, притча лежат у истоков всей художественной литературы» [8; 118]. А в конце жизни в письме к У. Полу с одобрением указывал на изменение тенденций в развитии современного творчества: «Мы становимся свидетелями заката веры в правдоподобность описаний «жизни» со стороны. Новый подход зовется «мифом» - это существенная правда, представленная в повествовательной форме в свете всеобщности, что не исключает и индивидуальной ценности каждой человеческой души» [220; 183].
Предметный уровень художественного мира Т. Уайлдера
Изображение вещей является составной частью художественного мира произведения. Под «вещами» чаще всего понимается совокупность рукотворных предметов, составляющая так называемую «материальную культуру» [33; 37]. Другая точка зрения, сторонником которой является, например, А.П. Чудаков, трактует понятие «вещь» гораздо шире: кроме «рукотворных» сюда включаются и «природные» предметы [109; 8].
Предметный мир, изображенный в литературе, соотносится с вещами, существующими в реальной действительности. Однако ошибочно было бы воспринимать художественный предмет как явление абсолютно тождественное предмету эмпирическому. «Искусство должно прежде всего поглотить предмет, переработать его и затем представить в новом виде, параллельном, если хотите, с материалами, из которых оно почерпнуло свою задачу, но нисколько с ним не схожим», - писал П.В. Анненков [цит. по: 109; 25].
Вещь как элемент художественного мира правдоподобна, но это особый тип художественной правды, отличный от правды действительности. Любая вещь, увиденная автором, преломленная сквозь призму его сознания и помещенная им в особую художественную реальность, становится уже тем самым необычной. Отбор, вид, комбинации вещей создают впечатление единого в своей необычности мира.
При этом роль, отводимая автором вещам в произведении, может значительно отличаться в творчестве разных писателей. А.П. Чудаков утверждает: «Всякий художник говорит на вещном «языке» своей эпохи. Однако подчиненность предметным ее формам различна. Одни писатели не очень внимательны к вещному облику современности, заслоняемому и даже подавляемому в их художественном мире задачами, полагаемыми неизмеримо более существенными. Этому - сущностному - типу художественного мышления противостоит другой — формоориентированный.
Художники, ему принадлежащие, чутко реагируют на текучие, постоянно меняющиеся вещные и ситуационные формы жизни своего социума» [109; 47].
Согласно этой классификации, Т. Уайлдер должен быть однозначно причислен к категории художников с сущностным типом художественного мышления. Сосредоточенность его внимания на событиях внутренней жизни человеческой души традиционно отодвигает материальные предметы, окружающие человека, на второй план. Это касается как вещей рукотворного происхождения (описания интерьеров, костюмов, предметов бытового обихода), так и естественного природного мира.
Вещи мало занимают воображение Уайлдера. Их присутствие в жизни героев само собой разумеется. Хотя, по словам Н.Шарамонте, Уайлдера «раздражал тот факт, что мир является настоящим, а не воображаемым» [132; 2], он все же никогда не игнорировал объективную реальность настолько, чтобы потерять твердую почву под ногами. Однако мир вещей сам по себе не имеет для Уайлдера никакой ценности и приобретает значение только в те редкие моменты, когда посредством обращения к определенной его детали автор хочет приблизить читателя к пониманию некой важной идеи. Поэтому во многих случаях вещь, появляясь на страницах романа, приобретает символическое значение.
Согласно классификации, данной Е.Р. Коточиговой, функции вещей в литературе подразделяются на культурологическую, характерологическую и сюжетно-композиционную [33; 40]. Последняя, представляющая важное значение для детективной и приключенческой литературы, то есть для тех жанров, где внешняя событийность преобладает над внутренней, в романах Уайлдера отсутствует практически полностью. Однако две другие представляют в данном случае определенный интерес.
В своей культурологической функции вещь становится «знаком изображаемой эпохи и среды» [33; 40]. Эта функция вещи обычно играет важную роль в романах, описывающих путешествия или иные исторические эпохи. В своих произведениях Т. Уайлдер неоднократно обращался к отдаленным историческим временам и странам (Перу XVIII века в «Мосте», античная Греция в «Женщине с Андроса», Древний Рим в «Мартовских идах»), а в его романах о современности мотив дороги, путешествия часто оказывался в центре художественного замысла: герой «Каббалы» отправляется в Италию, Джона Эшли судьба после долгих скитаний приводит в Чили, Джордж Браш и Теофил Норт путешествуют по своей родной стране - США. Однако путь главных героев - это, в первую очередь, путь духовного восхождения, познание себя и своей роли в мире, поэтому и путешествия, формально протекающие во вполне реалистической горизонтали конкретных пространства и времени, по сути своей являются одним и тем же архетипическим паломничеством к храму истины, происходящим во вневременной и внепространственной духовной вертикали. Вопросы, которые герои стремятся для себя разрешить, и основной выбор, предпринимаемый ими, не являются прямым порождением одной конкретной эпохи или исключительных жизненных обстоятельств; обстоятельства - лишь предлог для постановки неизменных вечных вопросов, и потому, в конечном итоге, оказывается не так уж и важно, в каких костюмах будет разыгран очередной акт драмы: древнегреческих или современных американских.