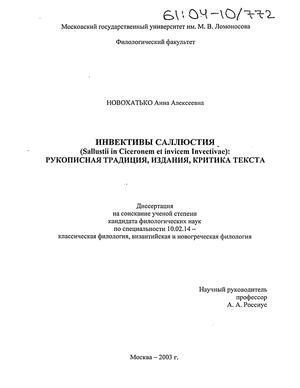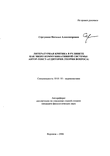Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Содержательный аспект инвектив и вопрос атрибуции 18
1.1. Жанровое своеобразие инвектив 18
1.2. Исторический фон 19
1.3. Проблема авторства 20
Глава 2. История текста саллюстиевских инвектив на материале колляции средневековых рукописей (X - нач. XIV вв.) 43
2.1. Архетипы 46
2.2. Семьи аир 53
2.3. Субархетипы семьи « (AFK+N, Т GBX) 57
2.3.1. Субархетип л (AFK+N) 57
2.3.2. Субархетип ф (Т GBX) 68
2.4. Субархетипы семьи (CD+I, S+LHb+Q, RE+Z, Мр, НОРМ) 76
2.4.1. Субархетип ф (CD+I) 76
2.4.2. Субархетип у (S+LHb+Q, RE+Z, Мр, НОРМ) 86
2.4.2.1. Субархетип х (S+LHb+Q) 87
2.4.2.2. Субархетип 8 (RE+Z, НОРМ, Мр) 98
2.4.2.2.1. Субархетип С (RE+Z) 100
2.4.2.2.2. Субархетип г (НОРМ) 116
2.4.2.2.3. Рукопись Мр 135
Глава 3. История изданий инвектив (инкунабулы и XVI-XX вв.) 142
Заключение 165
Библиография 172
Приложение 1.
- Жанровое своеобразие инвектив
- Проблема авторства
- Субархетипы семьи (CD+I, S+LHb+Q, RE+Z, Мр, НОРМ)
- Субархетип 8 (RE+Z, НОРМ, Мр)
Введение к работе
Актуальность темы и научная новизна исследования. В настоящей диссертации впервые представлена полная история текста, а также новое издание так называемых саллюстиевских инвектив, т. е. двух памфлетов I в. н.э., атрибуируемых античной и средневековой традицией Саллюстию и Цицерону и передававшихся на протяжении всей рукописной и печатной традиции с цицероновским и саллюстиевским корпусом.
Первой и основной задачей работы ставится составление нового критического аппарата к тексту инвектив на основе изучения рукописной традиции, а также колляции средневековых рукописей и ранних изданий. Для этого впервые был собран полный список рукописей и изданий, содержащих инвективы. В том, что касается общего анализа рукописей, уточнения их датировки и региона происхождения, а также рассмотрения сложных и испорченных мест в самих текстах (в первую очередь, интерполяций и лакун), используется традиционная и новейшая методология вспомогательных дисциплин: кодикологии и палеографии. Кроме того, одна из задач исследования может быть сформулирована как создание определенной теоретической и прикладной методологической модели для современных исследователей античных текстов.
Первая глава посвящена содержательной стороне инвектив и проблеме авторства. Структура второй главы, являющейся основной в работе, строилась по принципу разбора и анализа рукописной традиции инвектив и, следовательно, получившейся в результате колляции стеммы1. Последовательно разбираются ошибки «сверху вниз», т. е. архетипа со, субархетипов ос и Р, субархетипов тс, <р, ф, у, х, 8, С и е. Далее следует анализ каждой рукописи отдельно на материале произведенных колляции и взаимосвязь этих рукописей с архетипом и субархетипами. В третьей главе продолжается рассмотрение истории текста инвектив, но уже на материале печатных изданий с первого
1 Стемма приведена на с. 45.
издания до новейшего. В четырех приложениях к работе представлены: список рукописей, содержащих саллюстиевские инвективы {приложение /), список изданий инвектив с XV по XX вв. {приложение 2), результаты колляции рукописей и изданий, содержащих инвективы {приложение 3), текст инвектив с новым аппаратом и переводом. Наконец, в приложении 5 впервые на русском языке представлен краткий терминологический словарь по критике текста.
История и методология текстуальной теории. Современное представление об античных текстах основано на фрагментарных папирусах, средневековых и гуманистических рукописях, а также изданиях эпохи Возрождения, бесчисленным количеством копий удаленных от оригиналов, ибо автографы античных авторов не сохранились. Папирусы саллюстиевских инвектив не засвидетельствованы, в средневековый период инвективы передавались как с цицероновским, так и с саллюстиевским корпусом, а в дальнейшем такая традиция была продолжена и издателями. Средневековые рукописи атрибуируют тексты древних авторов согласно уже сложившейся античной традиции2. В новое время, когда атетеза инвективы Цицерона против Саллюстия не подлежала более сомнению, вторую же инвективу часто продолжали атрибуировать Саллюстию, инвективы печатались в саллюстиевских изданиях. Последним таким изданием является оксфордское издание Л. Д. Рейнолдса3.
Первому критическому анализу текст инвектив подвергся в работе итальянского гуманиста С. Коррадо4 в 1537 г. Это исследование мало напоминает критику текста в современном научном ее понимании, работа отличается наивностью и упрощенным представлением о вопросе, однако трудно переоценить ее значение как некого начального и вместе с тем поворотного пункта в исследовании текста инвектив.
Основательный разбор принципов атрибуции и атетезы в классической филологии представлен в одноименной статье Л. Н. Егунова в сб. «Древний мир и мы. Классическое наследие в Европе и России», СПб, 1997; 83-138. 3 С. Sallusti Crispi Catilina, Iugurtha, Historiarum Fragmenta Selecta, Appendix Sallustiana, ed. by L. D. Reynolds, Oxford (OCT), 1991.
Sebastiani Corradi In M. T. Cicerone Quaestura, Venetiis, 1537. Разбор этого исследования Коррадо см. ниже с. 22-25.
Первые шаги в направлении критики текста в научном смысле слова в Новое время были сделаны на основе изучения Нового Завета5. Известное понимание истории текста произведений было в науке и прежде, но тогда все представления держались на особой интуиции исследователя (история знает таких великих филологов, знатоков текста, как А. Полициано, Эразм Роттердамский7, Ж. Скалигер8, Р. Бентлей и др.). Для рационализма XVIII в. были законны представления об истории текста произведения как об истории его «порчи», а задания текстолога сводились к «добыванию» авторского текста. Существенную роль в методологии критики текста сыграла работа Ф. А. Вольфа "Prolegomena..."9, вышедшая в свет в 1795 г. Незадолго до этого (1788 г.) были опубликованы маргинальные схолии к «Илиаде», найденные в кодексе Venetus A (Marc. gr. 454). Схолии открывали новые страницы в истории александрийской школы критиков гомеровского текста. Именно это издание побудило Вольфа к написанию одной из важнейших работ в истории классической филологии, в первых главах которой освещены основные принципы критического подхода к тексту.
Многие ученые вносили свою лепту в постепенное становление теории критического разбора {recensio) на основе стемм. Однако во всей своей полноте она раскрылась в середине XIX в. в работах К. Лахмана, посвященных реконструкции ряда классических произведений, а также Нового Завета и текста песни о Нибелуигах. Классические принципы recensio и emendatio сформулированы и раскрыты Лахманом в предисловии к изданию Лукреция (Берлин, '1850)10.
В 1721 г. Ричард Бентлей предложил новое издание, основанное на древних рукописях и
Вульгате. Однако консервативное отношение теологов к вопросу задержало издание более
чем на сто лет, и только в 1831 г. К. Лахману удалось осуществить этот замысел.
Полициано считал, что рукописи, переписанные с некого сохранившегося экземпляра, теряют
свою ценность, и успешно применил принцип eliminatio к некоторым рукописям
цицероновских писем.
В 1508 г. Эразм ввел понятие «архетип», подразумевая, хотя и не в столь точном виде, как в
современной науке, тот несуществующий текст, откуда произошли все существующие
рукописи. 8 Скалигер сформулировал идею средневекового архетипа. В 1577 г. он из природы
«испорченных мест» рукописей Катулла пытался вывести доказательство, что они имеют
общего «предка», написанного докаролингским минускулом.
Wolf F. A. Prolegomena ad Homerum sive de operum homericorum prisca et genuina forma
variisque mutationibus et probabili ratione emendandi, Halle,31884. 10 Lachmann K. In T. Lucretii Cari de rerum natura Hbros commentarius. Berlin, 31866; 3-15.
Лахманом были открыты и сформулированы те принципы научной методологии, которыми пользуются современная текстология и критика текста. Теория эта, тем не менее, не совершенна, и вскоре у нее появились первые противники. Необходимая классификация рукописей проводилась Лахманом, его учениками и последователями с помощью известной теории «общих ошибок»11. Обратило на себя внимание однообразие стемм, построенных по принципу «общих ошибок»: стеммы в большинстве своем оказались раздвоенными, или дихотомными . Каждая выпускала из себя две ветви, а те, в свою очередь, выпускали двойные ветви.
Критика системы Лахмана привела к обилию научной литературы, выявляющей общие недостатки механистической текстологии13. Наиболее значительной работой, освещающей ограничения стемматического подхода, по праву считается труд Дж. Паскуали14. Дело в том, что теория стемм слишком упрощает общую картину истории текста, и ее полезность весьма ограничена, несмотря на то обстоятельство, что с помощью этой теории издатель получает ответы на неизбежные вопросы о выборе правильной рукописи (или рукописей) для текста. Теория «общих ошибок» подразумевает, что чтения и ошибки передавались «вертикально» от одной рукописи к другой, т. е. от одной рукописи к копиям, которые были сделаны с этой рукописи. Однако чем глубже ученые исследовали вопрос, тем очевиднее становился тот факт, что традиция многих текстов, включая первостепенные и значительные, не может быть реконструирована с применением лишь метода стемм. Часто случается, что рукописи не могут быть разбиты на семьи и классы по принципу «общих ошибок», вследствие того что произошла контаминация, или «горизонтальная» передача текста. Читатели и переписчики античной и средневековой эпохи вовсе не обязательно делали копию лишь с единственного экземпляра. Напротив, если текст был испорчен, они сравнивали различные копии, вставляя
11 Об эпохе и окружении Лахмана см. Reynolds L. D„ Wilson N. G. Scribes and Scholars. A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature. Oxford,31991; p. 209-211.
Впервые критический анализ раздвоенности большинства стемм Лахмана предпринял Ж. Бедье. См. Bidier J. Tradition manuscrite du Lai de I'Ombre; reflexions sur 1'art d'editer les anciens textes II Romania 54, 1928; 321-356.
13 Подробное изложение научной полемики по этому вопросу в первой половине XX в. см. в
монографии Д. С. Лихачева «Текстология. На материале русской литературы X-XVII веков»
СПб.,32001;с. 16-29. с
14 Pasauali G. Storia della tradizione e critica del testo. Firenze ' 1934,21952.
в собственный текст те варианты и разночтения, которые сами считали подходящими или достойными упоминания15. Во многих рукописях этот процесс наблюдается наглядно в виде маргинальных или интерлинеарных схолиев.
Другой недостаток теории «общих ошибок» заключается в утверждении, будто все существующие рукописи восходят к одному архетипу, созданному в позднеантичный или раннесредневековый период. В действительности подробное изучение разных вариантов рукописей показало, что дело обстоит не так, и что традиция часто остается «открытой». Некоторые чтения будут опровергать стемму, не укладываться в нее, указывать на некий другой архетип. Так появляется новая линия традиции, ответвляющаяся от стеммы, с которой больше не переписывали копий, но которой продолжали пользоваться для сверки и исправлений некоторых чтений. Эти чтения стали вариантами внутри основной традиции, внесенными в ее архетип или в рукописи более позднего времени.
Характерно, что разочарование в текстологических приемах теории стемм почувствовалось особенно резко с возникновением папирологии: тексты папирусов часто не подтверждали ни реконструкции текстологов, ни теории архетипов в целом.
Новую оценку получают стемматическая теория К. Лахмана и история ее развития в трудах П. Мааса16 и С. Тимпанаро17. Краткая, но исчерпывающая работа Мааса освещает принципы стемматического построения до тонкостей и является необходимой настольной книгой любого текстолога. Тимпанаро идет дальше и останавливается на случаях, которые не рассматривал Маас, а именно примерах контаминации и исправлений (emendatio).
Последней значительной работой по критике и изданию текста стала монография М. Уэста , в которой все теоретические построения подтверждены обширными примерами из Гесиода, Катулла, Овидия и др.
Порой мы имеем дело с текстами, где вся традиция контаминироваиа, начиная с ранних средневековых рукописей. Таким пример может служить история текста «Киропедии» Ксенофонта.
16 Maas P. Textkritik. Leipzig,21950.
17 Timpanaro S. La genesi del metodo del Lachmann. Padova, 31981.
18 WestM. L. Textual Criticism and Editorial Technique. Stuttgart, 1973.
В России истоки текстологии восходят к началу XIX в. Это не была работа с классическими текстами, однако на основе древнерусских текстов были сформулированы некоторые принципиальные опорные точки методологии. Принципы критики текста в русской науке были сформулированы А. Шлецером. Он называл ее «малой критикой», или «критикой слов» . При этом он сам подчеркивал, что его собственные приемы всецело опираются на современную ему европейскую критику. Все рукописи воспринимались как равные, и из всех выбирались «лучшие чтения» для реконструкции первоначального текста.
Более историчен был И. Добровский, выдвинувший в начале XIX в. новую точку зрения: рукописи возникали одна за другой, и есть тексты лучшие и худшие в целом, а не в разночтениях. Возникла необходимость классификации отдельных рукописей, их разбития на группы и редакции. Именно этот метод наиболее близок лахмановской системе.
Спустя почти сто лет свою школу текстологов создал В. Н. Перетц. Он отмечал, что стеммы списков важны не только для восстановления первоначального вида памятника, «но и для установления его литературной истории»20.
Наконец, основателем отечественной текстологии по праву считается «проникновенный исследователь текстов, от которого в значительной мере пошли новые современные методы в текстологии памятников нового времени»21, известнейший исследователь текстов А. С. Пушкина - Б. В. Томашевский. На большом материале, собранном во время текстологического исследования сочинений А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского и А. Н. Островского, в 1928 г. выходит его практическое руководство по изданию текста . Несмотря на то обстоятельство, что исследование ученого посвящено современному художественному тексту, его методология может и должна быть
Шлецер А. Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке, сличенные, переведенные и объясненные А. Шлецером. СПб., 1809, с. 396. 0 Перетц В. Н. Из лекций по методологии истории русской литературы. Истории изучения. Методы. Источники. Корректурное издание на правах рукописи. Киев, 1914, с. 337.
21 Лихачев Д. С. Ук. соч.; с. 30.
22 Томашевский Б. В. Писатель и книга. Очерк текстологии. М., 11928,21959.
учтена при любого рода текстологической работе, в особенности, главы, посвященные истории текста и проблеме изданий, а также некоторые параграфы, связанные с прочтением рукописей и классификацией ошибок.
Базовая монография по текстологии на русском языке написана академиком Д. С. Лихачевым . Фундаментальный исследователь «Слова о полку Игореве», Лихачев посвятил долгие годы изучению истории русского летописания. Книга содержит основательную теоретическую часть, в которой освещается история текстологической науки, а также базовые определения основных понятий истории текста и техники издания текстов. Монография снабжена подробной библиографией по текстологии, что вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на то обстоятельство, что работе уже более сорока лет, является одним из ее важнейших достоинств. К сожалению, преимущества работы Лихачева для филолога-классика этим исчерпываются. В его задачи не входило исследование текстологии античных авторов. Хотя методология Лихачева не может не оказать влияния на современного исследователя, материал русской литературы X-XVII вв., чему, собственно, и посвящена монография, существенно отличается от античных текстов, да и древнерусские летописцы мало походили на своих западноевропейских современников.
А. Н. Егунов24 рассматривает важнейший аспект применения филологических методов, а именно определение авторства спорных или безымянных произведений. Атрибуция начинается с установления текста с наибольшей точностью, одновременно идет конъектуральная критика текста, т. е. оценка разночтений и возможных исправлений. Наряду с этими основополагающими принципами критического анализа в работе Егунова представлена историография проблемы. Рассматриваются исследования Скалигера, Петавия, Бентлея, Вольфа, Бека, Лерса, Радермахера, Лютославского и др., посвященные атрибуции и атетезе различных античных текстов. В конце статьи автор приводит список критериев, определяющих основания для атрибуции или атетирования. Исследование Егунова следует считать едва ли не единственной работой на русском языке, посвященной критике текста на материале античных авторов.
23 Лихачев Д. С. У к. соч.
24 Егунов А. Н. У к. соч.
Иначе обстоит дело в отечественной науке с разделом текстологии, занимающимся непосредственно изучением рукописей. Трудно переоценить вклад, внесенный в исследование латинской палеографии отечественной исследовательницей О. А. Добиаш-Рождественской и ее учениками. Создатель целой школы западной палеографии в нашей стране, Добиаш-Рождественская работала долгое время в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина над описанием западноевропейских рукописей. Наряду с составленным впервые каталогом с описанием латинских рукописей Щедринской библиотеки, она написала отдельное руководство к их изучению25, где впервые в отечественной науке были изложены основные принципы научного описания манускрипта, в котором соединились внешняя характеристика, характеристика декора, анализ содержания, последующих дополнений и изложение истории кодекса.
Многие начинания Добиаш-Рождественской продолжила ее ученица А. Д. Люблинская, которая стала заниматься не только практической частью латинской палеографии, но и теоретическими проблемами. Написанный Люблинской учебник латинской палеографии26 стал настольной книгой для поколений русских палеографов. Автор подробно разбирает разные виды письма за длительный временной промежуток (римское письмо I-V вв., письмо раннего средневековья VI-VIII вв., каролингский минускул, готическое письмо, гуманистическое письмо и письмо нового времени). Особую ценность представляет приложение с фотокопиями рукописей и описанием шрифта.
Различные средневековые и ренессансные рукописи - главным образом, французского происхождения - продолжила изучать Л. И. Киселева. Практическую ценность имеет ее работа, посвященная исследованию готического курсива27.
Таким образом, несмотря на очевидное отсутствие в отечественной науке работ по текстологии на материале античных авторов, сложившиеся традиционные школы текстологии и латинской палеографии создают мощный методологический фундамент для текстолога-античника.
Добиаш-Рождественская О. А. История письма в средние века. Руководство к изучению латинской палеографии. М., 31987. Люблинская А. Д. Латинская палеография. М., 1969. 27 Киселева Л. И. Готический курсив XIII-XV вв. Л., 1974.
Основные принципы текстологического анализа. Критика текста и техника изданий. Основной целью изучения текста является восстановление подлинника для его издания. Из сказанного вовсе не следует, что для издателя важен только первоначальный текст, а все промежуточные этапы не вызывают интереса. Наоборот, подлинник, не подтвержденный всеми «промежуточными этапами», скорее вызовет сомнения. Промежуточные этапы - это те десятки рукописей, дошедшие до нас, которые необходимо сверить, т. е. произвести колляцию. В рукописях, естественно, встречаются текстуальные расхождения, и одна из задач издателя - выбрать «правильное» чтение . Задача текстолога шире - изучить историю текста памятника на всех этапах его существования в руках переписчиков, редакторов, компиляторов, т. е. на протяжении всего того времени, пока текст памятника изменялся.
Лахмановская теория общих ошибок помогла объединять рукописи по семействам, устанавливать их филиацию («генеалогическое древо»), реконструировать архетип. Обычно древние списки дают лучшие чтения, но бывает и наоборот, когда поздняя рукопись восходит к более раннему и более исправному источнику. Различают проверку рукописного издания (recensio) и его исправление (emendatio).
После критического разбора инвектив С. Коррадо29 издателей почти не интересовали текстологические вопросы. Инвективы регулярно переиздавались постольку, поскольку никогда не понижался интерес к текстам Цицерона и Саллюстия. Первым научным изданием саллюстиевских инвектив с критическим аппаратом стало второе издание Саллюстия Г. Йордана30, именно в этом издании впервые появляется и текст инвектив. В том же году в статье31 в «Гермесе» Йордан дает разбор трех недавно найденных в Британском Музее новых рукописей инвектив32, добавив их к уже известным трем древнейшим
В 1796 г. И. Я. Грисбах впервые установил, что из разночтений предпочтение надо отдавать более трудному (lectio difficilior), так как переписчик ошибался в сторону упрощения, заменяя редкое и необычное тем, что ему привычно.
29 См. выше с. 4, сноска 4.
30 С. Sallustii Crispi Catilina, Iugurtha... rec. H. Jordan. Berlin, 1876.
31 Jordan H. Die Invectiven des Sallust und Cicero II Hermes XI, 1876; 305-331. '"
32 Рукописи H, К и Hb.
рукописям33. По методу Лахмана, Йордан вводит базовое деление рукописей на две семьи, найденные рукописи разбивает на группы, и получает первый вариант стеммы, в принципе верной, хотя и довольно примитивной.
Следующим критическим изданием было издание А. Курфесса 1914 г., неоднократно переизданное и продолжавшее быть самым авторитетным изданием инвектив на протяжении почти столетия. Все последующие издания воспроизводили текст Курфесса. Курфесс использует 10 рукописей, то есть добавляет к рукописям Йордана еще 4 рукописи35, оставляя при этом йордановское дихотомное деление.
Наконец, последним изданием, которое и легло в основу анализа данной диссертационной работы, является издание известного английского текстолога Л. Д. Рейнолдса36. Рейнолдс много занимался критикой текста Саллюстия, ему принадлежит разбор рукописной традиции саллюстиевского корпуса и инвектив в коллективной монографии, подводящей итог целому направлению текстологических исследований . Используя 16 древнейших рукописей инвектив38, Рейнолдс реконструирует стемму39, исходя из дихотомного деления Йордана. В издании Рейнолдс вновь возвращается к той же стемме, одновременно упростив и дополнив ее (в издании Рейнолдс ограничивается лишь 11 рукописями: AFKTXCDSEHM)40. За период после выхода в свет монографии ТТ (1983 г.) до появления издания в ОСТ (1991 г.) Рейнолдсом была найдена новая средневековая рукопись X, вошедшая в критический аппарат издания. У Рейнолдса, таким образом, получается две стеммы, одна более и одна менее подробная.
И Курфесс, и Рейнолдс в своих изданиях используют, главным образом, средневековые рукописи41. Собрав полный список рукописей, содержащих
33 Рукописи А, Т и В.
34 Sallustii in Ciceronem et Invicem Invectivae, rec. A. Kurfess. Leipzig, 1914.
35 Рукописи M, E, P и V.
36 С. Sallustii Crispi Catilina, Iugurtha... rec. L. D. Reynolds. Oxford, 1991.
37 Texts and Transmission. A survey of Latin Classics, by L. D. Reynolds. Oxford, 1983; 341- 352.
Монография, для краткости в дальнейшем именуемая ТТ.
38 Рейнолдс добавил рукописи F, G, С, D, S, R, О и исключил V.
39 7Т350.
40 Reynolds XXIII.
Курфесс учитывает одну позднюю ватиканскую рукопись (V), Рейнолдс считает ее лишней и сознательно исключает из стеммы. В рукописи V отчетливо видны следы контаминации, и она не является палимпсестом.
саллюстиевские инвективы, мы получили некое новое представление об истории текста инвектив. Нами найдено 212 рукописей, содержащих инвективы. Из 29 существующих средневековых рукописей инвектив нам оказались доступными 2342, колляция которых и была произведена. Кроме колляции новых рукописей, была заново произведена также колляция всех приведенных в стемме рукописей, т. е. уже сверенных когда-то Иорданом, Курфессом и Рейнолдсом. Колляция в принципе своем подтверждает составленную Рейнолдсом стемму, внося в нее многочисленные корректуры.
Подверглись анализу также многие поздние рукописи. В тех случаях, когда это действительно необходимо, их чтения вошли в аппарат. По большей части, однако, как это обычно и происходит, рукописи являются точными копиями тех или иных средневековых списков. Но самый главный «недостаток» ренессансных саллюстиевских рукописей - их ярко выраженный контаминированный характер. Большинство имели доступ как к чтениям семьи а, так и к чтениям семьи |5. Это отчетливо видно в первых печатных изданиях Саллюстия43. Издатели пользовались плохими, как отмечает Йордан , рукописями, т. е. контаминированными и исправленными. Конъектуры поздних переписчиков так же мешают добраться до архетипа, как и бездумные ошибки средневековых писцов. Все эти соображения и привели к тому, что подробно рассмотрены, главным образом, все средневековые списки, на основании которых и построена стемма.
Что касается самой стеммы, то, несмотря на очевидные недостатки лахмановского подхода к тексту, нельзя не выделить основное его преимущество: некое системное представление о том хаотично дошедшем невеликом наследии средневековой письменности. Стемма помогает представить общую картину состояния текста, не давая ответа на все вопросы. Так, например, не ложатся в указанную схему рукописи N, Мр и I. Таким образом, находясь в явном меньшинстве, они не опровергают стеммы
42 Добавлены колляции рукописей Q, L, I, N, Мр, Z.
См. ниже главу 3. Уже по изданию Альда Мануция очевидно, что оно основано на поздних
контаминированных и исправленных рукописях. 44 Jordan Н. Die Invectiven des Sallust und Cicero II Hermes XI, 1876; 305f.
Рейнолдса, однако дополняют ее, внося дополнительные штрихи и заставляя помнить об известной ограниченности стемматического подхода.
Метод разбора соответствует лахмановской системе, т. е. последовательно разбираются сначала общие правильные чтения вопреки остальной традиции, а затем общие ошибки рукописей, в число которых входят, главным образом, эллипсы, перестановки, интерполяции и конъектуры. Так, часто происходит перестановка слов, особенно коротких. Приведем два примера, когда рукописи семьи [3 дают правильное чтение, в то время как рукописи семьи а имеют перестановку: S II 13 haec cum (3] cum haec
Такие же перестановки были в числе ошибок, подтвердивших существование субархетипа х: СП 17virsitQLHb
С II 18 quoniam omnium] omnium quoniam QLH^
Короткие слова также систематически пропускаются: S III 21 earn] illam N: от. х: civium <;: еа V С II 26 iam] от. QLHb: et iam О С IV 17 vero от. a: enim М С V 22 ego от. а (et Е) С VI 1 enim от. а С VIII 18 sis от. р: recte Мр45
Пропуски фраз по большей части вызваны наличием повторяющегося слова: С V 5-6 neque hercules ...aestimavi от. кТ, marg. add. К2. Предложение было пропущено из-за гаплографии (предыдущее предложение оканчивается на aestimaveruni).
Наконец, в конце каждой группы рукописей и рукописи отдельно приводятся общие описки, т. е. ошибки, случайно возникшие по разным
О контаминации в рукописи Мр см. ниже с. 135-141.
причинам . Такие общие описки имеют особое значение для больших групп рукописей, для древнейших субархетипов.
Одно из многих практических применений изучения текста - его издание. В приложении 4 приводится новое издание текста с новым критическим аппаратом47. Основным требованием к изданию текста Й. Дельц считает ясность48. Читатель должен иметь отчетливое представление о том, что известно издателю, и какое чтение он считает правильным. Такая ясность, несомненно, присутствует в издании Рейнолдса в значительно большей степени, чем в издании Курфесса. Однако ввиду недостаточного числа необходимых рукописей, аппарат Рейнолдса лишен многих интересных вариантов, в том числе и древнейших. В нашем аппарате также отсутствуют почти все описки переписчиков (за исключением особо важных для истории текста), в него вошли, главным образом, конъектуры, интерполяции, пропуски и перестановки, серьезно повлиявшие на последующие рукописи и издания. Кроме того, исправлены некоторые недоразумения с авторами конъектур в издании Рейнолдса, часто приводимыми неверно (так, конъектура, приписываемая Рейнолдсом Карриону, в действительности не принадлежит Карриону, конъектура, приписываемая Кортию, - не принадлежит Кортию и т.д.).
Известно, что свою работу издателю следует начинать со знакомства с хорошими изданиями античных авторов вообще и издаваемого автора в частности49. Для получения текста, представленного в приложении 4, был произведен анализ издания Йордана, изменений, внесенных Курфессом в издание Йордана, изменений, внесенных Рейнолдсом в издание Курфесса. Все изменения, вносимые в текст Рейнолдса, объясняются новыми данными колляции рукописной традиции.
Причины и классификацию ошибок наборщика разбирает Б. В. Томашевский (см. Томашевский Б. В. Ук. соч. с. 38-55). Большинством причин руководствовались и средневековые переписчики при тех же ошибках — пропусках букв, слов, заменах, перестановках и т.п.
Текст в своей основе покоится на издании Рейнолдса, однако в некоторых местах есть расхождения, которые оговорены в главе 2, посвященной детальному текстологическому разбору текста инвектив.
DelzJ. Textkritik und Editionstechnik II Einleitung in die lateinische Philologie, hsg. von F. Graf. Stuttgart & Leipzig, 1997; 71.
И. Дельц в упоминаемой выше статье приводит лучшие за последние сорок лет издания, которые всячески рекомендует для ознакомления. (Op. cit. 72-73.)
Таким образом, благодаря тому обстоятельству, что текст имеет содержательно законченный характер и отличается небольшим размером, одновременно с представленной во второй и третьей главах историей текста в рукописной и издательской традиции, подготовлено новое издание текста саллюстиевских инвектив на основе колляции найденных рукописей.
к-к-к
В диссертации используются следующие сокращения50: Вретска = K.Vretska, Sail. Invektive undEpisteln (Heidelberg 1961) Jachmann = G. Jachmann, Inv. Sail. ( Misc. Acad. Berol. II, 1, 1950; 235-275) Jordan = H. Jordan (ed.) Sail. (1876) Kristeller = O. Kristeller, Iter Italicum (London 1963-1997) Kurfess = A. Kurfess (ed.) Sail. inv. (1914) Reynolds = L. D. Reynolds (ed.) Sail. (1991) TT= L. D. Reynolds (ed.), Texts and Transmission (Oxford 1983)
Текст везде цитируется по изданию Рейнолдса. Для удобства в работе с текстом при колляции были введены сокращения, оставшиеся в окончательном варианте текста диссертации. Буква S обозначает инвективу Саллюстия против Цицерона, С - инвективу Цицерона против Саллюстия. Вторая римская цифра указывает на номер страницы в издании Рейнолдса. Текст первой инвективы занимает в издании Рейнолдса 4 страницы (225-228), текст второй инвективы -9 страниц (229-237). Так, номера соответствуют: S I = 225, S II = 226, S III = 227, S IV = 228
С I = 229, С II = 230, С III = 231, С IV = 232, С V = 233, С VI = 234, С VII = 235, С VIII = 236, С IX = 237.
Последняя арабская цифра указывает номер строки в издании Рейнолдса. Например, «С IV 18» означает «Reynolds, in Sail. 232, строка 18».
***
Автор считает приятным долгом выразить глубокую благодарность проф. Гансу-Христиану Понтеру (Фрейбург, Германия) за неоценимую помощь и
50 Здесь указаны лишь сокращения, использованные в основном тексте. В приложениях список сокращений приведен отдельно, ввиду того, что там использовались особые работы.
поддержку при написании данной работы. За ценные советы, использованные в диссертации in toto, автор признателен проф. Майклу Винтерботому (Оксфорд) и проф. Паулю-Герхарду Шмидту (Фрейбург, Германия). Бесценную поддержку автору оказали проф. Йозеф Дельц (Базель), проф. Джеймс Дигль (Кембридж), госпожа Сьюзан Рейнолдс51 (Оксфорд), а также директора и служащие библиотек, в которых автор работал с оригиналами рукописей и ранних изданий: Москва, Музей Книги Российской Государственной Библиотеки, Научная
библиотека им. А. М. Горького МГУ им. М. В. Ломоносова Basel, Universitatsbibliothek Cambridge, Fitzwilliam Museum, Gonville and Caius College, Trinity College,
University Library London, British Library Munchen, Bayerische Staatsbibliothek Oxford, Bodleian Library Padova, Biblioteca Universitaria Selestat, Humanistenbibliothek Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana.
51 Мне приятно выразить особую признательность госпоже Сьюзан Рейнолдс за то, что она
любезно позволила пользоваться рукописным архивом профессора Л. Д. Рейнолдса. s
Жанровое своеобразие инвектив
Нельзя изучать изменения текста памятника в отрыве от его содержания, отмечает в своей монографии Д. С. Лихачев1. История текста памятника является в известной степени историей его создателей и в прямом смысле слова читателей. «Элементы такого рода нового понимания задач текстологии наметились уже давно. Однако только в последние десятилетия это отношение к текстологии получило прочную базу ...в стремлении текстологов рассматривать историю текста, не отрывая этой истории текста от исторической действительности, от общественно-политической жизни эпохи, от его авторов, редакторов, переписчиков»2. Поэтому прежде всего установим, что мы понимаем под инвективой как жанром, и что нам известно непосредственно об инвективах Саллюстия и Цицерона.
«Инвектива» {invectiva, из oratio invectiva, от глагола invehor) обозначает как ругательную речь, так и ругательный письменный текст. В такой форме слово появляется не раньше IV в. н. э.3 Риторы, грамматики и схолиасты пользуются прилагательным invectivus, в качестве же субстантивированного прилагательного invectiva в современном значении впервые зафиксирована у Тиранния Руфина из Аквилеи4 (345-410), а также у грамматиков Диомеда5 (II пол. IV в.) и Кледония6 (V в.).
Инвектива представляет собой литературную форму, имеющую своей целью всеми доступными средствами публично унизить (с учетом нравов и этических установок конкретного общества) личность названного по имени противника.
Обозначение самой идеи «процесса ругани» сконцентрировано в греческом термине фоуод и в латинском термине vituperatio. Однако и в греческом, и в латинском языках существуют широкие синонимические поля, связанные с семантикой этого термина, например: XoiSopia, ovcidog, xocxrjyopia, Г х[л{Зо, calumnia, contumelia, convicium, detrectatio, exprobatio, infamatio, iniuria, maledictio, opprobrium, reprehensio и др.
Разумеется, римская инвектива строится по законам греческой риторики с соблюдением всех топосов, основные из которых следующие: 1) отец и сын - рабы; 2) негреческое происхождение обвиняемого; 3) обвиняемый занимается каким-нибудь недостойным, порочащим его имя ремеслом; 4) обвиняемый занимается воровством, осквернением святынь и т.п.; имеет нравственные дефекты, такие, как жадность и пьянство, различные физические недостатки и т.п.; 5) обвиняемый испытывает ненависть по отношению к друзьям и к отечеству.
Все эти топосы в разной последовательности встречаются независимо от формы, в которой изложена инвектива. Это может быть речь в сенате или на форуме, ямбическая поэма, политический памфлет, эпиграмма, совершенный по форме трактат. Ярчайшие примеры инвектив, произнесенных с расчетом на широкую аудиторию, - речь Демосфена «О венке», речь Цицерона против Пизона, вторая Филиппика Цицерона. Инвективами чаще всего называются речи Цицерона против Каталины и "Ибис" Овидия. Инвективы Саллюстия, как и инвектива Клавдиана против Руфина, имеют форму политического памфлета.
Первая и основная задача любой инвективы - убедить слушателей в правдивости обвинений. Убедительность в этом случае гораздо важнее истины. В то же самое время оратор, произносящий инвективу, стремится потешить аудиторию, доставив ей удовольствие. И Цицерон, и Демосфен подтверждают такое удовольствие слушателей, возникающее при виде других, подвергающихся оскорблению. Тот же фактор играет первостепенную роль в древней комедии, в обидных римских Fescennini (непристойных свадебных песнях), политических пасквилях и в самом существовании ямбического жанра, первоначально основанного на брани. Несмотря на законодательства против фоуо$ъ Греции и Риме, инвектива процветала в обеих культурах.
Инвективы Саллюстия именуются по-разному. В разных рукописях засвидетельствованы declamatio, oratio in, или просто Sallnstius in Ciceronem et invicem. Однако нередко и заглавие invectiva. Так, в одной из древнейших рукописей (рукопись Н, X в.) обе речи именуются инвективами.
В инвективах Саллюстия отражена политическая ситуация в Риме в 54 г. , когда Цицерон, в 57 г. возвращенный из изгнания, с согласия Цезаря и стараниями Помпея и консула 57 г. Публия Корнелия Лентула Спинтера был вынужден сотрудничать с триумвирами и даже защищать в суде их сторонников (а в прошлом своих врагов) - Публия Ватиния, бывшего претора 55 г., и Авла Габиния, бывшего консула 58 г., причастного к удалению Цицерона в изгнание в 58 г. По форме инвективы представляют собой произнесенные в сенате речи (сначала Саллюстия против Цицерона, затем ответная речь Цицерона против Саллюстия), причем уже в первой речи присутствуют ответы на прежние нападки Цицерона.
Вопрос об атрибуции инвектив решался по-разному. В настоящее время утверждение о том, что обе инвективы принадлежат некому молодому декламатору эпохи Августа, писавшему риторические упражнения, практически не вызывает возражений. Настолько плох латинский язык обеих инвектив, настолько очевидны попытки подражания стилю соответственно того и другого авторов, что вопрос об атетезе представляется решенным.
Проблема авторства
Исследователями отмечается еще одно любопытное обстоятельство, а именно: пассаж инвективы против Цицерона напоминает пассаж второго письма к Цезарю. In Cic. 3, 5: immo vero homo Ievissimus, supplex inimicis, amicis contumeliosus, modo harum, modo illarum partium, fidus nemini, Ievissimus senator, mercennarius patronus, cuius nulla pars corporis a turpitudine vacat, lingua vana, manus rapacissimae, gula immensa, pedes fugaces: quae honeste nominari поп possunt, inhonestissima. [Напротив, человек ничтожнейший, врагов умоляющий, друзей оскорбляющий, то при одной, то при другой партии, ни с кем не надежный, ничтожнейший сенатор, продажный покровитель, у которого нет части тела, лишенной уродства, лживый язык, окровавленные руки, огромная глотка, беглые ноги: в высшей степени бесчестно то, что не может быть названо благопристойно.]
Epist. ad Caes. II 9, 2: An L. Domiti magna vis est, quoius nullum membrum aflagitio aut facinore vacat? Lingua vana, manus cruentae, pedes fugaces, quae honeste nominari nequeunt inhonestissima. [Разве имеет вес Луций Домиций, у которого нет части тела, лишенной бесчестья или злодеяния? Лживый язык, окровавленные руки, беглые ноги, в высшей степени бесчестно то, что не может быть названо благопристойно.]
В связи с таким разительным сходством обоих пассажей из инвективы и письма высказывались теории как в пользу авторства самого Саллюстия, так и некого ритора, занимающегося упражнениями и подражающего стилю Саллюстия13. Изначально не вызывал сомнений лишь тот факт, что, по-видимому, автор одного текста был знаком с другим текстом. Полемика вокруг вопроса атрибуции текстов инвектив и писем к Цезарю, тесно связанная с историей саллюстиевского текста, заслуживает здесь краткого рассмотрения.
В 1537 г. итальянский гуманист Себастьяне Коррадо впервые ставит вопрос об авторстве инвектив и отрицает их принадлежность Саллюстию и Цицерону. Полстолетия спустя ту же точку зрения будет отстаивать выдающийся голландский филолог Ю. Липсий15.
Работа Коррадо Egnatius sive De М. Т. Cicerone Quaestura - большое исследование, касающееся жизни и творчества Цицерона, с разъяснением и толкованием трудных мест текстов Цицерона. Произведение написано в жанре диалога, собеседников трое, это Эгнацио (по-видимому, учитель Коррадо, профессор, у которого Коррадо учился в Венеции), Пьерио Валериано и сам Коррадо. Нельзя не отметить язык произведения - необычайно яркий, полный метафорики.
Разговор о подлинности саллюстиевских инвектив происходит между Эгнацио и Коррадо. Эгнацио говорит, что Саллюстий в сенате держал речь против Цицерона, и что Цицерон на эту инвективу ответил своей инвективой. Коррадо высказывает свое сомнение в подлинности того и другого текстов. Отсюда и начинается поворотный пункт дискуссии. Эгнацио пытается привести серьезную аргументацию в пользу традиционной атрибуции: ... ego tamen, ut verum fatear, de orationibus і 11 is idem semper, quod tu nunc, existimavi: sed, quum viderem Quintilianum, Divum Hieronymum, Laurentium Vallensem, Rudolphum Agricolam, Grammaticos, et veteres et recentes, ac alios homines eruditos numquam dubitasse, affirmare nihil audebam16. [... я же, говоря по правде, всегда об этих речах придерживался того же мнения, что и ты. Однако, учитывая, что Квинтилиан, Блаженный Иероним, Лоренцо Валла, Рудольф Агрикола, древние и поздние грамматики и другие образованные мужи никогда не сомневались [в подлинности этих текстов -А. //.], я бы не осмелился это утверждать.]17 Таким образом, авторитет для Эгнацио - традиционно сложившееся мнение античных авторов и ранних гуманистов. Коррадо упрекает его в этом, следует большой монолог Коррадо, в котором и заключена основная его мысль об атетезе инвектив: Tu nimis Academicorum studiosus fuisti, sed ego, nullius, ut nunc addictus iurare in verba magistri18, quod tu non fecisti, nunc affirmo, illas orationes a Sallustio et Cicerone numquam scriptas fuisse; nee me nunc auctoritas Quintiliani, quem caeteri, quos tu nominasti, et quos ego possem nominare, postea sunt secuti, movet; quod apud me parum, ne dicam nihil, sine ratione valeat auctoritas: et Quintilianus mihi vel deceptus, vel alicui declamatori amico, qui scripsisset orationes illas, assentatus esse videatur. Neque enim nos, Ciceronem secuti, probamus illud, aux&s ефа; et scimus hominem Quintilianum, qui decipi potuit, ut ostendemus, fuisse; ac legimus vel apud Senecam, multos illis temporibus declamatores fuisse, qui pro Cicerone, et contra Ciceronem taleis orationes scripserunt... Ut enim mihi videntur alicuius declamatoris et unius, et eiusdem fortasse Latronis dictionem, ita nihil minus, quam Sallustii, vel Ciceronis genus dicendi referre, vel etiam redolere...19 [Ты чересчур усердно штудировал труды ученых, а я, не будучи обязанным клясться словами своего учителя, делаю то, чего ты не сделал и теперь утверждаю, что эти речи не были написаны ни Саллюстием, ни Цицероном. И на меня не влияет ни имя Квинтилиана, ни остальных его последователей, которых назвал ты и мог бы еще назвать я. Ибо на меня мало (если не сказать вообще не) действует имя без доводов. Квинтилиан же был либо введен в заблуждение, либо льстил некому другу-декламатору, написавшему эти речи. Также и мы, последователи Цицерона, никогда не согласимся, что это он «сказал сам», и мы знаем, что Квинтилиан был человек, который, как мы покажем, мог ошибаться. У Сенеки сказано, что в то время было много декламаторов, писавших такие речи в защиту и против Цицерона... Я отношу обе речи к одному и тому же декламатору, может быть, тому же Латрону [Порцию — А. //.], ибо здесь нет ничего, что бы относилось к стилю Саллюстия или Цицерона, или хотя бы напоминало такой стиль...] Аргументация Коррадо сводится, главным образом, к следующим пунктам: некоторые фразы стилистически не соответствуют Саллюстию (он не сказал бы этого вообще, он не сказал бы этого в сенате и т.д.)20; ритмика текста не соответствует привычному ритму Саллюстия, с этой точки зрения in hac oratione nihil esse, quod a Sallustio scriptum videri possit21; автору текста явно недостает логики, это комментарий к началу инвективы, к выражению respondebo tibi, где Коррадо рассуждает: nam quo pacto respondebit, si nunc ipse provocat, ut res ipsa sic posita loquitur22.
Co второй половины XVI в. работа Себастьяно Коррадо23, впервые сформулировавшего проблему атетезы текста инвектив, стала вызывать своего рода отклик у издателей Саллюстия: впервые в изданиях обсуждается вопрос атрибуции инвектив. Например, появляются теории о том, что инвектива Саллюстия против Цицерона в действительности или не была произнесена Саллюстием, а была лишь написана им, или же вообще принадлежала не Саллюстию, а ритору эпохи Квинтилиана. Полемика вокруг проблемы атрибуции инвектив продолжалась издателями Саллюстия на протяжении всей истории изданий текста. За немногими исключениями она сводилась в пользу атетезы авторства и Саллюстия, и Цицерона.
Субархетипы семьи (CD+I, S+LHb+Q, RE+Z, Мр, НОРМ)
XVI столетием датированы самые поздние рукописи Саллюстия. Далее история текста инвектив восстанавливается по печатным изданиям. В настоящей главе рассмотрены издания Саллюстия (обе инвективы передавались преимущественно с саллюстиевским корпусом) со второй половины XV в. {editio princeps 1471 г.). Подробно описаны, в первую очередь, те издания, где представлены наиболее яркие конъектуры, сыгравшую определенную роль в истории текста. В нескольких случаях, напротив, издание примечательно тем, что его текст лишен конъектур и передает чтения предполагаемого архетипа. Большинство стереотипных изданий, приведенных в приложении 2, здесь упоминаются лишь в той мере, в какой они представляют интерес для текстуальной традиции.
Следует сразу оговорить все принятые в главе сокращения. В аппарате, помещенном в приложении 3 к настоящей диссертации, а также в этой главе издания, подвергнутые колляции, обозначены:
Aid- вторичные ссылки на Aldinae в других изданиях, напр. часто: Aid in marg. Aid - С. Crispi Sallustii de coniuratione Catilinae. Eiusdem de Bello Iugurthino. Eiusdem oratio contra M. T. Ciceronem. M. T. Ciceronis oratio contra C. Crispum Sallustium... Quae omnia solerti nuper cura repurgata sunt, ac quo quaeque ordine optime digesta. Venetiis in Aedibus Aldi, et Andreae Asulani soceri [1522]. Aid2 - C.Sallustii Crispi Coniuratio Catilinae, et Bellum Iugurthinum...Fragmenta Historiarum C.Sallustii Crispi ...ab Aldo Manutio, Pauli F. collecta... Antverpiae, 1564. Bas - C.Crispi Salustii et Latinorum historicorum praestantissimi Opera, quae quidem exstant, omnia. Basileae, per Henricum Petri, 1564. Cortius - Caii Crispi Sallustii quae exstant item Epistolae de Republica ordinanda, declamatio in Ciceronem et Pseudociceronis in Sallustium... recensuit diligentissime et adnotationibus illustravit Gottlieb Cortius. Lipsiae [1724]. Crisp - С. Sallustii Crispi quae exstant. In usum serenissimi Galliarum Crispini, diligenter recensuit, notulas addidit Daniel Crispinus. Parisiis, apud Fredericum Leonard Typographum Regis, Serenissimi Delphini, et Cleri Gallicani. MDCLXXIV. Cum privilegio Regis [1674]. Grut - C.Crispi Sallustii opera omnia quae exstant ex recognitione Iani Gruteri accedunt. Francofurti. E Collegio Paltheniano, Sumptibus Ionae Rhodii MDCVII. [1607] Inc - omnium incunabulorum consensus Lugd - C. Crispi Sallustii de L. Sergii Catilinae coniuratione, ac Bello lugurthino historiae; eiusdem in M. T. Ciceronem M. T. Cic. in Sallustium Recriminatio... Apud Seb. Gryphium, Lugduni, 1551. Rom - С Crispi Sallustii Opera Quae exstant. Superiorum permissu. Romae. Ex officina Sforziniana, et Pippia MDCIX. Apud Iacobum Mascardum [1609]. Ven - C. Salustii Crispi de coniuratione Catilinae, et de bello lugurthino Historiae. In M. Tullium Ciceronem oratio, M. Tullii Ciceronis ad Salustium responsio...Venetiis, Apud Ioannem Mariam Bonellum M.D.LV. [1555]. Первое издание инвектив, по мнению Рейнолдса1, появилось в Кельне в 1471 г.2 Рейнолдс на него ссылается и в своем издании. Так, в кельнском издании предложены конъектуры, принятые Рейнолдсом в текст: S III 6 parasti]3 paraveris L ed. princ. Reynolds: parasses V S IV 24 habes ed. princ. AldGrut] habens lucJLugdBas Среди инкуиабулов в библиотеках Италии (IGI) зарегистрировано венецианское издание, содержащее инвективы Саллюстия4, того же года, что и кельнское издание. 1471 г. оно датировано и в местном каталоге Библиотеки Св. Марка в Венеции. Трудно сказать, какое из двух изданий - кельнское или венецианское - может считаться editio princeps. Любопытно, что в итальянском каталоге инкунабулов, кельнское издание датируется 1472 г.5 Если эта гипотеза верна, то, соответственно, получается, что венецианское становится editio princeps. Справедливо лишь то, что кельнское издание - первое издание самостоятельного текста инвектив, т. е. инвектив вне саллюстиевского корпуса, в то время как в венецианском издании обе инвективы переданы с остальным саллюстиевским корпусом, как в рукописной традиции. В дальнейшем текст инвектив в изданиях передается, в основном, так же, как и в рукописной традиции, т. е. либо с произведениями Саллюстия (в большинстве случаев), либо с речами Цицерона (несколько изданий). Однако, даже если издание содержит все произведения Саллюстия, довольно часто присутствуют речи Цицерона против Каталины, якобы ответная речь Катилины против Цицерона, речь Порция Латрона против Катилины. Часто тексту Саллюстия предшествует его биография, так называемая vita Sallustii. Следующее издание инвектив выходит снова в Венеции в 1474 г., в Милане в 1476 г. В венецианских изданиях8 1478 г. и 1490 г. к саллюстиевскому корпусу добавлены эпиграммы Марциала. С 1491 г. к саллюстиевскому корпусу в некоторых изданиях инвектив9 добавлено письмо Помпония Лета к Августину Матфею. Инкунабулы передают один и тот же текст, без существенных изменений. Предположительно можно восстановить, какими рукописями пользовались издатели. Некоторые правильные чтения совпадают с правильными чтениями рукописей семьи а: S II 1 tua ac (aut ВХ) dicta allnc] ас (an Е) dicta tua $BasGrut: facta tua ac dicta tua N С II 14 breve ut oc/wc] ut breve ф: breve y: brevem H Кроме того, инкунабулы имеют две общие с рукописями семьи а перестановки: S II 13 haec cum Р] cum haec ocHb/«c: haec от., s.l. R S II 14 se cicero dicit P] cicero se dicit cdncAldLugdBasGrut: se cicero dicit I В инкунабулах содержится один общий с рукописями семьи ос эллипс: S I 11-12 et sceleratissimo] от. aRInc: et celeratissimo E: et sceratissimo О Один раз выбрано правильное чтение семьи Р: S I 13 iudicia р/яс] audacia a: ac iudicia N Имеется одна общая с рукописями семьи р интерполяция: С II 25 illis a] illis viris IncAldLugdBasGrutRom Таким образом, издатели пользовались поздними контаминированными рукописями, берущими большую часть чтений из рукописей семьи а. Издание Альда Мануция (1449-1515) вышло в свет в 1509 г.10 Оно не отмечено никакими принципиально новыми чтениями или конъектурами. Издатель пользовался одной или несколькими контаминированными поздними рукописями.
Субархетип 8 (RE+Z, НОРМ, Мр)
В работе исследована история текста саллюстиевских инвектив. Она представлена, во-первых, на материале рукописной традиции, с привлечением к реконструкции текста новых средневековых рукописей, а также колляций этих и прежде известных рукописей, которые, хотя считались изученными, однако в прежних аппаратах содержали изрядное число ошибок в колляций. Второй аспект истории текста инвектив - история печатных изданий с инкунабул до последнего современного издания.
Первая задача диссертации - подробное изучение рукописной традиции и традиции изданий инвектив Саллюстия. Для этого впервые собран полный список рукописей и изданий, содержащих инвективы, и произведена колляция всех средневековых списков и ранних изданий. Еще раз следует подчеркнуть, что важным сопутствующим обстоятельством была возможность работать по большей части с оригиналами рукописей и изданий в библиотеках.
На основе колляций рукописей и изданий выполнена вторая задача работы -составление нового критического издания текста с новым переводом. Естественно, при этом учитывались все предыдущие критические издания1.
Кроме того, одной из задач исследования автор считает создание новой теоретической и прикладной методологической модели для исследователей античных текстов. Результаты такого исследования могут быть полезны как для составления общих курсов по текстологии и критике текста, так и для практических занятий с привлечением фотокопий рукописей и материалов, представленных в приложении 3.
Во введении изложены основные методологические принципы текстологического анализа, критики текста и техники изданий. В нем также дается краткий анализ современного положения текстологии в отечественной и зарубежной науке.
Первая глава диссертации посвящена содержательной стороне инвектив и вопросу атрибуции. С опорой на авторитет Квинтилиана2 вполне определенно установилась античная традиция атрибуировать инвективу против Цицерона Саллюстию. Относительно же ответной инвективы против Саллюстия, кажется, не было никаких сомнений уже в античности. Условно текст передавался с саллюстиевским корпусом и именовался «инвективой Цицерона против Саллюстия». В 1537 г. итальянский гуманист Себастьяно Коррадо впервые ставит вопрос об авторстве инвектив и отрицает их принадлежность Саллюстию и Цицерону.
В свете описанной далее дискуссии по вопросу авторства, длившейся более четырехсот лет, не подлежит сомнению тот факт, что обе инвективы принадлежат некому молодому декламатору эпохи Августа, а текст действительно был риторическим упражнением, одним из многих, и сохранился лишь благодаря тому обстоятельству, что передавался с корпусом саллюстиевских и цицероновских произведений. В античных риторских школах часто давали задачи составить речь или сочинение в эпистолярной форме от лица кого-то из известных ораторов. Атрибуировать эти безымянные упражнения какому-нибудь ритору невозможно, но их следует относить к целому направлению античного преподавания.
Центральной частью исследования является вторая глава диссертации, рассматривающая историю текста саллюстиевских инвектив на материале колляций средневековых рукописей (X - нач. XIV вв.). Собрав полный список рукописей, содержащих саллюстиевские инвективы, мы получили некое новое представление об истории текста инвектив. Нами найдено 212 рукописей, содержащих инвективы. Была произведена колляция 233 средневековых рукописей, которая позволяет подтвердить составленную Рейнолдсом стемму, хотя приходится внести в нее многочисленные корректуры. Издатели XVI-XIX вв. пользовались плохими, как отмечает Йордан, рукописями, т. е. контаминированными и исправленными. Конъектуры поздних переписчиков так же мешают исследователю восстановить архетип, как и бездумные ошибки средневековых писцов. Все эти соображения и привели к тому, что подробно рассмотрены, главным образом, все средневековые списки, на основании которых и построена стемма. Последовательно разбираются ошибки «сверху вниз», т. е. архетипа со, субархетипов ос и В, субархетипов я, ф, ф, у, х, 8, С и е. Далее следует анализ каждой рукописи отдельно на материале произведенных колляций и взаимосвязь этих рукописей с архетипом и субархетипами. Метод разбора соответствует лахмановской системе, т. е. последовательно разбираются сначала общие правильные чтения вопреки остальной традиции, а затем общие ошибки рукописей, в число которых входят, главным образом, эллипсы, перестановки, интерполяции и конъектуры. Наконец, в конце каждой группы рукописей и рукописи отдельно приводятся общие описки, т. е. ошибки, случайно возникшие по разным причинам. Такие общие описки имеют особое значение для больших групп рукописей и древнейших субархетипов. Традиция текста в средневековье разделяет текст на две ветви (семьи а и В), при этом вторая (В) существенно объемнее, чем первая (а). К семье а принадлежат 8 рукописей, в то время как к семье В - 15. Разделение отдельных рукописей на субархетипы внутри семьи а представляется более или менее ясным, ибо все рукописи, кроме В, X и N - с некоторыми погрешностями, - верно передают текст. Семью а представляют два субархетипа - субахетип я и субархетип ф.
Взаимосвязи рукописей внутри семьи В оказываются менее понятными, частично по причине контаминации, частично по причине произвольного изменения текста в некоторых рукописях. Приведенные правильные чтения (с. ооо) в рукописях ЕМ или в аЕМ отчетливо показывают, что архетип В принимал в текст многочисленные варианты. Семью В представляют также два субархетипа -субахетип ф и субархетип у.
Сложную структуру имеет субархетип у. Он состоит из простого субархетипа х, представленного четырьмя рукописями, и составного субархетипа 8, представленного субархетипами и є и рукописью Мр.