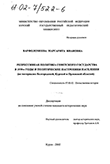Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. ВЛАСТЬ И КРЕСТЬЯНСТВО: ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 42
1. Восприятие крестьянством политической пропаганды в эпоху «Великого перелома» 46
2. Восприятие крестьянством политической пропаганды в условиях сталинского « НЕОНЭПА» 77
3. Восприятие крестьянством политической пропаганды в 1937 году 91
ГЛАВА II. ОБРАЗЫ ВЛАСТИ: ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 112
1. Представления о советских политических лидерах 119
2. Представления о местной власти 143
3. Представления о коммунистической партии 169
ГЛАВА III. ЭВОЛЮЦИЯ КРЕСТЬЯНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 185
1 . Социальная идентичность 192
2. Политическая идентичность 215
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 229
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 233
ПРИЛОЖЕНИЕ 249
- Восприятие крестьянством политической пропаганды в эпоху «Великого перелома»
- Представления о советских политических лидерах
- . Социальная идентичность
Введение к работе
Сегодня российская историческая паука остро нуждается в преодолении терминологических границ, отделяющих ее от опыта зарубежной историографии. Зіа задача вполне осознана в практике крестьяноведческих исследований. В частности, подводя в 2003 году итоги исследований по аграрной тематике, росстійский историк Д. И. Люкшин писал: «Развитие дискурса отечественной аграрной истории сдерживается не столько нежеланием авторов обрести истину сколько сложностями, возникающими в процессе ментального освоения членами научного сообщества основных категорий и традиции антропологических исследований»1. Политическое сознание также является одним из тех понятий для которого в отечественной и мировой пауке сложились различные трактовки. В зарубежной историографии под влиянием, прежде всего исследований школы анналов, этот термин понимается преимущественно, как отражение политических реалий мира в умах людей. В этом контексте политическое сознание, являющееся частью общественного сознания, присуще любому дееспособному индивиду и человеческой общности. Такой подход значительно отличается от наиболее распространенной в отечественной литературе трактовки политического сознания как некого качественного уровня осознания людьми политической действительности, отличавшего носителей политического сознания от «примитивных» и «неразвитых» масс. Последнее понимание своей основой имеет марксистскую историографическую традицию, для которой было характерным изучение процесса роста различных проявлений сознательности и поиск критических точек перехода от более низших форм общественного сознания к боле высшим (что в свою очередь являлось индикатором готовности общества к революционной борьбе). В данном случае, однако, происходит подмена аналитических категорий, и мы имеем дело не с сознанием как таковым, а с сознательностью (т.е. не нейтральным аналитическим понятием, а категорией, имеющей морально-оценочную нагрузку). В настоящем исследовании мы склонны понимать политическое сознание в первом ключе,
Люкшин Д Крестьяноведсние в исследовательском поле аграрной истории // Исторические исследования в России II Семь лет спустя. М., 2003. С. 269 полагая, что крестьянин обладал таковым вне зависимости от его способности понять и осмыслить всю закономерность и необратимость «Великого Октября». Изучение политического сознания крестьянства Русского Севера в таком контексте будет, по нашему мнению, способствовать преодолению терминологических границ разделяющих отечественную и зарубежную историографию вопроса, интеграции различных интеллектуальных полей, творческому взаимодействию и взаимному идейному обогащению представителей научного сообщества.
Другим немаловажным поводом обращения к теме политического сознания может служить современное состояние историографии по проблеме природы советского политического режима. К настоящему времени в российской исторической науке в ходе длительных и во многом политизированных дебатов сложились два полярных блока оценок природы политического режима в Советском Союзе 1930-х годов. В рамках одной из этих трактовок акцент эпистемологических усилий исследователей делается на изучении сталинского государства, в другой из них - на изучении советского общества. При этом в обоих случаях за пределами основной проблематики остается изучение личности в условиях сталинизма. Игнорирование субъективного фактора советской истории не вполне правомерно, поскольку «среднестатистический» индивид является таким же участником политической жизни социума, как государство или общественные организации. Именно поэтому изучение реакции «маленького человека» на явления «большой» политики, его мыслей и чувств должно быть поставлено в число наиболее приоритетных задач в изучении сталинизма. Эта задача особенно важна в связи со значительным интересом современного российского общества к советскому периоду истории.
Важное значение имеет и изучение политической культуры крестьянства в сталинский период. Сегодня остро ощущается дисбаланс исследовательского внимания, сложившийся в последние два десятилетия в изучении социокультурных сюжетов истории российского крестьянства. В ряде фундаментальных исследований были рассмотрены социокультурный облик российского села, особенности крестьянских движений, культурный код поведения крестьянства, его политические представления в годы русских революций и Гражданской войны. Исследований, посвященных этим сюжетам применительно к периоду колхозной деревни значительно меньше. Подобная ситуация не вполне понятна, поскольку, вопрос - о том революция 1917 года или крестьянская война принесли больше изменений в жизнь российского села - не лишен смысла. Тем не менее, еще с советских времен социокультурные аспекты истории советского крестьянства были отданы в руки писателей-деревенщиков (таких как В. Белов, Ф. Абрамов и др.), многие из которых вплоть до сего дня пытаются излить свою неизбывную грусть по поводу исчезнувшей российской деревни. Не отрицая важности подобного красочного образа российской деревни, тем не менее, все же следует признать, что «ностальгический дискурс» не всегда соответствует задачам научного осмысления истории российского крестьянства. Эта задача в большей степени соответствует профессии историка, нежели художника.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают процессы социокультурной трансформации российского крестьянства (основной социальной категории населения СССР) в 1930-е годы. Предметом изучения являются механизмы рецепции, политические представления, социальная и политическая идентичность крестьянства Русского Севера.
Цель и задачи работы. Основной целью является изучение политического сознания 1930-х годов (на примере крестьянства Севера России) в контексте эволюции советского политического режима. Достижению этой цели в рамках диссертационного исследования способствует решение трех задач. Автор предполагает: - рассмотреть основные типы реакции крестьянства на манипулятивное воздействие власти, исследовать механизмы восприятия северным крестьянством советской политической пропаганды и, как следствие этого, процессы трансформации повседневных норм крестьянского языка и поведения; изучить характер и основные модели репрезентации власти крестьянством, рассмотреть представления крестьян об отдельных институтах власти и ее представителях, проанализировать язык описания этих политических институтов крестьянами; - рассмотреть систему социально-политических ценностері и типы социальной и политической идентичности северного крестьянства, определить степень их влияния на политическое мышление крестьянства и формирование моделей его политического поведения. Решению каждой из названных задач посвящена отдельная глава диссертации.
Территориальные и хронологические рамки. Поскольку рассмотреть все эти сюжеты на территории всего Советского Союза не представляется возможным, в качестве территориальных границ исследования был избран Русский Север -устойчивый этнокультурный регион, сложившийся в результате многовековой хозяйственной и культурной колонизации русскими окраинных территорий Восточно-Европейской равнины и ассимиляции ими коренного населения, общность и своеобразие исторических судеб которого было обосновано в трудах крупнейших отечественных ученых2. В исследуемый период его границы близки к административным границам Северного края, который существовал как отдельное административно-территориальное образование с 1929 по 1937 год. В 1937 году он был сначала преобразован в Северную область; В ходе преобразования из административного подчинения краю была выведена Коми область, на основе которой была создана Коми АССР. Затем в сентябре 1937 Северная область была разделена на Архангельскую и Вологодскую области. Территориально в нашей работе будут рассмотрены лишь русские районы Северного края. Мы принципиально не рассматриваем эволюцию политического сознания населения Коми области, поскольку оно значительно отличалось по своему национальному составу (к началу 1930-х гг. более 90 % населения составляли коми зыряне) и другим социокультурным характеристикам.
Выбор хронологических рамок обусловлен двумя важными для. жизни Советского Союза событиями. Нижняя хронологическая граница исследования 2Лихачев Д., Янин В. Русский Север как памятник отечественной и мировой культуры // Коммунист. 1986. № I; Колесников П. А. Вклад Русского Севера в материальную и духовную культуру России // Холодный дом России. Документы, исследования, размышления о региональных приоритетах Европейского Севера. Архангельск, 1996; Куратов А. А. Архангельский Север: от истории к современности // Куратов А. А. Археология и история Архангельского Севера. Архангельск, 2006. связана с началом сплошной коллективизации российской деревни, повлекшей за собой коренное изменение социальной структуры, форм хозяйствования, общественных отношений в деревне. Верхняя хронологическая граница обусловлена изменением содержания и формы идеологического воздействия власти на крестьянство накануне Великой Отечественной войны. Эти события не могли не отразиться как на судьбах российской деревни в целом, так и в умах миллионов крестьян.
Методологическая основа исследования. В основе настоящего исследования лежит историко-системный поход. Политическое сознание в диссертации рассматривается как комплекс политических представлений, ценностей, стереотипов, влиявших на социальное поведение крестьянства. В свою очередь в данном исследовании он рассматривается в контексте более глобальной системы политического режима в Советском Союзе. Для решения частных вопросов были использованы историко-функциональный, историко-генетический, историко-сравнительный методы, метод контент-анализа. Автор стремился учесть современные достижения отечественных исследователей исторической психологии (В. П. Булдаков, С. В. Яров и др.) и зарубежных историков «школы советской субъективности» (С. Коткин, И. Халфин и др.)-
Историография.
Политическое сознание советского крестьянства 1930-х годов, вплоть до сегодняшнего дня, продолжает оставаться в числе малоизученных сюжетов в отечественной и зарубежной историографии. К настоящему времени мы можем отметить наличие немногочисленных работ, посвященных политическому поведению крестьянства, его реакции на действия власти, лишь фрагментарно характеризующих ментальные образы и представления присущие советским крестьянам. Собственно говоря, восполнить эту историографическую лакуну и призвана настоящая работа. Однако обращение к названной теме предполагает знакомство с тремя значительными комплексами литературы. Это, во-первых, историография политического режима в Советском Союзе 1930-х годов (что соответствует объекту нашего исследования); во-вторых, литература по истории советского крестьянства (необходима для понимания специфики предмета); и, в-третьих, исторические работы в области изучения социальной психологии советского общества (имеют инструментальное значение). В настоящем обзоре рассмотрена эволюция историографии по трем отмеченным выше линиям. Дискуссионные вопросы, имеющие непосредственное отношение к исследуемым в диссертации сюжетам, изложены автором во вступительных разделах к каждой из глав.
Историография политического режима в СССР 1930-х годов. Вплоть до начала 1990-х годов научное изучение этих вопросов оставалось исключительно прерогативой зарубежных историков. Книги отечественных авторов, посвященные политической жизни в СССР, в силу их концептуальной и идеологической заданности предлагали своему читателю не более чем набор догматизированных аксиом (о строительстве социализма, росте демократии, международной пролетарской солидарности, творческой активности и самодеятельности народных масс, руководящей роли коммунистической партии и неизбежном построении коммунизма), имеющих мало общего с исторической1, реальностью 1930-х годов.3 Хотя зарубежная историография этой темы также не была лишена политического подтекста, она была всё же более заинтересована в более объективном объяснении процессов политической жизни СССР. И главное для зарубежной советологии были характерены широкий разброс мнений и жаркие дебаты по поводу советской действительности, что, во-первых, придало изучению научный характер, а во-вторых, сформировало круг проблемных вопросов вокруг темы политического режима в Советском Союзе. Наличие многочисленных, весьма содержательных историографических работ, специально посвященных как ходу этих дискуссий, так и отдельным направлениям в 3 Лепешкин А.И. Советы - власть трудящихся. 1917- 1937 гг. М., 1966; Озеров Л.С. Строительство социализма в СССР и международная пролетарская солидарность (1921- 1937 гг.) М., 1972; Берхин И.Б. Создание развитого социалистического общества М., 1975. Внося мало чего интересного в изучение собственно истории 1930-х годов, эти работы вместе с тем представляют весьма рельефный отпечаток духа политической жизни брежневской эпохи. зарубежной исторической литературе4, позволяет нам здесь остановиться лишь на нескольких принципиальных моментах, повлиявших на развитие историографии.
Общеизвестно, что первой концептуальной моделью осмысления советского прошлого в послевоенной советологии стала так называемая тоталитарная парадигма, заложенная историческими исследованиями М. Файнсода и Л. Шапиро и более хорошо знакомая отечественному читателю по теоретическим обобщениям X. Арендт и 3. Бжезинского.5 Политический режим в Советском Союзе эти авторы характеризовали как тоталитарный,6 т.е. как общественный строй, где чрезмерно усилившееся государство определяет ход всех исторических изменений и стремится к тотальному контролю и господству над обществом. Средствами достижения этого, по мысли историков тоталитарной школы, служили массовый государственный террор, в результате которого происходило уничтожение внутренних связей в обществе, его огосударствление и монополизация информационного пространства единой государственной идеологией при помощи контроля над СМИ. Историкам этого направления было присуще также резкое противопоставление политических институтов СССР и стран Запада, как миров свободы и рабства, результатом чего была своеобразная «демонизация» советского политического режима в общественном мнении. Г-
Дальнейшее развитие зарубежной историографии по этой теме связано с чередой концептуальных переоценок тех или иных сторон жизни СССР. По мнению известнейшего американского историка и политолога М. Малий можно выделить четыре таких «ревизии» тоталитарной модели, каждая из которых 4 Игрицкий Ю.И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на-Западе // История СССР. 1990. №6; Павлова И.В. Современные западные историки о сталинской России 30-х гг. (критика ревизионистского подхода) // Отечественная история. 1998. № 5; Малия М. Из под глыб, но что? Очерк истории западной советологии // Отечественная история. 1997. №5; Он же. Советская история // Отечественная история. 1999. №3; Кодин Е.В. Смоленский архив и американская советология. Смоленск, 1998; Он же. Американская послевоенная советология (методология и источниковая база). Дисс. докт. ист. наук. М. 1998. 5 Файнсод М. Смоленск под властью советов. Смоленск, 1995; Арендт X. Истоки тоталитаризма М., 1996. 6 Важно подчеркнуть, что они были отнюдь не первыми, кто использовал эпитет тоталитарный применительно к сталинской России. Первые его использования в данном контексте относятся к 1936 - 1937 годам. Может показаться странным, но в отношении СССР прилагательное тоталитарный было применено примерно в одно и то же время двумя русскими эмигрантами, приверженцами совершенно различных идейных течений, вне всякой зависимости от работ друг друга (См.: Троцкий Л.Д. Преданная революция. М., 1991; Федотов Г.П. Письма о русской культуре // Мыслители русского зарубежья. Бердяев. Федотов. СПб., 1992. С. 398). концентрировалась вокруг какого-то одного из периодов советской истории.7Переосмыслению истории 1930-х годов посвящены две из этих ревизий. Первая из них относится к периоду коллективизации и связана прежде всего с именем Ш. Фицпатрик, предложившей рассматривать 1928 - 1932 годы в советской истории сквозь призму предложенной ею концепции «культурной революции»8. В своей работе американская исследовательница попыталась рассмотреть функционирование советского режима с точки зрения изменений, происходяих в обществе. Аналитическим инструментом для Ш. Фицпатрик в данном случае послужила теория социальной мобильности. По её мнению, те динамические изменения, которые пережил Советский Союз на рубеже 1920-х - 1930-х годов, были обусловлены появлением за предшествующее этому десятилетие новой политической элиты, ставшей впоследствии верной опорой сталинского политического режима. Драматизм периода «культурной революции» был, по её мысли, обусловлен тем, что именно в это время повзрослевшие управленцы и инженеры - представители новой элиты - вступили в борьбу за своё место «под солнцем», в результате чего на какое-то время процессы вертикальной мобильности возобладали над процессами горизонтальной мобильности. Таким образом, коллективизация, индустриализация и начало сталинских репрессий объяснялись автором при помощи анализа социальных процессов. Другая ревизия тоталитарной модели была вызвана появлением книги Дж. А. Гетти «Происхождение великих чисток», посвященной причинам большого террора 1937- 1938 годов.9 В своей книге американский историк противопоставил почти всем идеям тоталитарной историографии противоположные оценки. Сталинские репрессии 1937- 1938 годов он объяснил борьбой между центральной и региональными элитами внутри коммунистической партии, а их размах и масштабность несовершенством государственного механизма в СССР. Вслед за книгой Гетти последовала целая серия ревизионистских работ, в которых реальные практики функционирования советского партийно-государственного аппарата сравнивались с некой идеальной моделью властвования. В результате 7 Мапия М. Из-под глыб, но что? Очерк истории западной советологии // Отечественная история. 1999. № 3. 8 Fitzpatrick S. Cultural Revolution in Russia 1928- 1932 II Journal of Contemporary History. Vol. 9. № 1 (Jan. 1974). P. 33 - 52. Недавняя попытка авторской рефлексии над этой концепцией (Fitzpatrick S. Cultural Revolution Revisited// Russian Reviev. Vol. 58. №2. (Apr., 1999)) скорее свидетельствует о сохранении приверженности автора своим прежним идеям. 9 Getty J. A. Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered 1933 - 1938. Cambridge, 1985. реалрізации данной аналитической модели ревизионисты пришли к нетривиальным заключениям о тол г, что в советской системе управления царил хаос, а власть в СССР была слабой. К концу 1980-х годов ревизионизм был представлен целой когортой исследователей - Ш. Фицпатрик, Дж. А. Гетти, Г. Риттерспорном, Р. Маннинг, Л. Виолой, X. Куромией и др. Несмотря на различие в тематике работ, их сближал общий интерес к социальной истории как ключу советского прошлого и неприятие оценок представителей тоталитарной школы. Свидетельством последнего может служить тісториографическая «баталия», которую дали ревизионисты своим идейным противникам на страницах журнала «Russian Review» в 1986-1987 годах.10
Подобная идейная и внутрикорпоративная поляризованность сохранялась в западном (прежде всего американском) научном сообществе вплоть до середины 1990-х годов. Каждая из сторон, отстаивая собственное видение советской истории, не прислушивалась к аргументам своих оппонентов. Пожалуй, первым, кому удалось выйти из тисков тоталитарно-ревизионной историографической дилеммы, был С. Коткин. Его книга «Магнитная гора. Сталинизм как цивилизация», посвященная истории Магнитогорска 1930-х годов, стала платформой для формирования нового исторического направления в изучении истории СССР.11 Расставляя эпистемологические акценты своего исследования, он писал во введении своей книги: «Взгляд, сосредоточенный на Магнитогорске, демонстрирует то, что отличительные особенности сталинизма лежат не в конструировании мамонта-государства посредством разрушения общества, а в создании вместе с таким государством нового общества, проявляющегося в отношениях собственности, социальной структуре, организации экономики, политической практике и языке»12. В такой логике снимались казалось бы непреодолимые противоречия тоталитарно - ревизионистских дебатов. Государство, по Коткину, создавало условия для формирования согласия 10 Russian Review. Vol. 45. №4 (Oct 1986); Russian Review. Vol. 46. №4 (Oct. 1987). "Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkley, 1995. Похоже, что книга смогла удовлетворить обе враждующие стороны. В частности, один из наиболее авторитетных и последовательных сторонников «тоталитарного» подхода М. Малиа следующим образом отзывался об этой книге: «на уровне глубокого синтеза Стивен Коткин показал, как крестьяне-рабочие, сформированные «сталинской цивилизацией 30-х гг., действительно «заговорили по большевистски» (Малиа М. Советская история // Отечественная история. 1999. № 3. С. 139). С другой стороны, Ш. Фицпатрик в недавнем историографическом обзоре поставила книгу С. Коткина в один ряд со своей монографией «Повседневный сталинизм» (Fitzpatrick S. Cultural Revolution Revisited II Russian Review, vol. 58. № 2 (Apr., 1999). P. 206. 12 Kotkin S. Magnetic Mountain... P.2. общества (даже если такое согласие было вынужденным) по отношению к своей политике, положительной интеграции индивида в механизмы своего властвования. Жители Советского Союза, вынужденно или добровольно принимая эти условия, начинали сотрудничать с режимом, идентифицировать себя с теми или иными его аспектами, в конечном итоге становились его неотделимой частью, воплощая политику государства в своей повседневной жизни. Старый советский лозунг: «государство - это мы», по сути, стал idee-fix, концептуальной и методологической предпосылкой работ Коткина.13 Настоящая концептуальная рамка, как кажется, определила и приоритетный круг научных вопросов, па решении которых концентрируются Коткин и его последователи. (И. Халфин, Й. Хэллбек, М. Стейнберг)14. Этих авторов прежде всего, интересуют во-первых, механизмы коммуникации индивида и власти в сталинской России, и, во вторых, мир «субъективных значений» простого советского человека. Вследствие этого данное течение получило уже ставшее устойчивым в историографии определение школы «советской субъективности». Помимо отмеченного концептуального единства, этих авторов также отличает значительное внимание к языку, как инструменту для познания реалий изучаемой эпохи.
Отечественные специалисты, получив в 1990-е годы возможность свободно высказывать свои суждения, в вопросе о характере политического режима в СССР' прошли путь, сходный с зарубежной историографией. В 1990-е гг. в отечественной науке также сложились два направления, полярные по своим оценкам реалий советской истории, подобные западным тоталитаристам и ревизионистам. На рубеже 1990-х - 2000-х годов между их представителями велась полемика в отечественных научных журналах15, при этом выдвигаемые и теми и 13 Коткин С. Государство - это мы? Мемуары, архивы и кремленологи // Смена парадигм: современная русистика. (Нестор 2007. №11). СПб., 2007. 4Халфин И. Из тьмы к свету: коммунистическая автобиография 1920-х годов // Там же с. 216 — 247; Halfin I. The Rape of the intelligentsia: A Proletarian Foundational Myth// Russian Review. Vol. 56. № 1 (Jan, 1997). P 90 -109; Hellbeck J. Working, Struggling, Becoming: Stalin - Era Autobiographical Texts II Russian Review. Vol. 60. .№ 3 (Jul, 2001). P. 340-359; Steinberg M.D. Stories and voices: History and Theory II Russian Review. Vol. 55. № 3 (Jul, 1996). P. 347 - 354; Halfin I. Looking in to the Oppositionists Souls: Inquisition Communist Style II Russian Review. Vol. 60. № 3 (Jul, 2001). P. 316 - 339. Halfin I. Between Instinct and Mind: The Bolshevik View of the Proletarian Self// Slavic Review. Vol. 62. № 1 (Spring, 2003) P. 34-40. 15 Павлова И.В. Современные западные историки о сталинской России 30-х годов (критика ревизионистского подхода) // Отечественная история. 1998. № 5; Игрицкий Ю.И. Еще раз по поводу «социальной истории» и «ревизионизма» в изучении сталинской России // Отечественная история. 1999. № 3; Олегина И.Н. Будем уходить от схематизма // Там же; Щербань Н.В. Наука или политическая конъюнктура // Там же; Соколов А.К. Спасибо за науку // Там же; Советское прошлое: поиски понимания // Отечественная история, 2000. № 4, 5; Павлова И.В. Власть и общество в 1930-е годы // Вопросы истории, другими историками аргументы нередко заимствовались из работ своих зарубежных предшественников. Из достаточно большого спектра литературы, посвященной истории 1930-х годов, тоталитарные и ревизионистские идеи, пожалуй, наиболее ясно кристаллизовались, соответственно, в монографии новосибирской исследовательницы И. В. Павловой16 и курсе лекций московского историка А. К. Соколова17.
И. В. Павлова в своем анализе исходит из мысли о том, что для России, в отличие от стран Западной Европы, характерна «особая социокультурная роль власти». В результате в России основным инициатором всех масштабных исторических изменений выступает государство. 1920-е годы, по ее мысли, стали временем, когда сложился особый тип властвования - тоталитарное государство, основным способом действия которого выступали репрессии и нагнетание страха. Террор, по мнению И. В. Павловой, служил цели сохранения личной власти политического руководства СССР и мобилизации людских ресурсов для обеспечения политических проектов власти. Это имело, как считает И. В. Павлова, крайне негативные последствия. Страна оказалась отброшена назад в' своем развитии чуть ли не в эпоху Ивана Грозного. Противоположные оценки представлены в «Курсе советской истории» А. К. Соколова. Уже на первых странницах своей работы он постулирует тезис, что «содержание (курса - Н. К.) лежит в русле социальной истории». По мнению автора, «сталинский» режим имел свои социальные подпорки и большинство людей были искренне преданы ему. А. К. Соколов вслед за западными ревизионистами доказывает слабость центральной власти в Советском Союзе, которая вынуждена была делегировать на места значительные полномочия. В наступившем в силу этого административном хаосе центральная власть оказалась не способной ни на что более, как слабо откликаться на различные движения внутри общества. Этими движениями автор объясняет и коллективизацию и репрессии 1930-х годов18. Однако же в целом, по
2001. № 10. ; Жуков Ю.Н. Репрессии и Конституция СССР 1936 г. // Вопросы истории. 2002. № 1; Павлова И В. 1937: выборы как мистификация, террор как реальность // Вопросы истории, 2003. № 10. 16 Павлова И.В. Механизмы власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск. 2001. 17 Соколов А.К. Курс советской истории. М. 1996. 18 В ходе обсуждения учебника А. К. Соколова на заседании круглого стола «Советское прошлое: поиски понимания» некоторые участники высказали автору упреки в том, что в его книге ретушируются репрессии (Советское прошлое: поиски понимания // Отечественная история. 2000. № 4). С этим замечанием можно согласиться. Автор не указывал числа жертв сталинских репрессий, отмечая лишь то, что на конец февраля 1938 года в тюрьмах содержалось 549 тыс. заключенных (Соколов А.К. Указ. соч. С. 228). Как хорошо мысли А. К. Соколова, сталинский режим соответствовал задачам модернизации страны и становления в России индустриального общества.
Дебаты отечественных тоталитаристов и приверженцев социальной истории безусловно оказали позитивное воздействие на развитие современной российской историографии, поскольку акцентировали внимание исследователей на изучении механизмов коммуникации между государством и обществом в Советском Союзе. Вместе с тем они значительно упрощают и сужают круг вопросов, задаваемых историком- прошлому, сводя историческое исследование к поиску аргументов для доказательства прогрессивности или регрессивности сталинизма. Сам по себе вопрос о том, что в прошлом было хорошо, а что плохо, по нашему мнению, глубоко внеисторичен поскольку уже априорно предполагает обращение историка не к анализу фактов и процессов, а к миру собственных субъективных оценок. К тому х<е в спорах представителей этих направлений всё более стало сказываться пренебрежительно-снисходительное' отношение к историческим источникам. Российских приверженцев тоталитарной модели, как и их зарубежных предшественников, отличает тяга к одергиванию покрывала исторической тайны и разгадыванию сталинских секретов. Так, одной из основных идей монографии И. В. Павловой стала мысль о законслирированности сталинской системы власти. Она пишет: «Механизм; сталинской власти в 30-е годы - способ принятия решений и передачи их из Центра на места - представлял собой настолько законспирированную систему, что она не оставила практически никаких следов».19 Если от предмета изучения не осталось никаких следов - возникает вопрос - на основе чего автор строит своё изучение? С другой стороны, А. К. Соколов безграничен в своем доверии к официальным советским источникам. Например, доказывая, что «содержание самой Конституции (имеется в виду Конституция СССР 1936 года - Н.К.) никак не соответствует тоталитарной модели», он писал: «По демократизму своего содержания Конституция 1936 года превосходила все созданные до этого известно, исправительно-трудовые лагеря, а не тюрьмы являлись в Советском Союзе основным местом заключения. 19 Павлова И.В. Механизмы сталинской власти ... С. 20. В другом месте своей книги И. В. Павлова пишет: «События 30-х гг. в России ещё долго будут вызывать споры и неоднозначную реакцию. В это десятилетие партийное государство, становление которого произошло в 20-е гг., настолько законспирировало свою деятельность, что до сих пор не только не удается подтвердить многие действия сталинской власти, но и понять их подлинный смысл» (Там же. С. 436). Следуя логике автора, получается, что для того что бы понять «подлинный смысл» событий вовсе необязательно подтверждать их документально. законодательные акты. В этом заключалась её сила воздействия на общество»20. Сам по себе этот факт неоспорим, но какое отношение он имеет к реальным политическим практикам сталинизма? У обоих авторов критический анализ источников становится словно бы излишним. В первом случае, поскольку документы бездоказательно лживы, во втором, потому что они безоговорочно верны и не требуют предварительной критики. Учитывая эти особенности современных тоталитаристко-ревизионистских дискуссий, их продолжение в заданных рамках представляется нам делом бессмысленным.
Историографическая ситуация в вопросе о политическом режиме в СССР такова, что требует от обратившихся к этой проблеме исследователей поиска новой методологической платформы.
Как нам представляется, выход из этого эпистемологического тупика возможен на основе обращения к изучению жизненного опыта «маленького человека» в условиях тоталитаризма21, то есть той аналитической модели, которую предложил С. Коткин в зарубежной историографии. В России подобные исследования ещё только начинают появляться. Из крупных работ сегодня мы можем отметить всего две книги. Во-первых, это монография политолога О. В. Хархордина, подготовленная им на основе своей PhD диссертации, выполненной в одном из ведущих на территории США постструктуралистских научных-центров - Университете Беркли22. В силу этого большое влияние на автора оказали работы М. Фуко, терминология и модели концептуализации этого философа. Личность в советском обществе в исследовании О. В. Хархордина изучается в её взаимодействии с коллективом через анализ практик обличения, товарищеского увещевания и отлучения. Сами по себе эти практики были насаждены советским режимом как инструмент взаимного (горизонтального) контроля и дисциплипирования общества, однако затем стали фактором 20 Соколов А.К. Курс советской истории. М. 1996 С. 225. 21 В вопросе о применимости термина «тоталитаризм» мы согласны с мнением Ю.И. Игрицкого, который на протяжении последних лет выступал беспристрастным арбитром в тоталитаристско-ревизионистских научных баталиях. В частности, он указывал на то, что популистски-критическое использование этого термина рядом российских и зарубежных авторов вовсе не отрицает его высокое познавательное значение (См. выступление Ю И. Игрицкого на заседании круглого стола «Советское прошлое: поиски понимания» (Отечественная история. 2000. № 4. С. 112), а также его статью «Снова о тоталитаризме» (Отечественная история. 1993. №1). Некоторые авторы как альтернативу «тоталитаризму» сегодня используют понятие «сталинизм». Однако последний термин, выводя всю объяснимую им реальность из одного единственного случая (СССР 1930-50-х годов), как и любая персонифицированно окрашенная дефиниция (например, цезаризм, бонапартизм, рейганомика и т.д.), не может претендовать на искомую научную универсальность. 22 Хархордин О.В. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб., М., 2002. индивидуализации личности. Проходя чистку в партии, составляя автобиографию или отчитываясь перед «коллективом товарищей» на «суде чести», т.е. становясь объектом действия, индивид невольно совершал рефлексию своей предшествующей деятельности. Б этих условиях происходило формирование его представпений о самом себе, что, в конечном итоге, по мысли О. В. Хархордина, и предопределило успех индивидуалистической психологии после падения Советского Союза. Другой работой, важной для понимания механизмов коммуникации индивида и власти в Советской России стала недавно изданная книга С. В. Ярова23. Несмотря на то обстоятельство, что книга основана, прежде всего, на богатом опыте отечественной исторической психологии, её проблематика почти идеально соотносится с основным вектором научных поисков школы «советской субъективности». В частности, для С. Коткина одной из центральных тем в работах является анализ того, как сталинский режим вовлекал индивида в свою деятельность, делал его субъектом своей политики. Такая реакция индивида, которую американский исследователь характеризует как «коллаборационизм», очень близка по своей сути к понятию конформизм, используемому СВ. Яровым, в качестве аналитического стержня своей книги. Собственно работа и посвящена формированию в рамках советского политического режима институциональных (система политического , просвещения, политизации языка и досуга) и логических (системы аргументации) условий, предопределивших, обращение индивида в «большевизм». Несмотря на появление этих, безусловно интересных работ, тема взаимодействия индивида и впасти всё ещё продолжает оставаться почти неизученной областью, обращение к которой, как думается, было бы весьма целесообразным и актуальным.
Историография истории советского крестьянства 1930-х годов. В современных исследованиях, как правило, выделяется три этапа в развитии отечественной историографии советского крестьянства: 1-й этап: 1930-е - 1950-е годы; 2-й этап: конец 1950-х - конец 1980-х; 3-й этап: конец 1980-х - до наших дней24. Хотя центральной проблемой крестьяноведческих исследований 23 Яров С. В. Конформизм в Советской России: Петроград 1917— 1920-х годов. СПб., 2006. 24 Безгин В.Б. Традиции и перемены в жизни российской деревни 1921 - 1928 годов, (по материалам губерний Центральної о Черноземья). Дисс. канд. ист. наук. Тамбов, 1998; Воронков Б.О. Восприятие применительно к 1930-м годам оставалась история коллективизации, однако оценки, методология н институциональные основы историографии на этих этапах значительно отличались.
Для работ по истории крестьянства на первом этапе была характерна значительная зависимость от официальной партийной литературы и «Краткого курса истории ВКП(б)»25. В этих работах коллективизация характеризовалась как «факт всемирно-исторического значения», второй после осуществления Великой Октябрьской социалистической революции. Только благодаря руководству коммунистической партии, вооруженной ленинским кооперативным планом (который был развит и доработан И. В. Сталиным), был осуществлен переход страны от мелкокрестьянского производства к крупному производству социалистического типа. Сопротивление крестьянства коллективизации в этой литературе характеризовалось как происки кулачества и «троцкистско-бухаринской агентуры». Немногочисленными были упоминания о «перегибах», которые оценивались как «искривления партийной линии». Коллективизация, по мнению этих авторов, стала предпосылкой построения социализма. Двадцатью годами позже крупнейший советский историк-аграрник В. П. Данилов, подводя итоги этого этапа в изучении крестьянства, очень жестко характеризовал работы 1940-х - начала 1950-х годов: «В известной степени они были обязаны своим появлением 20-летнему юбилею революционного переворота в жизни советского крестьянина. Их содержание сводилось к комментированию положений «Краткого курса истории ВКП(б)», к их подтверждению и иллюстрированию отдельными примерами».26 Важно также подчеркнуть, что авторы на этом этапе интересовались вопросами политики партии и советского государства, оставляя вне поля своего зрения социально-экономическое и социально-культурное развитие советской деревни.
Со второй половины 1950-х годов происходит стремительный взлет отечественного крестьяноведения. С этого времени изучение истории крестьянством Центрального Черноземья политики партийно-государственного руководства СССР во второй половине 1920-х - первой половине 1930-х годов. Дисс. канд. ист. наук. Воронеж, 2003. 25 Овсяников Г. Московские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 гг.). М., 1949; Смирнов Н.С. Борьба партии Ленина-Сталина за подготовку массового колхозного движения. М., 1952; Абрамов Б. Партия большевиков - организатор борьбы за ликвидацию кулачества как класса. М., 1952. 26 Данилов В.П. Основные итоги и направления изучения истории советского крестьянства. Доклад на сессии по проблеме «В.И. Ленин и решение аграрного вопроса в СССР». М., 1969. С. 62-63. крестьянства становится, пожалуй, одной из важнейших тем исследований по истории советского общества, а крупнейшим центром изучения этой проблематики Институт истории СССР Академии наук СССР. Огромную роль для внутрикорпоративного обмена опытом сыграло создание в 1958, Симпозиума по изучению аграрной истории Восточной Европы, который сохраняет статус авторитетнейшего крестьяноведческого форума по сей день. На этой институциональной основе выросло целое поколение отечественных историков-аграрников, среди которого были столь блистательные ученые как В. П. Данилов, Ю. А. Поляков, Ю. С. Кукушкин, И. Е. Зеленин, В. В. Кабанов, Н. А. Ивницкий, М. А. Вылцан, В. М. Селунская. Этот своеобразный расцвет отечественного кресгьяноведения имел в своей основе объективные предпосылки. Во-первых, обращение к ленинскому наследию, стремление уйти от идеологических доминант сталинского времени, были частью официальной идеологии политического курса Н. С. Хрущева. В этом контексте важным стало обращение к ленинскому кооперативному плану и истории его реализации в Советском Союзе (в частности, этому сюжету было посвящено объемное сочинение С. П. Трапезникова27). Во-вторых, безусловно стимулирующее воздействие на развитие кресгьяноведения оказывала и собственно активная аграрная политика Н. С. Хрущева. В-третьих, нужно учитывать, что свобода исследований всё "же оставалась весьма ограниченной. И в этом отношении история советского крестьянства для власти представлялась менее опасной, а следовательно, сулила большие возможности обьективного изучения, чем, например, занятия политической историей СССР. В частности, возможным стало обращение к методологии крестьяноведческих трудов экономистов-аграрников 1920-х годов (прежде всего А. В. Чаянова). Выполненные с учетом достижений этих авторов две монографии В. П. Данилова, посвященные изучению доколхозной деревни, являются образцовыми исследованиями, своего рода вершиной советской аграрной историографии28.
Несмотря на значительный количественный и качественный рост исследований по истории крестьянства, общая концепция и оценки развития 27 Трапезников СП. Ленинизм и аграрно-крестьянекий вопрос. Т. 1 - 2. М., 1967. 2S Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977; Он же.
Советская доколхозная деревня: социальная структура и социальные отношения. М., 1979. аграрных процессов, происходивших с Советском Союзе в 1930-е годы, в работах этого периода изменились не столь значительно. В трудах, посвященных непосредственно аграрной истории 1930-х годов, коллективизация, как и прежде, оценивалась как важнейший шаг на пути построения социализма в СССР.29 Разумеется, в таком контексте её осуществление признавалось неизбежным, а жесткая государственная политика по отношению к кулакам оправданной, ввиду их «непримиримого сопротивления». Тем не менее, определенные изменения в историографии присутствовали. Прежде всего, советскими историками-аграрниками был собран колоссальный эмпирический материал. Помимо этого, значительно расширилась проблематика крестьяноведческих исследований.30 На этом этапе в поле зрения историков, помимо исключительно социально-политических сюжетов, оказались вопросы о характере сельскохозяйственного производства колхозов, изменениях в социальной структуре советской деревни, организации управления в колхозах, быте и социальной психологии советского крестьянства. Литература по истории советской деревни пополнилась рядом региональных исследований.31 В редких случаях ответственность за «перегибы» переносилась с организаторов колхозов на местах на высшее руководство. Однако, безусловно, это были робкие попытки критики отдельных политических инициатив коммунистической партии и советского правительства. Действительно і коренной пересмотр оценок коллективизации стал возможен лишь с конца 1980-х годов.
Шаронов Г.В. Советское крестьянство за 50 лет. М., 1968; Ивницкий Н.А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1929 — 1932 гг.) М., 1972; Алексанов П.А. Борьба за социалистическое переустройство деревни (крестьянская взаимопомощь 1921-1932 гг.) М., 1971; Кукушкин Ю.С. Сельские советы и классовая борьба в деревне. М., 1968; Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. М., 1978; Он же. Советская деревня накануне Великой Отечественной войны. М.", 1970; Трапезников СП. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос. Т. 2. М., 1967; Селунская В.М. Борьба Коммунистической партии Советского Союза за социалистическое преобразование сельского хозяйства (октябрь 1917-1934 гг.). М., 1961. 30 Об этом можно судить, например на основе историографических работ В. П. Данилова, в которых он с завидной периодичностью подводил итоги изучения советского крестьянства. См.: Данилов В.П. Некоторые итоги научной сессии по истории советской деревни // Вопросы истории. 1962. №2; Он же Основные итоги и направления изучения истории советского крестьянства. Доклад на сессии по проблеме: В.И. Ленин и решение аграрного вопроса в СССР. М., 1969; Волков И.М., Данилов В.П., Шерстобитов В.П. Проблемы истории советского крестьянства// История СССР. 1977. №3. 31 См. например: Шарова П.Н. Социалистическое преобразование сельского хозяйства в Центрально- Черноземной области (1928 - 1937 гг.). Автореф. дисс. докт. ист. наук. М., 1968; Селезнев В.А., Гутаров А.Н. Начало массового колхозного движения на Северо - Западе РСФСР. 1930-1932 гг. Л., 1972; Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму (Социально - экономическое развитие сибирской деревни в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. 1926- 1937 гг.). Новосибирск, 1973; Каревскин Ф.А. Социалистическое преобразование сельского хозяйства Среднего Поволжья. Куйбышев, 1975 и др.
С этого времени значительно изменяются условия, в которых функционировала отечественная наука. Отмена цензуры позволила историкам-аграрникам отказаться от изначально заданной партийной концепции коллективизации, свободно высказывать свои собственные оценки. Помимо этого отечественные специалисты получили широкие возможности для знакомства с научным опытом зарубежного крестьяноведения. Этому в значительной мере способствовало издание в России составленной Т. Шаниным знаменитой антологии крестьяноведческой мысли32 и организация Т. Шаниным и Б. П. Даниловым при Московской высшей школе социальных и экономических наук Международного центра крестьяноведения и сельских реформ. Важную роль в методологическом просвещении российских историков сыграл также теоретический семинар: «Современные концепции аграрного развития», материалы заседаний которого регулярно публиковались на страницах журнала «Отечественная история».33 К тому же к началу 1990-х годов вполне очевидным для отечественных специалистов стало то явление, которое, выражаясь словами известного французского историка Роббера Мандра, можно охарактеризовать как «конец крестьянства». Многократно воспетая в произведениях советских «писателей-деревенщиков» ностальгия по ушедшей в прошлое российской деревне стала общим местом и в научных сочинениях, посвященных истории крестьянства. Отечественные историки серьезно задались вопросом: в чём причины безуспешности функционирования советского сельского хозяйства? Полученные ответы не столь значительно отличались друг от друга. Хотя одни авторы на рубеже 1980-х - 1990-х годов показывали, что основная причина аграрной катастрофы состояла в том, что Сталин игнорировал мнение крупнейших в стране специалистов - аграрников (А.В. Чаянова и др.)34, а другие утверждали, что причина бед в забвении собственнического духа крестьян35, практически все сходились во мнении о непродуманном вмешательстве государства в экономическую жизнь советской деревни как источникаепоследующего кризиса колхозного строя и советской экономики в j2 Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. М., 1992. "" См.: Современные концепции аграрного развития // Отечественная история. 1992. №5; 1993. №2, 6; 1994. №2;4-5;6; 1995.№3,4,6; 1996.№4; 1997.№2; 1998. № 1,6. ^4 Тепцов Н.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20 - 30-х годов. М., 1990. 0 Рогалина Н.Л. Коллективизация: уроки пройденного пути. М., 1989. целом. Тон дискуссиям задавал В. П. Данилов, полагавший, что осуществление коллективизации было обусловлено внутрипартийной борьбой в ВКП(б) и дальнейшее развитие СССР могло быть инвариантным36. В исследованиях 1990-х годов, посвященных непосредственно процессу коллективизации в СССР, резко изменились оценки государе гвенного вмешательства в жизнь деревни37. В этих работах коллективизация была признана «антикрестьянской политикой», методы её проведения «чрезмерно жестокими», государственные программы и планы «авантюристическими», сталинское законодательство «драконовским». Результатом коллективизации, по мнению этих авторов, стало начало кризиса зернового производства в СССР. Специального рассмотрения удостоились другие аспекты взаимодействия власти и крестьянства в 1930-е годы: репрессивная политика38, введение паспортной системы,39 налоги и повинности крестьянства40, голод 1932 - 1933 годов в Советском Союзе41. Подводя некоторый итог изучения советской деревни 1930-х годов на данном историографическом этапе, можно заключить, что исследователей в большей степени интересовали социально-политические аспекты её истории, связанные с вмешательством государства. В результате история сталинской деревни предстает как череда таких малопродуманных и в конечном итоге не эффективных вмешательств со стороны власти. Именно такой взгляд сквозь призму отношений государство - -крестьянство до сих пор является доминирующей парадигмой в изучении российской деревни 1930-х годов. Это отчетливо подтверждают самые последние публикации в академических журналах42.
Данилов В.П. Сталинизм и крестьянство // Сталинизм в российской провинции: смоленские архивные документы в прочтении зарубежных и российских историков. Смоленск, 1999. С. 153-168. 37 Данилов В.П. Коллективизация сельского хозяйства в СССР // История СССР. 1990. №5; Зеленин И.Е. «Революция сверху»: завершение и трагические последствия // Вопросы истории. 1994. №10; Ивницкий Н.Л. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). М., 1994. 38 Ивницкий Н.А. Репрессивная политика советской власти в деревне (1928 - 1933 гг.) М., 2000. Красильников С. А. Серп и молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы. М., 2003; Доброноженко Г. Ф. Коллективизация на Севере. 1929 - 1932 гг. Сыктывкар, 1994. 39 Попов В.П. Паспортная система в СССР (1932-1976 гг.) // Социологические исследования 1995 № 8, 9. 40 Безнин М.А., Димони Т.М., Изюмова Л.В. Повинности российского крестьянства в 1930-1960-х годах. Вологда, 2001; Политика раскрестьянивания в Сибири. Вып. 1 - 3. Новосибирск, 2000 - 2003; Ильиных В. А. Палогово-податнос обложение сибирской деревни. Конец 1920-х- начало 1950-х гг. Новосибирск, 2004. 41 Кондрашин В. В. Голод 1932- 1933 гг. в российской деревне. Пенза, 2003. 42 Чемоданов И. В. Была ли в СССР альтернатива насильственной коллективизации? // Вопросы истории. 2006. № 2; Надькин Т. Д. Деревня Мордовии в 1932 -1933 годах: хлебозаготовки, голод, репрессии // Отечественная история. 2006. № 4; Кирьянова Е. А. Коллективизация Центра России (1929 — 1937 гг.) // Отечественная история. 2006. №. 5; Сахаров А. Н. 1930: год «коренного перелома» и начала большого террора // Вопросы истории. 2008. № 9.
Стремление вырваться из этой концептуальной рамки исследования проблем аграрной истории 1930-х годов у российских историков наблюдается давно. В 1993 году, выступая па теоретическом семинаре «Современные концепции аграрного развития», новосибирский историк И. С. Кузнецов призывал к изменению приоритетов: «Перспектива мне видится не в поисках альтернативы коллективизации и сталинизму, а в расширении самого проблемного поля исследования. ... Проблема коллективизации шире проблемы отношений большевистского режима с крестьянством»43. Призыв прозвучал, однако тематика работ отечественных крестьяноведов изменилась незначительно. Тем не менее, представляется все-таки возможным отметить действительно новые явления в историографии крестьянства.
Одним из наиболее ярких авторов, активно ратующих за привлечение методов зарубежного крестьяноведения, безусловно, является Д. И. Люкшин. Успешное применение этих достижений к локальным материалам Поволжья позволило ему совместно с другим историком В. М. Бухаревым еще в первой половине 1990-х годов выступить с концепцией «общинной революции», которая кардинально меняла осмысление крестьянских движений периода революции и Гражданской войны. В основе радикализации крестьянства, по мнению этих авторов, лежали отнюдь не канонизированные советской историографией факторы (рост революционной сознательности крестьянства, влияние партийной пропаганды), а отсутствие дисциплинирующего насилия со стороны власти. Община выступила инструментом самоорганизации крестьянства, придавая социальную направленность крестьянскому движению. «Общинная революция имела долгосрочные последствия, заключавшиеся в рурализации советского общества, консервации крестьянских традиций44. Д. И. Люкшин также рассматривал взаимодействие власти и крестьянства, но делал он это сквозь призму антропологических и социокультурных характеристик жителей села.
Другой попыткой преодолеть традиционную для отечественной историографии схему изучения крестьянства является подход, предложенный 43 Современные концепции аграрного развития. Теоретический семинар // Отечественная история. 1994. № 4-5. 44 Бухарев В. М., Люкшин Д. И. Крестьяне России в 1917 году: пиррова победа «Общинной революции» // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция от новых источников к новому осмыслению. М., 1998. С. 131 - 142. вологодской исследовательницей М. Н. Глумной. Основным предметом ее исторического анализа стал институт колхозов, в силу чего в авторской редакции подход получил название институционального'5. Такое название не вполне оправданно, поскольку исследовательница анализирует не столько организационную структуру колхозов, сколько внутренние отношения в среде колхозников. В серии статей, основанных на материалах деревни Европейского Севера России 1930-х годов, М. Н. Глумная рассмотрела социальную структуру, отношение к труду и практики управления, бытовавшие среди представителей колхозного сообщества46. Как нам представляется, такой подход несет в себе значительные перспективы обновления аграрной историографии, поскольку рассмотрение в таком ключе истории колхозов , начиная с их появления в 1920-е годы и заканчивая событиями рубежа 1980-х - 1990-х годов, позволит проследить эволюцию аграрной подсистемы всего советского общества.
Еще одна новая модель анализа представлена в работах известных.. историков-аграрников М.А. Безнина и Т.М. Димони.47 В её основе лежит обращение не к политическим факторам развития советской деревни, а к непосредственной логике социально-экономических процессов. Центром концепции М.А. Безнина и Т.М. Димони является представление о капитале (под которым они понимают «обществленный труд»), как некой универсальной,, категории, применяемой для анализа любого типа хозяйствования. Поскольку само по себе создание колхозов предполагало концентрацию капитала (техники, инвентаря, финансов), а затем происходил его дальнейший рост, вологодские историки предлагают трактовать колхозный период в развитии аграрного строя России как капитализацию. Социальным следствием этих процессов являлось
Глумная М. Н. К вопросу об институциональном подходе при изучении колхозов // Актуальные проблемы аграрной истории Восточной Европы: Историография; методы исследования и методология; опыт и перспективы. XXXI сессіи симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Тезисы докладов и сообщений. М., 2008. С. 127 - 129. 46 Глумная М.Н. К характеристике колхозного социума 1930-х годов (на материалах Европейского Севера России) // XX век и сельская Россия. Российские и японские исследователи в проекте «История российского крестьянства в XX веке». Токио, 2005; Глумная М.Н. Отношение к труду в колхозах Европейского Севера России в конце 1920-х - 1930-х годах // Русская культура нового столетия: проблемы изучения и использования историко-культурного наследия. Сборник статей. Вологда, 2007; Глумная М.Н. К вопросу об организационной культуре колхозов Европейского Севера России в 1930-е годы // Стратегия и механизм управления: опыт и перспективы. Материалы научно-практической конференции. Вологда, 2008. 47 Безнин М. А., Димони Т. М. Аграрный строй Росси в 1930 — 1980-е годы. Тезисы научного доклада. Вологда, 2003; Безнин М. А., Димони Т. М. Аграрный строй Росси в 1930 - 1980-е годы (новый подход)// Вопросы истории 2005. № 7. С. 23 - 44; Безнин М. А., Димони Т. М. Капитализация в российской деревне 1930-1980-х годов. Вологда, 2005. раскрестьянивание, которое предполагало: а) отток жителей села в город; б) превращение крестьян в наемных рабочих на государственных сельскохозяйственных предприятиях. Результатом этих изменений, по М. А. Безнину и Т. М. Димони, был переход российского общества от аграрной к индустриальной стадии развития.
Из трудов зарубежных авторов наибольшее значение на изучение истории советского крестьянства оказали работы М. Левина и Ш. Фицпатрик. Если для работы отечественных авторов преобладающей проблематикой было изучение различных форм государственного вмешательства в жизнь крестьянства на протяжении всех 1930-х годов, то М. Левин и Ш. Фицпатрик пытались проследить обратное влияние общества на эволюцию государства и его политики. Особенно эта позиция характерна для М. Левина, который в рурализации российского общества после Гражданской войны усматривал одну из причин возникновения сталинизма.48 Формирование жесткого авторитарного режима в СССР, по его мнению, было обусловлено тремя факторами: 1) распадом социальных связей в ходе индустриализации; 2) характером советской бюрократии и 3) традициями политической культуры. По мнению исследователя, первоначально гражданская война, а затем индустриализация и коллективизация обусловили рост социальной мобильности в стране. В результате большая часть советскихv управленцев оказались вчерашними рабочими и крестьянами. Будучи профессионально некомпетентными и малообразованными и в то же время, стремясь сохранить' за собой административные должности, они всеми силами пытались угодить высшему партийному руководству страны. С другой стороны, для большинства населения страны - крестьян была характерной архаичная правовая культура, в силу стереотипов которой единственным противовесом всесилия местных чиновников для крестьянина выступала высшая власть. Всё это в итоге и предопределило, по мнению М. Левина, появление сталинской власти. Помимо этих историко-социологических схем, важен также и анализ автором Lewin М. The social Background of Stalinism II Lewin M. The making of the Soviet system. Essays in the social history of intervvar Russia. Methuem, 1985 P. 258-285; Lewin M. Russian Peasants and Soviet Power. L., 1968. традиций и верований характерных для российского крестьянства в первой трети XX столетия49.
Ш. Фицпатрик относилась к другому, нежели М. Левин, поколению ревизионистов. Поэтому для неё было важным не доказать социальную предопределенность возникновения сталинского режима, а объяснить непосредственно сталинскую «революцтло сверху» с позиции её обусловленности социальными влияниями. В целом на работы III. Фицпатрик, посвященные истории советского крестьянства, в значительной мере повлияла её концепция «культурной революции». В частности, в книге «Сталинские крестьяне» Ш. Фицпатрик рисует острые конфликты, которые сложились в советской деревне накануне коллективизации. По мнению американской исследовательницы, для села были характерны две линии общественной напряженности: 1) между зажиточными и бедными крестьянами и 2) между традиционно настроенными представителями старшего поколения крестьян и воспитанной в советском духе деревенской молодежью. Брошенный властью призыв к коллективизации сельского хозяйства послужил основой для эскалации этих конфликтов. В ходе кампании по раскулачиванию произошло изменение властных полюсов в деревне. К тому же коллективизация стала причиной массового исхода крестьян в города и таким образом повлияла на усиление социальной мобильности в других сферах жизни общества. Однако эго революционное движение было отнюдь не долгим. Уже решения II съезда колхозников-ударников (1935 год), где, по мнению исследовательницы, столкнулись программы действия сельских активистов, ратовавших за продолжение политики «революции в деревне», и ЦК партии, настаивавшего на стабилизации положения, свидетельствовали об отходе советской политической элиты от прежнего курса. В условиях советской политической системы естественно, победила линия ЦК, следствием чего стало отступление от политики «культурной революции» в деревне50. Значительно дополняют и развивают в отдельных вопросах идеи Ш. Фицпатрик труды другой ревизионистски настроенной исследовательницы Линн Виолы, посвященные
Левин М. Деревенское бытие: нравы, верования, обычаи// Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник. 1997. М., 1997. С. 84-127. 50 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. М., 2001. движению двадцатипятитысячников и социальному протесту в крестьянской среде51.
В целом, подводя итог изучению советского крестьянства на сегодняшний день, можно отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной историографии преобладало обращение к анализу социально-экономических и социально-политических (особенно в вопросе о взаимообусловленности политических процессов в стране и общественной жизни крестьянства) аспектов его истории. В силу этого, на наш взгляд, в изучении нуждаются социокультурные аспекты истории крестьянства.
Опыт отечественной исторической психологии. Историческая психология как отдельная область советской исторической науки возникла в 1960-е годы, после публикации работ Б. Ф. Поршнева52. Её появление на горизонте исторических исследований, как и ренессанс крестьяноведения, отчасти было вызвано всеобщим обращением к ленинскому наследию в постсталинскую эпоху. В этом отношении В. И. Ленина пытались представить как основоположника советской исторической психологии. В своих многочисленных работах он нередко обращался к анализу психологии широких масс, акцентируя внимание то на стихийности, то на сознательности их действий.53 Именно из работ В.И. Ленина эти парные аналитические категории пришли в советскую историческую науку и стали одним из основных стержней изучения социально-психологических явлений. Тем не менее, основная заслуга в институциализации исторической психологии как отдельного направления исторических исследований в отечественной науке, несомненно, принадлежит Б. Ф. Поршневу. Именно в его 51 Viola L. Best Sons of the Fatherland. Workers in the vanguard*of Industrialization. Oxford, 1987; Виола Л. «Долой антихриста»: крестьяне и представители Советской власти на собраниях по коллективизации // Сталинизм в российской провинции: смоленские архивные документы в прочтении зарубежных и российских историков. Смоленск, 1999. С. 178-191. 32 Поршнев Б.Ф. Принципы социально-этической психологии. М., 1964; Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история М., 1968; Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история (элементарное социально- психологическое явление и трансформация в развитии человечества) // История и психология М., 1971. С. 7- 35. 33 Об этом см.: Поршнев Б.Ф. В. И. Ленин и проблемы социальной психологии. Доклад на научной конференции по теме: «Ленинский этап в развитии марксистской философии». М., 1969; Левыкин И.Т. В.И. Ленин о психологии крестьянства. Орел. 1968. Эти две работы написанные, казалось бы, в одном русле, значительно качественно отличаются друг от друга. Если доклад Б.Ф. Поршнева действительно представляет собой анализ работ В.И. Ленина, то брошюра И.Т. Левыкина является типичной апологетической работой времен застоя. Тем не менее, их сравнение вполне рельефно подчеркивает вклад Б.Ф. Поршнева в развитие отечественной науки. работах были заножены базовые категории и принципы, которые затем использовали ученые, обращаясь к сходным сюжетам.54 В одном из своих сочинений Б. Ф. Поршнев писал: «Любая закономерность общественной жизни, любой акт, осущес і вляе гея через поведение людей». Разумеется, постулируя столь острое для советской науки положение и пытаясь взглянуть на исторический процесс сквозь призму человеческой психологии, учёный рисковал разбиться о неподвижный «валун» исторического материализма. Порою Б. Ф. Поршнев даже переходит к наступлению на основу основ марксистско-ленинской философии. Так, в своей книге «Социальная психология и история» он писал: «Величайшая порочность экономического материализма состоит в претензии описать человеческую историю без всего субъективного. Между тем открытие марксизмом объективного требует не отбрасывать, а объяснять субъективное».55 Это были слова достаточно смелые для своего времени, но всё же автор вынужден был сгладить противоречие, возникшее между своими идеями и одной из догм советского мировоззрения. Для этого Б. Ф. Поршневу потребовалось разделить человеческие общности, в рамках функционирования которых только и может проявляться социальная психология, на менее и более устойчивые. Для первых (например, классов), по мнению историка, характерна социально-экономическая основа, для вторых - социально-психологическая. По-видимому, именно эта' типология служила для Б. Ф. Поршнева и основой для классификации социально-психологических явлений, которые он также разделял на две группы. В первую из них он включал явления, связанные с традицией и характерные для отдельных классов, называя их понятием «психологический склад», во вторую - более изменчивые психологические явления, присущие «менее укорененным общностям» («настроения»). Помимо этого, Б. Ф. Поршнев активно призывал 54 По видимому работы Б. Ф. Поршнева действительно были ярким и интересным явлением в советской литературе 1960-х- 1970-х годов. Парадоксально, но при этом их автор пользовался полувоенным языком, характерным для работ сталинского времени. Нередкими для него были выражения: «научный фронт», «отряд советских историков», «рекогносцировка идей». Вот, к примеру, замечательный образец авторской риторики: «как видим научное мышление незримо состоит из гигантской неутихающей канонады наступления и обороны. Пусть противник мнимый» (Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история ... С. 33) 55 Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. С. 8. Об этой же наступательной позиции автора свидетельствует и другой не менее примечательный пассаж: «Историки сильно отстают в изучении психологической стороны субъективных аспектов описываемых ими массовых явлений. Лишь безнадежные «экономические материалисты» могут думать, что заполнение этого пробела привело бы психологизации истории (Там же. С. 211). историков к использованию лингвистических методов исследования,56 однако не переоценивая их как инструмент познания социально-психологических явлений. Напротив, он даже скорее противопоставлял появляющимся тогда на Западе постструктуралистским теориям достижения нейрофизиологии, указывая на возможность внеречевых влияний на психику человека.57 В целом, идеи Б. Ф. Поршнева оказали значимое влияние на развитие советской исторической науки
И общеСТВСННЫХ ДИСЦИПЛИН.
В 1970-е - 1980-е годы появилось большое количество методологической литературы, посвященной различным социально-психологическим проблемам58, историческая психология как отдельное направление исследований была включена в учебные пособия, посвященные общим проблемам исторического познания59, появились и отдельные непосредственно конкретно-исторические исследования60. Из числа последних большое значение имела монография Г. Л. Соболева «Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 году», -написанная на основе широкого круга исторических источников. Б ней автор рассмотрел эволюцию общественного сознания рабочих и солдат Петрограда от Февральской революции 1917 года к Октябрьской по шкале сознательности/несознательности этих слоев. В итоге Г. Л. Соболев представил те социально-психологические факторы (большевистская пропаганда, кризисы'* Временного правительства, порождавшие представление о хрупкости власти, недовольство условиями жизни), которые, по его мнению, предопределили 56 По видимому Б. Ф. Поршнев был одним из первых отечественных ученых, который ссылался на работы так ныне популярного М. Фуко. Считая его выдающимся ученым, он, однако, не переоценивал значения идей французского философа. 57 Поршнев Б.Ф. Конрсуггестия и история ... // История и психология М., 1971. С.7-35. 58 Левыкин И.Т. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии (на опыте изучения психологии колхозного крестьянства). М., 1975; Шаронов В.В. Психология класса (проблемы методологии исследования). Л., 1975; Горячева А.И., Макаров М.Т. Общественная психология (философская и социально-политическая характеристика). Л., 1979; Социальная психология классов. Проблемы классовой психологии в современном коммунистическом обществе. М., 1985; Грехнев B.C. Социально- психологический фактор в системе общественных отношений (социально-философские проблемы). М., 1985; Общественное сознание и его формы. М., 1986; Козлова Н.Н. Социализм и сознание.масс. (Социально- философские проблемы). М., 1989; Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. М., 1990. Поскольку изначально эти труды не были конкретными, а терминология социальных наук в России коренным образом изменилась в результате семантической революции 1990-х годов, все эти работы в полной мере можно отнести к категории исторических реликтов. 59 См. например: Жуков Е.М. Очерки методологии истории. Изд. 2-е. М., 1987. 60 Соболев ГЛ. Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 году. Л., 1973; Козлов В.А. Человек революционной эпохи (к методологии исторического исследования) // Советская культура : история и современность М., 1983; Буховец 0:Г. Массовые источники по общественному сознанию российского крестьянства (опыт применения контент-анализа при-изучении приговоров и приказов 1905-1907 гг.) // История СССР. 1986. №4. переход широких народных слоев столицы на революционную платформу, и, в конечном счете, сделали возможным осуществление Октябрьской революции.61Что касается социально-психологических аспектов истории советского крестьянства, задача их всестороннего изучения была поставлена в историографических обзорах62, но спецріальньїх работ на эту тему в советской историографии так и не появилось. В 1970-е - 1980-е годы вышли в свет лишь несколько социально-психологических исследований, посвященных современному состоянию деревни, выполненных, как правило, не историками, однако и их концепция была изначально задана идеологическими установками. Изучение в таких случаях, по сути, сводилось к подтверждению позитивных изменений в жизни колхозников в «социалистическом обществе»63. Поэтому можно согласиться с заключением, сделанным московской исследовательницей Т. П. Мироновой. Подробно проанализировав практически все обращения к социально-психологическим сюжетам в отечественной историографии советского крестьянства, она высказала мнение о том, что актуальность изучения общественного сознания крестьянства была осознана исторической наукой, но не вылилась в специальные работы по этой теме.64
В 1990-е годы историческая психология переживала важные изменения, по сути превратившие ее из узкоспециализированного направления в советской исторической науке в широчайшую отрасль социокультурных исторических исследований. Огромную роль в этом сыграл, прежде всего, общий интерес отечественных историков к социокультурной тематике, которая долгое время была на периферии исторических изысканий. С 1990-х годов всё большее число отечественных специалистов обращается к изучению культуры повседневности и духовной жизни в их исторической ретроспективе. В это время изменяются структура и стержневые сюжеты и проблемы исторической психологии. Значительно повлияло на ход этих процессов знакомство отечественных специалистов с достижениями западной историографии. Среди множества 61 Соболев Г.Л. Указ. соч. 62См., например: Волков И.М., Данилов В.П., Шерстобитов В.П. Проблемы истории советского крестьянства // История СССР. 1977. №3. С. 14-15. 63 Коллектив колхозников. Социально-психологическое исследование М., 1970; Зотова О.И., Новиков В.В., Шорохова Е.В. Особенности психологии крестьянства (прошлое и настоящее). М., 1983. 64 Миронова Т.П. Политическое сознание советского доколхозного крестьянства в общественной литературе 70 - 80-х гг. (к историографии вопроса) // Проблемы историографии и истории культуры народов СССР. М., 1988. С. 115- 127. идейных потоков, обогативших отечественную науку, представляется возможным отметить несколько магистральных течений, по нашем)' мнению, наиболее сказавшихся на её эволюции, в изучении социокультурных pea пий XX века. Во-первых, отечественных ученых и ранее интересовал опыт школы «Анналов» в изучении менталитета и исторической антропологии. Однако если в советский период его применение было делом преимущественно избранных медиевистов, то, начиная с 1990-х годов, подходы историков школы «Анналов» переносятся отечественными авторами и на другие периоды истории, представляются как универсальный инструмент познания прошлого. Общий интерес отечественного читателя к этим направлениям мировой исторической науки выразился в появлении ряда просветительских публикаций по теме65. Особенно отечественных ученых заинтересовала концепция менталитета, в котором многие авторы пытались отыскать истоки тех драматических и судьбоносных изменений, которые в XX столетии произошли в жизни российского общества66. Во-вторых, большое влияние имели попытки объяснить формирование деспотического политического строя в СССР через обращение к различным теориям тоталитарного сознания67. Проблематика этих работ восходила к трудам X. Арендт, ещё в 1950-е годы писавшей о политизации всех сфер человеческой жизни (в том числе и сферы общественного сознания) в тоталитарном обществе. Также нередким в этих работах было использование психоаналитического инструментария как средства познания истории. В-третьих, необходимо отметить
См. Кром М.М. Историческая антропология: Пособие к лекционному курсу. СПб., 2004; Зубкова Е.Ю., Куприянов А.И. Ментальное измерение истории: поиски метода // Вопросы истории. 1995. №7; Поляков Ю.А. Человек в повседневности (исторические аспекты) // Труды института российской истории РАН. Вып. 3. М.,2002. 66 Бабашкин В.В. Крестьянский менталитет: наследие России царской в России коммунистической // Общественные науки и современность. 1995. №3; Герасимов И.В. Российская ментальность и модернизация // Общественные науки и современность. 1994. №4; Мостовая И.В., Скорик А.П. Архетипы и ориентация российской ментальносте // Полис. 1995. №4; Коротаев В. И. Судьба «русской идеи» в советском менталитете (20-е - 30-е годы). Архангельск, 1993. 67 Ильин В.В. Человек в тоталитарном обществе // Социально-политический журнал. 1992. №6; Борисов Е.В. Набросок пснхоонтологического анализа тоталитарного сознания // Тоталитаризм и тоталитарное сознание. Томск., 1996. С. 12 - 14; Криницкая Г.С. Русская история и русский национальный характер как предпосылки тоталитаризма в СССР// Там же. С. 26 - 31; Титова Т.А. Первичные детерминанты тоталитарного поведения// Там же. С. 35 — 41; Буковская Н.В. Горизонт тоталитарного сознания // Тоталитаризм и тоталитарное сознание. Вып. 3. Томск, 2000 С. 7 — 9; Осинская О.Н. Время и пространство в политическом менталитете тоталитарного общества (20-е — 30-е гг.) // Там же. С.52 - 54; Щербинин А.И. Праздник как инструмент тоталитарной индоктринации // Там же. С. 111 - 115; Щербина Н.Г. Трігумф мифологического героя как фактор тоталитарной ментальносте в России // Там же. С. 116 — 121; Примчина Е.В. «Образ врага» как элемент тоталитарного сознания // Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления. Кемерово, 2003. С. 106 — 110; Бонвеч Б. Сталинский террор и революционный субъект // Там же. С. 156 -173. интерес историков к языку. Лингвистический поворот отразился и на изучении реалий сталинской России. К тому же активные усилия самого режима по внедрению в общество нового «революционного» языка оставили немало следов. В 1990-е годы появляются работы, авторы которых анализируют язык советской эпохи и его роль во взаимоотношениях власти и общества68. Таким образом, 1990-е годы стали временем всеобщей «смены вех», в результате которой значительно расширилась проблематика социокультурных исследований в России, изменились терминология и рінструментарий исследований. Впрочем, следует отметить, что были ученые, которые продолжали плодотворно развивать свою научную деятельность в русле исторической психологии. Для нас особенно важны выполненные в таком ключе работы И. С. Кузнецова, Т. П. Мироновой и С. В. Ярова, посвященные исследованию исторической психологии крестьянства в 1917 - 1920-е годы.
Объектом изучения И. С. Кузнецова было сибирское крестьянство 1920-х годов, а основной моделью анализа - сравнение традиций и изменений (которые он описывал преимущественно в негативных тонах) в крестьянской психологии,. И. С. Кузнецов рассматривал то, как в 1920-е годы происходили отход от религии, деформация трудовой этики, нарастание уравнительных устремлений и стереотипов классовой вражды. Всё это, по его мнению, стало объективной. предпосылкой становления в стране сталинского режима69. Для Т. П. Мироновой также характерно рассмотрение общественного сознания крестьянина Европейской России по шкале традиционности / инновационное его основных свойств, однако свои выводы исследовательница относит к иной, нежели политический режим, сфере общественных отношений. Изменения в крестьянском сознании, по её мнению, были обусловлены двумя процессами, протекавшими в крестьянской среде в 1920-е годы: 1) оживление общины; 2) активное идейно-политическое вторжение государства в жизнь деревни. Под воздействием этих влияний происходил внутренний конфликт в сознании крестьян, результатом которого стало изменение, прежде всего, политических стереотипов и установок крестьянского сознания. Изменения, происходившие в 68 Кутина Н.А. Тоталитарный язык. Екатеринбург- Пермь, 1995; Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи. Голоса из хора. М., 1996. 69 Кузнецов И.С. Социальная психология сибирского крестьянина в 1920-е годы. Новосибирск, 1992. этой сфере, по версии московской исследовательницы, имели более позитивный опенок. Т. П. Миронова отмечала рост активности жителей села, их правосознания, изменения представлений о высшей власти, которая перестает обожествляться крестьянами. Итогом всех этих процессов стало уничтожение к концу 1920-х - началу 1930-х годов «социального типа личности крестьянина традиционного общества»70. Возможно Т. П. Миронова несколько преувеличила позитивные сдвиги, поскольку сегодня такой вывод представляется нам дискуссионным. Несколько иная модель анализа предложена в небольшой книге С. В. Ярова «Крестьянин как политик». Автор не пытается определить традиционные и новые ментальные структуры в сознании крестьян, не берется оценивать их изменения как позитивные или негативные. Для него скорее более важным было понять общие для крестьян коды мышления и поведения. В итоге С. В. Яров пришел к заключению о низкой политизации крестьянской жизни, аморфности и неопределенности представлений крестьян об институтах власти в 1917 -1918 годахті.
В целом 1990-е годы несомненно стали временем благоприятного синтеза традиций отечественной историографии и достижений мировой исторической науки. Своеобразным научным итогом этого десятилетия, стало появление на рубеже 1990-х - 2000-х годов ряда монографий, которые, вероятно, в значительной степени определят горизонт будущих исследований в области изучения социокультурной истории России XX века72.
Несомненно, следует упомянуть те немногочисленные обращения к социально-психологической тематике, которые были осуществлены отечественными историками непосредственно на материале 1930-х годов. Одним из первых к изучению общественного сознания жителей Советской России в 70 Миронова Т.П. Общественное сознание российского крестьянства в 20-е годы XX в. (по материалам Европейской части России). Дисс.... канд. ист. паук. М., 1997. 71 Яров СВ. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо — Запада России в 1918 — 1919 гг.: политическое мышление и массовый протест. СПб., 1999. 72 Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997; Яров СВ. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917 - 1923 гг. СПб., 1999; Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914 — март 1918 гг.). Екатеринбург, 2000; Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры Российской революции. СПб., 2001; Нарский И.В. Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917 - 1922 гг. М., 2001. сталинский период обратился С. А. Шинкарчук73. Его книге был свойственен определенный налет публицистичности, характерной для многих исторических работ первой половины 1990-х годов. Тем не менее, автор на основании значительного количества архивных источников предпринял попытку реконструировать политические настроения различных слоев советских граждан (рабочих, крестьян, интеллигенции) на протяжении всего периода 1930-х годов. Основная причина устойчивости большевистской власти, по мнению исследователя, заключалась в аполитичности советского общества, уставшего от войны и разрухи предшествующего периода. Вместе с тем выводы С. А Шинкарчука носили слишком общий характер и концентрировались главным образом вокруг темы отношения народа к большевистскому политическому режиму. Другим автором, на протяжении двух последних десятилетий изучающим тему внешнеполитических представлений советского общества является известный московский историк А. В. Голубев74. Особенно важны для нашего исследования наблюдения А. В. Голубева о сокращении каналов поступления информации об окружающем мире, развитии цензурных ограничений, формировании информационного пространства, где все более выпуклую роль играли официальные источники информации.
В последние годы появился ряд диссертаций, посвященных изучению реакции крестьянства на жесткое государственное вмешательство во внутреннюю жизнь деревни75. Несмотря на то обстоятельство, что исходной категорией для Э. В. Гатилова является понятие - менталитет, для О. Б. Воронкова - общественное сознание, а для М. В. Левковой - социальный протест крестьянства, в основе всех трех диссертаций лежит традиционная для отечественного крестьяноведения схема изучения. Все три названных автора сходятся в мысли о том, что государственная политика в 1930-е годы оказала разрушающее влияние на 73 Шинкарчук С. А. Общественное мнение в Советской России в 1930-е годы (по материалам Северо- Запада). СПб., 1995. 74 В частности см. его работы: Голубев А. В. Запад глазами советского общества (основные тенденции формирования внешнеполитических стереотипов в 30-х годах) // Отечественная история. 1996. № 1; Он же «Если мир обрушится на нашу республику ...»: Советское общество и внешняя угроза в 1920 — 1940-е гг. М., 2008. 75 Гатилов Э. В. Исторические и социально-психологические аспекты развития крестьянства Черноземья (1927 - 1941 гг.) Дисс. ... канд. ист. наук. Воронеж, 1998; Воронков Б.О. Восприятие крестьянством Центрального Черноземья политики партийно-государственного руководства СССР во второй половине 1920-х- первой половине 1930-х годов. Дисс. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2003; Левкова М.В. Социальный протест колхозного крестьянства Европейского Севера России в 1930-х - первой половине 1940-х гг. Автореферат дисс ... канд. ист. наук. Сыктывкар, 2006. традиции сельского мира, сгала главным фактором трансформации их жизненного уклада и вызвала к жизни разнообразные формы крестьянского протеста. Такой же вывод можно встретить и в диссертациях, посвященных трансформации крестьянской психологии в период коллективизации76. Другой проблематике посвящена докторская диссертация Н. Б. Барановой, выполненная в духе тоталитарного подхода77. В основе этой работы лежит мысль о том, что господство тоталитарного государства зиждется на монополизации им информационного пространства официальной идеологией. Средством такой монополизации может выступать создание различного рода идеологических концептов (мифов, по терминологии автора), которые затем внедряются в массовое сознание. Характеристика основных мифов советской культуры 1930-х годов (мифы о «новом человеке», «светлом будущем», коллективе, вожде, герое, «классовом враге» и «рае социализма»), а также практики их внедрения в массы и стали предметом исследования Н. Б. Барановой. Итогом этой мифологизации общественного сознания, по мнению исследовательницы, стало «упрощение личностной структуры», формирование ситуации, когда «человек искусственно задерживался в своем личностном и духовном развитии». Несколько дополняет в отдельном сюжете о концепте коллективизма выводы Н. Б. Барановой диссертация ее ученицы Н. А. Володиной78. Наконец, по-видимому, одной из ' лучших работ в области изучения социально-психологических аспектов истории 1930-х годов является диссертация С. И. Быковой, посвященная изучению политических представлений горожан Урала79. Ее автор, активно используя различные антропологические теории, попыталась взглянуть на политику как социокультурное явление. По мнению С. И. Быковой, для советской политической культуры был характерен особый хронотоп, в котором прошлое и 76Вострова С. Н. Изменения в социальной психологии крестьян Восточной Сибири (1929 - 1933 гг.). Дисс. ... канд. ист. наук. Красноярск, 2005; Серебрякова И. Г. Социальная психология крестьянства Урала в период сплошной коллективизации (1929 — 1933 гг.). Дисс. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2006. 77 Баранова Н. Б. Власть и воздействие на массовое сознание в тридцатые годы XX века. Дисс. ... докт. ист. наук. М., 1997 78 Володина Н. А. Идеологема коллективизма и ее внедрение в массовое сознание в 1930-е годы (на материалах Средне - Волжского региона) Дисс. ... канд. ист. наук. Пенза, 2002. Однако в данном случае, идейное влияние научного руководителя было столь велико, что порою авторский текст диссертации сводится к прямому реферированию докторского сочинения 1-1. Б. Барановой. В силу этого обстоятельства, выводы, высказанные Н. А. Володиной, вряд ли можно признать самостоятельными и уж тем более оригинальными научными суждениями. 79 Быкова С. И. Политические представления советских людей в 1930-е годы (на материалах Уральского региона). Дисс.... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2002. настоящее не имели самостоятельной ценности. В такой культуре смысл человеческой жизни определялся ее устремленностью в будущее. Эта особенность, по мнению уральской исследовательницы, вела к двум следствиям: 1) формировала определенные маркеры для обозначения категорий социальной стратификации («бывшие», «новые» люди); 2) создавала новую этическую систему, в которой обесценивались ценности частной жизни. Эти базовые предпосылки привели в 1930-е годы в итоге, с одной стороны, к формированию культа вождей и героев, а с другой, обусловили появление зловещего образа «врага народа» в общественном сознании, тем самым в какой-то мере предопределив репрессии. Суммируя вышесказанное, мы можем заключить, что несмотря на появление в 1990-е годы ряда интереснейших исследований, посвященных различным сюжетам социокультурной истории, так или иначе характеризующих те или иные стороны политического сознания жителей Советского Союза 1930-х годов, его комплексный анализ так и не стал предметом-' научного изучения.
Источники.
К настоящему времени в отечественной историографии социокультурных'-аспектов истории сложилось две научных традиции, представители каждой из которых предполагают обращение преимущественно к определенному источниковому комплексу. Для одних такими основополагающими источниками для изучения социально-психологических сюжетов стали разнообразные материалы политического контроля за населением страны (политические сводки, отчетная документация государственных и партийных структур, спецсообщения органов ОГПУ - НКВД, материалы перлюстрации). В частности, с преимущественной опорой на эти документы были написаны работы B.C. Измозика, СВ. Ярова, Н.А. Ломагина, А. В. Голубева и др.80. Другие исследователи
Измозик B.C. Глаза и уши режима (Государственный политический контроль за населением Советской России в 1918 - 1928 годах). СПб., 1995; Яров СВ. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917 — 1923 гг. СПб., 1999; Ломагин Н.А. Политический контроль и негативные настроения ленинградцев в период Великой Отечественной войны. Автореферат дисс... докт. ист. наук. СПб., 2005; Голубев А. В. «Если мир обрушится на нашу республику ...»: Советское общество и внешняя угроза в 1920 - 1940-е гг. М., 2008; Воронков Б.О. Восприятие крестьянством Центрального Черноземья во главу угла своих исследований ставят «письма во власть» - широкий комплекс разнообразных обращений, заявлений, жалоб, доносов простых советских обывателей в органы государственной и партийной власти, а также политическим лидерам Советского Союза. К числу этих исследова і елей прежде всего следует отнести Т. П. Миронову, А. Я. Лившина, И. Б. Орлова, С. Н. Тутолмина п др.81. Разумеется, граница между этими традициями условна, и те и другие авторы не чураются использовать в своих работах различные типы документации, однако их предпочтения тоже вполне очевидны, если например, взглянуть на содержание издаваемых под их редакцией сборников документов82 или же на разработанные ими изощренные методики изучения избранных ими документальных комплексов83. Зарубежные историки «советской субъективности» нашли свой собственный путь понимания советского прошлого, также через обращение к определенному типу документов. Так, С. Коткин в одной из своих статей подчеркивал, что ни открытие ранее секретных советских архивов, ни многочисленные публикации последних лет сами по себе не могут привести к концептуальному переосмыслению советской истории. По его мнению, толчок дальнейшим исследованиям может дать широкое привлечение биографических и автобиографических материалов84. Историки данного направления сегодня активно изучают воспоминания, дневники, автобиографии, следственные дела, т.е. те материалы, которые подчеркивают роль индивида в жизни советского общества. политики партийно-государственного руководства СССР во второй половине 1920-х первой половине 1930- х годов. Дисс.... канд. ист. наук. Воронеж, 2003. 81 Миронова Т.П. Общественное сознание российского крестьянства в 1920-е годы XX века (по материалам
Европейской части России) Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1997; Ливший А.Я., Орлов И.Б. Власть и общество.
Диалог в письмах. М., 2002; Тутолмин С. Н. Политическая культура российских крестьян в 1914 - начале
1917 гг. (по жалобам и прошениям в органы государственной власти). Дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2003;
Шаповалова Н. Е. Коммунистическая перспектива в представлениях крестьян Европейской части России (1921 - 1927 гг.). Дисс. ... канд. ист. наук. Армавир, 2001; Мальцева С. И. Социально-политические преобразования Советской власти в западносибирской деревне: отношение к ним крестьянства (1923 - 1929 гг.). Дисс. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2003. 82Ср., например: Письма во власть. 1917-1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям / Сост. А. Я. Ливший, И. Б. Орлов. М., 1998; Письма во власть. 1928 -
1939. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям / Сост. А. Я.
Ливший, И. Б. Орлов, О. В. Хлевнюк. М., 2002 и Новгородская земля в эпоху социальных потрясений. 1918 - 1930 / Отв. ред. С. В. Яров. СПб., 2006; Новгородская земля в эпоху социальных потрясений. 1928 — 1941 /
Отв. ред. С. В. Яров. СПб., 2008. 83 Ливший А.Я., Орлов И.Б. Социологический анализ «писем во власть» // Социс. 1999. № 2. С.80 - 88; Яров
СВ. Источники для изучения психологии российского общества XX века. СПб., 2003. S4 Коткин С. Государство - это мы9... С. 115.
Все эти источники могут предоставить исследователю богатый материал для изучения социокультурных аспектов истории Советского Союза. Однако явное или неявное выделение одного комплекса документов в качестве базового, на наш взгляд, сужает исследовательские возможности, направляет мысль историка по уже заранее известному руслу. Политические сводки и другие документы политического контроля из этих трех комплексов являются наиболее деиндивидуализированным типом документов, поэтому, исходя из них, сложно говорить о политических представлениях и идентичности крестьян. Зато они дают богатый материал для изучения общего социально-психологического климата в деревне. «Проблемность» писем во власть уже изначально требует от исследователя обращения к анализу крестьянских представлений о тех общественных институтах, которые эти проблемы порождали и разрешали. Все это делает их наиболее репрезентативными для изучения образов власти в крестьянском сознании. Наконец, автобиографии, дневники, свидетельские показания уже в силу своей автобиографичности направляют исследователя в сторону изучения вопросов идентичности. Таким образом, каждый из названных видов документов с наибольшей степенью достоверности позволяет проанализировать лишь определенную сторону ментального мира крестьянина. Для комплексного анализа изучаемого феномена требуется использование всех названных типов источников.
Для изучения темы необходимым представляется использовать в первую очередь источники трех документальных комплексов: документов политического контроля, «писем во власть», следственных материалов. Этот принцип, по нашему мнению, позволит более полно осветить феномен политического сознания, избежав при этом концептуальной детерминированности исследования тем или иным типом исторических источников.
Документы политического контроля над обществом включают в свой состав широкий круг документации местных государственных и партийных структур. Политическим контролем в Советском Союзе, так или иначе, занималось большинство организаций от низовых партийных ячеек до органов ОГПУ-НКВД, подчиненных непосредственно центру. В основном это политические сводки, информационные сообщения, докладные записки. Были использованы и материалы перлюстрации. Значительное количество документов политического контроля выявлено нами в Государе і венном архиве Архангельской области (далее - ГААО) в фондах Архангельского крайисполкома (ф. 621) (с 1937 года -облисполкома(ф. 2063)), райисполкомов Северного края, Севкрайкома ВКП(б) (ф. 290), Архангельского обкома ВКП(б) (ф. 296) и ряда райкомов ВКП(б). Сходные документы были выявлены также в Государственном архиве Вологодской области, Вологодском архиве новейшей политической истории и Российском государственном архиве социально-политической истории. Работая с данными источниками по теме политического сознания, необходимо иметь в виду их следующие особенности. Во-первых, эти документы передают информацию о настроениях людей не из первых рук. Перед тем, как быть представленной в итоговой сводке, эта информация нередко проходит несколько редакций в различных структурах, при этом первоначальный текс мог переформулироваться и клишироваться. К тому же структуры, занимавшиеся политическим контролем, стремились представить перед вышестоящими органами ситуацию в выгодном для себя свете, нередко при этом не договаривая и намеренно искажая факты. Во-вторых, следует иметь в виду, что сводки и информационные сообщения изначально создавались в соответствии с практическими потребностями власти в определенной информации. Эта особенность предопределяла характер т' информации включаемой авторами и составителями в документы. В-третьих, даже те сюжеты, которые в них включались, как правило, содержали информацию о крайних полюсах общественного мнения. Составителей сводок, прежде всего, интересовали или реакция одобрения и поддержки тех или иных акций власти, или суждения и действия, которые они могли квалифицировать как недовольство и политический протест. «Письма во власть» - под этим собирательным названием в современной исторической литературе принято понимать широкий комплекс различного рода заявлений, прошений, жалоб и ходатайств, отправляемых гражданами СССР в органы власти, партийным вождям и редакции советских газет. В историографии существует несколько типологий данных источников, однако наиболее ясной и практически применимой, вероятно, следует признать типологию, предложенную С. И. Быковой, в основе которой лежит принцип разделения «писем во власть» в зависимости от их функционального назначения. В частности, она выделила следующие подгруппы- письма - прошения, письма размышления, письма - предложения и письма - доносы85. Наиболее известный комплекс крестьянских писем ныне храпи і ся в Российском государственном архиве экономики (ф. 396 - редакция «Кресіьяиской газеты»). Однако по нашему периоду в фонде «Крестьянской газеты» сохранились письма только за 1929 и 1938 - 1939 годы. Большой комплекс подобной документации обнаружен нами в фондах Рабоче-крестьянской инспекции (ф. 659), Краевой контрольной комиссии ВКП(б) (ф. 600) в ГААО а также фондах государственных и партийных учреждений, перечисленных выше. Ряд писем удалось обнаружить в личном фонде М. И. Калинина в РГАСПИ (ф. 78). Несколько писем, в том числе и относящихся к территории Русского Севера, было недавно издано в сборнике документов «Письма во власть»86. Положительной, в контексте нашего исследования, особенное і ью подобных источников является то обстоятельство, что они написаны непосредственно самими крестьянами. Нельзя не признать и их высокую информативность. «Письма во власть» содержат сведения о повседневной жизни простых людей, их ежедневных заботах, представлениях об институтах власти и представителях последней на местах. Особенно важна негативная часть крестьянских оценок, поскольку ее можно обнаружить не во всех официальных источниках. Обычно крестьяне обращались к власти в тех случаях, когда у них возникал какой-либо побудительный повод (самоуправство местных чиновников, крайняя нужда, недовольство отдельными аспектами государственной политики и т. д.), поэтому крестьянские письма часто приобретают протестный оттенок. Однако при их анализе всегда следует помнить, что адресатом этих обращений являлась власть и ее корреспонденты в подобных случаях были, как правило, заинтересованы в том, чтобы найти с ней общий язык. Вряд ли в этой специфической ситуации диалога с властью авторы писем доверяли документу свои самые сокровенные мысли и наиболее критические суждения. Таким образом, «письма во власть» являются особым типом источников, в которых отразился не только определенный уровень 85 Быкова С. И. Указ. соч. С. 29 - 30. 86 Письма во власть. 1928 - 1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям. М., 2002. социального недовольства, но и определенный уровень политического конформизма крестьян.
Наконец, третьим основным комплексом источников для нашего исследования могут выступить материалы политического следствия 1930-х годов. Состав следственных дел весьма разнообразен. Как правило, следственные дела содержат различные материалы по ходу следствия (ордера, повестки), свидетельские показания, протоколы допросов обвиняемых, протоколы очных ставок, акты проведения обысков, обвинительные заключения. Следственные дела могут также включать в себя документы личного происхождения (личные письма, дневники, фотографии), изъятые у обвиняемых. В диссертации нами были использованы следственные материалы политических дел 1930-х годов из фонда краевого суда (ф. 1470) ГААО. При работе с материалами политического следствия 1930-х годов следует учитывать широко распространенную в этот период практику их фальсификации. Однако, по нашему мнению, в данном, случае, следует вести речь о двух этапах фальсификации: 1) фальсификации политического обвинения (что было практически повсеместно); 2) фальсификации непосредственно следственных материалов. Первое не обязательно предполагало второе. В практике могли присутствовать случаи, когда с точки зрения представителей следствия собранные ими факты были столь очевидным доказательством вины, что дело не требовало дальнейшей фальсификации. Так, в одном случае найденные при обыске несколько финских монет послужили для сотрудников НКВД прямой уликой в том, что их владелец сотрудничает с иностранной разведкой87. Следствие по этому делу не потребовало от сотрудников НКВД дополнительных доказательств вины. Конечно, при работе со следственными материалами всегда встает вопрос о достоверности приведенных в них фактов. К тому же следует помнить, что человек, дающий показания в ходе следствия, в любом случае оказывался в специфической ситуации, которая накладывала отпечаток на его поведение и сообщаемую им информацию.
В качестве дополнительных источников по теме исследования привлекались делопроизводственные документы государственных и партийных 87 Архив управлення ФСБ по Вологодской области. Фонд следственных дел. Д. 13580. структур, документы личного происхождения и периодическая печать 1930-х годов. Несомненно, что личная переписка, дневники и записные книжки являются ценнейшим источником для изучения общественного сознания. Именно в них с большей степенью открытости могли быть выражены мысли и чувства простых людей. Однако невысокий уровень грамотности большинства крестьян, отсутствие традиции ведентія личных записей в их культурной среде и низкая сохранность документов личного происхождения не позволяют сегодня выявить значительное количество таких документов. Несколько крестьянских дневников, охватывающих период 1930-х годов, ныне опубликовано88. В фондах государственных и партийных организаций нам удалось выявить примерно два десятка частных писем крестьян 1930-х годов. Несмотря на незначительное количество этих документов, они дают исследователю важную информацию, наиболее конкретные и соответствующие реальному положению дел оценки жителей села, которые невозможно отыскать в других видах источников. Делопроизводственные документы государственных и партийных структур, за исключением сферы политического контроля, содержат значительно меньше информации, позволяющей исследовать сознание крестьянства. Зато они необходимы для изучения техники манипулирования, используемой властью в ходе процесса политической коммуникации с крестьянством. Нами были изучены протоколы Северного краевого бюро ВКП(б), различные циркуляры и распоряжения, служебная переписка. Периодическая печать 1930-х годов не оставляет никаких сомнений в том, что ее оценки отражали исключительно официальную точку зрения на происходящее в стране. Тем не менее, советские газеты содержали многочисленные факты, позволяющие исследователям характеризовать те или иные стороны жизни советской деревни и поведения сельских жителей. Поэтому периодическая печать может быть полезна для изучения общественного сознания крестьянства. В ходе работы над диссертацией нами были использованы материалы краевой газеты «Правда Севера» 1930-х годов. В целом все перечисленные источники позволяют считать нашу тему вполне обеспеченной документальным материалом.
На разломе жизни. Дневник Ивана Глотова, пижемского крестьянина Вельского района. 1915 - 1931 гг. М., 1997; «Дневниковые записки» Усть-куломского крестьянина И. С. Рассыхаева (1902 - 1953). М., 1997.
Восприятие крестьянством политической пропаганды в эпоху «Великого перелома»
Коллективизация является центральным историографическим сюжетом в работах, посвященных изучению советского крестьянства в 1930-е годы. Тем не менее, несмотря на сравнительно давние традиции изучения сталинской «революции сверху», временем качественно нового осмысления этой темы стали 1990-е годы96. Российские авторы после распада СССР и краха советского эксперимента, наконец, получили возможность говорить об этих трагических страницах в жизни советской деревни начала 1930-х годов относительно свободно, вне зависимости от заранее заданных партийных оценок событий коллективизации. Западным исследователям открытие в прошлом недоступных советских архивов предоставило богатейший эмпирический материал. Однако несмотря на значительные достижения в области изучения коллективизации в 1990-е годы, основополагающие концептуальные векторы для отечественной и зарубежной науки оказались весьма различными, даже более, - во многом идейно противоположными друг другу.
Среди российских историков-аграрников наибольшее признание получила концепция коллективизации, изложенная в трудах В. П. Данилова97. По его мысли, проведение коллективизации было обусловлено, во-первых, поисками политическим руководством Советского Союза материальных и людских ресурсов для осуществления форсированной индустриализации страны, и, во-вторых, стремлением И. В. Сталина и его окружения к укреплению своей личной власти. Последние удачно использовали существующие в обществе и партийных структурах страхи перед мнимой военной угрозой СССР в 1927-1929 годах, для введения чрезвычайных мер в стране, инициирование которых в дальнейшем позволило Сталину без всякой оглядки диктовать свою волю. Таким образом, «Великий перелом», по мнению В. П. Данилова, «не имел ничего общего с действительностью социально-экономического развития - ни с якобы огромным ростом производительности труда, ни с возникшим будто бы массовым колхозным движением в деревне»98. Коллективизация в такой схеме была системой мер государственного вторжения во внутреннюю жизнь деревни и зиждилась на двух основаниях - насилии и демагогии. Основными проводниками этой политики, по мнению авторитетного историка-аграрника, были структуры государственной безопасности, прежде всего ОГПу. Местным же партийным и советским органам в построениях В. П. Данилова отводится лишь незначительная роль «соучастия» в акциях ОГПУ, заключающаяся в обеспечении демонстрации поддержки сельским населением идей, спущенных «сверху». О социальной базе коллективизации в такой схеме говортіть ті вовсе не приходится. В. П. Данилов по этому поводу однозначно писал: «Сталинизм по своей природе антисоциален, и поэтому бессмысленно искать в рабочем классе, крестьянстве и интеллигенции социальный слой, интересы и настроения которого требовали создания и в конце концов создали сталинскую диктатуру»99. В результате основной стержень общественно-политического катаклизма, охватившего страну в начале 1930-х годов, в концепции В.П. Данилова конституируется по линии противоречий между государством и обществом в сталинской России.
Представления о советских политических лидерах
В своей монографии «Сталинские крестьяне» Шейла Фицпатрик проанализировала динамику крестьянских представлений о Сталине в 1930-е годы. Следствием этого анализа стал вывод о глубокой оппозиции крестьянства к «вождю». Это наблюдение вряд ли возможно оспорить, однако по нашему мнению американская исследовательница все же несколько сгустила краски. Особенно это проявляется при трактовке исследовательницей крестьянских писем во власть. В частности, она писала: «Авторы писем, даже ходатайств - редко рассыпались в похвалах и благодарностях Сталину и цитировали его изречения. Обычно они вообще избегали упоминаний о нем». Далее Ш. Фицпатрик сделана серия исключений из этого общего правила. Конечно, крестьяне могли писать свои обращения непосредственно И. В. Сталину, М. И. Калинину, другим государственным деятелям, но необязательно в «низкопоклонническом духе». Конечно, в «редких письмах» льстивые реверансы в адрес «вождя» все же присутствовали, но делались они, по мнению . Фициатрик, «двусмысленным образом».261 Эта ступенчатая система уступок и ограничений наводит на мысль об общем значении вышеизложенного тезиса в концепции . Фицпатрик. Возможно, что в целом однозначная оценка крестьянского петиционного движения была отчасти продиктована концептуальными соображениями автора. Следуя ревизионистской традиции, американская исследовательница ещё раз стремилась подчеркнуть оторванность сталинской власти от масс, её слабость, заставившую И. В. Сталина и его окружение постоянно лавировать в поисках социальных подпорок между различными слоями и группами советского общества. В контексте данного исследования нам сложно судить о мотивах поступков Сталина, однако рассмотренные нами материалы крестьянских обращений позволяют взглянуть на характер крестьянской репрезентации центральной власти несколько иначе.
Прежде всего, следует иметь в виду, что крестьяне писали свои обращения, письма, ходатайства в адрес советских политических лидеров. И делали они это регулярно. Поток крестьянских писем в органы власти оставался действенным каналом политической коммуникации на протяжении всех 1930-х годов. Думаю, с этим утверждением согласится любой исследователь, работавший с личными фондами партийных лидеров или материалами Рабоче-крестьянской инспекции. Другое дело, что круг адресатов был ограничен незначительным количеством имен. Из лидеров союзного уровня это, прежде всего, И. В. Сталин и М. И. Калинин. Последний был особенно популярен среди крестьян вероятно в силу крестьянского происхождения и кротости своего политического темперамента. Если Сталину писали как первому лицу государства, то в Калинине крестьяне нередко видели своего непосредственного заступника. Нередко крестьяне писали крайкома ВКП(б) С. А. Бергавинову и В. И. Иванову. Последний, подобно М. И. Калинину оценивался как защитник крестьянства на краевом уровне. Вероятно, также с его деятельностью жителями села связывалось легкое смягчение режрьма в годы «сталинского неонэпа». Хотя грамотные крестьяне могли читать газеты, а вся крестьянская масса подвергалась интенсивному пропагандистскому воздействию, круг активно фигурировавших в деревенской молве политических персонажей был сравнительно невелик. Так, житель деревни Красный Бор Тотемского района А. М. Дерябин, неожиданно для себя получив в феврале 1937 года премию в 2000 рублей, отнюдь недвусмысленно возносил славословия в адрес Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Калинина, Орджоникидзе, Жданова, Андреева, Чубаря, Постышева262. К числу лиц, имена которых были известны в деревне, следует добавить лидеров различных оппозиций - Троцкого, Бухарина, Каменева, которые, разумеется, не могли попасть в подобострастное письмо тотемского крестьянина, но фигурировали в деревенских слухах, даже после того как утратили влияние в политической жизни страны. Вообще уровень политической грамотности северного крестьянства оставался достаточно низким. Даже среди считавшихся политически более развитыми участников краевого слета ударников животноводства в 1935 году - по выражению региональных партийных функционеров - «многие из них не знали кем работают Сталин, Молотов, никогда не слышали о Димитрове, Тельмане»263. Если круг политических руководителей СССР крестьяне все же знали, то значение их должностей в системе власти и полномочия тех или иных лиц представляли с трудом. В этом отношении показателен вопрос делегата от Междуречинского района сталинского ударника Кашкина, прозвучавший на том же съезде: «Раз товарищ Сталин самый большой и дорогой для нас человек, то почему он секретарь, а тов. Калинин председатель»264. Примерно с той же дилеммой столкнулись несколько жительниц деревни Никуленское Кубино-Озерского
. Социальная идентичность
Одним из наиболее важных маркеров социальной идентичности для жителей села на протяжении всех 1930-х годов оставалось понятие крестьянин (крестьянство). Несмотря на все превратности судьбы, изменения юридического статуса, характера производственной активности и социальной организации на селе, деревенские жители продолжали считать себя крестьянами. Вероятно, в сохранение устойчивости этой социальной дефиниции свою обоюдную роль вносили как сила традиции, так и высокий оцениваемый политической пропагандой статус крестьянства в иерархии социальных групп советского общества.
Крестьянская идентичность жителей села проявлялась, прежде всего, в их антагонизме по отношению к городскому населению. Порою такая трактовка расходилась с официальной пропагандистской. В частности, в период сплошной коллективизации агитпроповская машина нередко вещала о союзе пролетариата и крестьянства в борьбе с эксплуататорским классом кулачества. В данном случае селяне готовы были скорее признать отсутствие антагонизмов внутри мира деревни (безусловно имевших место), нежели допустить мысль об общности своих интересов с жителями города (см. об этом в первом параграфе гл. 1 настоящей работы). Таким образом, представление о крестьянстве как о единой социальной общности порою оказывалось сильнее пропагандистских трактовок, переносящих на сельскирі социум структуры марксистско-ленинского классового анализа. Противопоставление себя миру города было характерным и для периода формирования колхозной деревни. «Деревня сеет хлеб, по голодует, зато город торгует», «Коров держать - масло городу отдавать, а самим воду хлебать», -говорили между собой колхозники колхоза им. Калинина Шенкурского района в 1934 году408. В 1937 году та же мысль звучала в высказываниях жителей Нижне-Кулойского сельсовета Верховажского района. «Пролетариат перевыполняет план промышленности, а мы сидим голодные», - говорили они409. Мысль о неэквивалентности обмена между городом и деревней высказывал на одном из собраний И.К. Тургин, житель Грязовецкого района: «Нас кругом обманывают, обвешивают, посылают запакованные товары неполновесные. Рабочему дают все, а мужику ничего»410. Отразился этот антагонизм и в деревенской частушке 1930-х годов. «Ныне служащие ходят все в суконных пиджаках, пятилетку выполняют на голодных мужиках», - распевали школьники в Каргопольском районе411. География даже перечисленных выше случаев показывает широкое распространение подобных взглядов среди жителей села. Конечно, в них в первую очередь отражался протест крестьянства против политики государственного ограбления деревни, но не увидеть общность сельских жителей, их противопоставление себя миру города (вплоть до отдельных атрибутов последнего) здесь также трудно.
Другим важным признаком принадлежности к крестьянству в воззрениях жителей села была трудовая деятельность в сфере сельскохозяйственного производства. Иногда даже под словом «крестьянство» они понимали не определенный социальный слой, а вид трудовой активности. Так, например, описывая хозяйственную деятельность одного из фигурантов политического дела, свидетель И... говорил: «Ранее занимался крестьянством, потом имел подсобное предприятие»412. Особенно часто ссылка на трудовой характер деятельности встречается в крестьянских «письмах во власть». Показательным в этом отношении является письмо группы жителей Нижне-Матигорского сельсовета Холмогорского района. Пытаясь доказать несправедливость раскулачивания, проведенного в отношении их хозяйств, они следующим образом аттестовали характер своей деятельности: «Онегин Иван Егор[ович] с малых лет работает, трудится не покладая рук. Своими собственными руками построил дом со скотным двором и вся биография его трудовая», «Михаил Петров... с малых лет работал в чужих людях в работниках и все время работал день и даже ночь», «Леонтьев Николай Михайлович... трудовой крестьянин... никогда не выпьет вина, сам себя оскудняет в пище»413. Подобного рода характеристики можно обнаружить и в других письмах крестьян в государственные органы. М. Д. Ламов в письме в редакцию «Крестьянской газеты» описывал свое хозяйство следующим образом: «Самое трудолюбивое хозяйство, работая и день, и ночь и отказывая себе во всем и всю жизнь...»414. М. Н. Улитин, житель Кубино-Озерского района, в 1932 году в письме в Севкрайком так охарактеризовал свой материальный достаток: «нажитое потом с мозолистых рук, перенося нужду и горе»415. Разумеется, в «письмах во власть» крестьяне, как правило, стремились доказать неэксплуататорский характер своих хозяйств, поэтому трудовой статус в них подчеркивался особенно выпукло, однако постоянство обращения к этому аргументу, проявляющееся вплоть до схожести формулировок, позволяет считать этот признак еще одним сравнительно устойчивым «маяком» в крестьянском сознании.