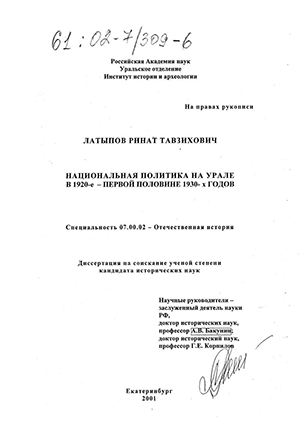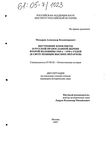Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Национальная политика Советского государства в 1920-е - первой половине 1930-х годов. Этнические меньшинства Урала и формирование национально территориальных образований 47
1.1. Основные направления национальной политики Советского государства в 1920-е - первой половине 1930-х годов 47
1.2. Национальный состав и численность этнических меньшинств Уральской области. Формирование национально-территориальных образований 67
Глава 2. Становление и развитие национальной школы на Урале в период с 1920 по 1934 годы 98
2.1. Ликвидация неграмотности среди национальных меньшинств на Урале 98
2.2. Материально-техническое, финансовое и учебно-методическое обеспечение национальных школ Урала 121
2.3. Развитие национальных школ Урала в условиях перехода к всеобучу 142
2.4. Система национального среднего специального образования на Урале 158
Глава 3. Культурно-просветительная работа среди национальных меньшинств Урала 182
3.1. Развитие на Урале национальных изб-читален 182
3.2. Организация работы библиотек и народных домов национальных меньшинств на Урале 193
3.3. Введение латинизированного алфавита среди этнических меньшинств Урала 206
Заключение 221
Источники и литература
- Национальный состав и численность этнических меньшинств Уральской области. Формирование национально-территориальных образований
- Материально-техническое, финансовое и учебно-методическое обеспечение национальных школ Урала
- Система национального среднего специального образования на Урале
- Введение латинизированного алфавита среди этнических меньшинств Урала
Национальный состав и численность этнических меньшинств Уральской области. Формирование национально-территориальных образований
В последние годы вопросы национально-государственного строительства, сове-тизациии изучает Л.В.Алексеева, предложившая свою переодизацию этих процессов86. Активизация изучения этнических процессов и национальной политики проявились в проведении региональных научных конференций: «Дни славянской культуры в Оренбурге» (1998); «Этнокультурная история Урала. XVI-XX вв.» (Екатеринбург, 1999); «Культурное наследие народов Западной Сибири» (Тобольск, 2000) и другие. Вышли и энциклопедические издания, содержащие материал по истории на 87 родов Урала в изучаемый период .
Анализ имеющихся работ по вопросам реализации национальной политики в 1920-1930-е годы показывает, что далеко не все аспекты этого сложного и многопланового процесса нашли своих исследователей. Детальную разработку получила преимущественно тема национально-государственного строительства на Урале, вопросы выравнивания правового и фактического положения наиболее многочисленных на циональных групп населения - башкир, татар, удмуртов. Недостаточно, на наш взгляд, изучены вопросы, связанные с проведением мероприятий в области национальной политики среди национальных меньшинств, необладавших собственной государственностью или проживавших за пределами своих автономий.
В связи с этим данная работа имеет своей целью расширить и углубить круг исследуемых вопросов, исправить ошибки в изложении событий, укоренившихся в литературе. Поэтому основное внимание в ходе исследования было уделено непосредственно документальным источникам - как опубликованным, так и архивным материалам.
Источниковая база исследования включает как архивные, так и опубликованные документы и материалы. Большое значение для объективного рассмотрения проблемы имеют документы, хранящиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Государственного архива Свердловской области (ГАСО), Центра документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) и Центрального государственного архива общественных объединений Республики Башкортостан (ЦГАООРБ).
Основной документальный материал был извлечен из фондов ГАСО. Особую значимость для исследования проблемы представляет фонд 233-Р (Уральский областной отдела народного образования) и фонд 17-Р (Екатеринбургский губернский отдела народного образования). В этих фондах отложились справки, постановления, циркуляры и учебно-производственные планы УралОНО и Уралсовнацмена, Уралоблис-полкома, их окружных и районных отделений, в которых содержится определенный фактический материал, охватывающий все стороны организации и деятельности на- циональных учебных заведений и культурно-просветительных учреждений. Наиболее богатая информация представлена в ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетах УралОНО и местных органов народного образования о культурно-просветительной работе среди этнических меньшинств Урала. В них, как правило, отразились данные о количестве национальных учебных заведений, численности обучающихся и педагогических работников, в том числе по этнической принадлежности и социальному происхождению. Здесь лее приведены данные по различным типам культурно-просветительных учреждений и их материально-финансового положения. Сопоставление этих отчетов между собой позволяет проследить изменения по различным ас пектам деятельности национальных образовательных и культурных учреждений на протяжении всего рассматриваемого периода.
Значительный объем информации, использованной в диссертации, содержится в фондах Уральского (Свердловского) областного исполнительного комитета Совета народных депутатов (Ф.88-Р) и Уральской областной Контрольной Комиссии ВКП(б) - областной отдел РКИ (1924-1934 гг.) (Ф.245-Р). В этих фондах хранятся постановления Уралоблисполкома, окружных и районных исполнительных комитетов, протоколы совещаний национальных учительских конференций, культпросветработников и партийно-советского актива национальных меньшинств Уральской области. Здесь же хранятся статистические сведения по национальным дошкольным и школьным заведениям, ликбезам, техникумам, избам-читальням, библиотекам, клубам, народным домам и красным уголкам, относящиеся к различным годам. Приведены данные о месторасположении, времени создания, источниках финансирования вышеуказанных учреждений и обеспеченности их помещениями, учебной литературой, кадрами, а. также цифровой материал, характеризующий основные (как, например, динамика роста числа образовательных и культурных учреждений нацменов, изменения процента грамотности среди нерусского населения, в том числе на вновь введенном латинизированном алфавите) и отдельные (подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и культпросветработников, их социальное и материальное положение, проблема второгодничества и отсева учеников, особенности культурной работы среди северных народов) направления их деятельности.
Особую ценность представляют сведения о руководителях, организаторах и активистах из местного национального населения в процессе культурных преобразований, инициативах (письмах, просьбах) со стороны национальных меньшинств. Все это предоставило нам возможность рассмотреть и охарактеризовать различные аспекты культурно-просветительной работы среди этнических меньшинств Урала.
Среди изученных фондов ЦДООСО наиболее богатая информация содержится в фонде 4 (Уральский (Свердловский) областной комитет КПСС). Культурные преобразования в стране проводились под руководством и контролем партии, поэтому постановления и решения Уралобкома ВКП(б), окружных и районных партийных комитетов в деле просвещения и культуры этнических меньшинств Урала рассматривались в то время как руководящие документы.
Материально-техническое, финансовое и учебно-методическое обеспечение национальных школ Урала
Границы образовавшихся республик часто не совпадали с историческим ареалом расселения того или иного этноса, а некоторые из них не завершили этногенеза. Очевидно, понимание этого обстоятельства позже вынудит официальных идеологов обосновать тезис о социалистических нациях и народностях (отличавшихся от первых, якобы, лишь по количественному параметру), корректность чего будет опровергнута последующим ходом исторического развития.
Кроме того, соотнося «национальное государство» (республику) с определенной коренной нацией - будто бы являющейся субъектом самоопределения, правящий режим фактически лишал причастности к своей государственности другие народы, нередко значительно превосходящие по численности, уровню образования - титульные.
Фактическая невозможность провести административные границы по границам этническим привела власть к необходимости привлечь к работе по национальному размежеванию этнографов и других специалистов, которые занялись территориа-лизацией этничества, заложив с тех пор мощную традицию этнического картографирования в российской этнографии. Но в конечном итоге в расчет бралось два приоритета: преимущество в прошлом угнетенной нации, для которой создавалась «своя» государственность и интересы экономического развития образуемых национальных республик и областей. Именно этим объясняется, что в границы многих национальных образований были включены территории с преобладающим иноэтничным населением. Не последнюю роль играли чисто волевые факторы, в том числе симпатии кремлевских вождей, а также низовое лоббирование и давление местных элит19.
Логика строительства государственности по национальному (этническому) принципу заставляла инициаторов того процесса идти по пути бюрократического формотворчества. С легкостью манипулируя судьбами миллионов людей, власть инициировала создание новых образований за счет территорий, население которых нередко тяготело к иной социокультурной модели поведения. Тем самым люди стано вились.фактически заложниками псевдогосударственного подхода, а подчас и просто прихоти высшего должностного лица.
Имитация удовлетворения «национальных интересов» того или иного народа путем «привязки» его к определенной территории побуждала партийные и советские органы к проведению политики расселения и переселения в зависимости от этнического состава населения волости, уезда, области или губернии. Все это осуществлялось крайне волюнтаристски, нередко в приказном порядке.
Начавшееся в 1920-е гг. размежевание дало весьма печальный опыт. Например, на Северном Кавказе казачьи земли без согласования с их населением включались в состав различных автономных образований. Так в 1921 г. в процессе оформления Горской республики к ней присоединили 17 казачьих станиц и хуторов, в которых проживало более 65 тыс. русских. Причем фактически насильственно присоединенные территории и их население подвергались постоянным нападениям, заканчивавшимся переделами казачьих земель в пользу горских народов.
Конечные решения не предварялись опросами населения, референдумами. В итоге закладывались «этнические мины» замедленного действия, начавшие срабатывать, когда ослабли скрепы партийного руководства и репрессивных институтов.
Как реализация решений партийных органов, в 1924-1925 гг. было проведено национально-государственное размежевание в Средней Азии. Единое цивилизацион-ное пространство, регион с этнической чересполосицей рассекли путем административной реформы, подгоняя под «типовую модель» национальной государственности. В итоге - заложили «свищи» на стыках республиканских границ, создали целый ряд, проблем во взаимоотношениях между народами. Противоречило это и интересам экономического развития региона.
Необходимо отметить, что Советская власть вначале пыталась проводить гибкую политику в отношении малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и пот лукочевой образ жизни, занимавшихся охотой, рыболовством, оленеводством. Им предоставлялось право на самоуправление с учетом обычаев и традиций (родовые Советы и их съезды, туземные управы, исполкомы и т.п.), создавались условия для развития традиционного хозяйственного и культурного уклада
Однако стремление дать «государственность» (вернее - псевдогосударственность) этим народам стало надуманным пропагандистским актом. Были созданы национально-административные образования, получившие позже национально-государственный статус национального округа, хотя для малочисленных народов Севера, к тому же дисперсно расселенных на огромной территории, наиболее эффективной формой обеспечивающей их интересы, наверное, была бы культурно-национальная автономия, сочетающаяся с созданием своего рода этнических терри- . торий (родовых угодий, зон проживания, заказников и т.п.).
Историк В.И.Козлов, объясняя процесс оформления после Октябрьской революции различных форм национально-государственных образований, считает, что это было вызвано текущими политическими мотивами. А федеративное устройство государства, пишет он, рассматривалось руководством страны как переходная ступень на пути к единому государству и поэтому народы получили различный государственный статус21.
В то же время автор отмечает, что национально-государственные образования способствовали политическому и социально-экономическому оформлению нации, укреплению и развитию национального сознания, обеспечению протекционизма в кадровой политике и развитии национального языка и культуры, в том числе использования национального языка в области образования, литературы и средствах массовой информации.
Идея этатизации этнического фактора механически тиражировалась на всех уровнях государственного устройства. Можно утверждать, что не оправдал себя опыт создания многочисленных национально-административных единиц типа национальных районов и сельсоветов. Процесс их организации осуществлялся по льготным нормам, требовал больших расходов, часто пестовал национальный эгоизм, когда представители национальных меньшинств, незначительные численно и рассредоточенные чересполосно, ставили вопрос о создании «своих» национальных районов22. К концу 1933 г. (как «успех» ленинско-сталинской национальной политики в СССР)
Система национального среднего специального образования на Урале
В «Положении о Комитете содействия народностям северных окраин при Тобольском окрисполкоме» от 19 ноября 1925 г. говорилось, что Комитет Севера имеет своими основными задачами: оздоровление туземного хозяйства, улучшение средств сообщения и связи, регулирование торговли и обмена, деятельность просветительских и лечебных учреждений, научное изучение края, охрана природных богатств, планомерное собирание сведений об истории и жизни туземцев.
Комитеты Севера разработали Временные положения об управлении северными народами и их судоустройстве. Согласно им, местное самоуправление состояло из двух инстанций: из родового собрания и родового совета и из районного туземного съезда и районного туземного совета. 9 января 1932 г. Президиум ВЦИК упразднил Тобольский округ и определил административно-территориальное деление новых округов: Остяко-Вогульский округ с центром в с. Самарово и Ямальский с центром в с. Обдорск. Округа были разделены на 12 районов .
С образованием национальных округов были распущены Комитеты Севера, сначала Тобольский, а затем Уральский, в 1935 г. ликвидирован Комитет Севера при ВЦИК. Упразднение комитетов Севера прервало их законотворческую деятельность. В 1931-1932 гг. в национальных округах проводились мероприятия по созданию советов и включению их в работу по решению всего комплекса социально-экономических и культурных проблем. В связи с этим в 1933 г. в округах прошли пленумы окрисполкомов, на которых был поставлен вопрос о перестройке работы советов, для чего были проведены курсы по подготовке секретарей национальных советов, направлены для оказания практической помощи на места работники окрисполко-, мов.
В 1933-1937 гг. советы формировались на основе «Положения об окружных съездах советов и окружных исполнительных комитетах национальных округов северных окраин РСФСР», утвержденного ВЦИК и СНК РСФСР 20 апреля 1932 г. В районах с оседлым населением создавались сельские советы, а где преобладало кочевое или полукочевое население - кочевые советы. Работа последних определялась особым положением, утвержденным ВЦИК. Национальными тогда именовались и сельские и кочевые советы. Проблема советского строительства среди народов Тобольского Севера под робно была освещена в трудах М.Е. Бударина, В.А. Зибарева, Л.Е. Киселева, М.А. Лаврентьевой, Г.А. Мазуренко, Н.Т. Онищук, В.Н. Увачана и др.81, которые были опубликованы в 1960-1970-е гг. Однако в силу своего времени по своему содержанию эти работы крайне идеологизированы, и сегодня представляют ценность в основном только с точки зрения накопленного фактического материала.
По мнению Л.В. Алексеевой, советизация 1920-х гг. не имела успеха у коренных народов Севера (хантов, манси, ненцев). Лишь в 1926 г. здесь появились советы, и их удалось создать только потому, что советам придали судебную функцию, что соответствовало обычаям северных народов82. Д.И. Копылов считает, что советское строительство закончилось провалом . Ю.П. Прибыльский говорит о двойственной природе советов: «сила и слабость советов заключалась в том, что они формально совмещали полномочия исполнительной и представительной власти, административные функции и элементы народовластия»84. О том, что процессы советизации имманентно не воспринимались народами Тобольского Севера свидетельствуют источники середины 1920-х гг. Так, в « Докладе об обследовании Тобольского Севера членами комиссии Уралоблисполкома» от 1 марта 1924 г. говорится, что в Александровском районе, где инородцы составляют 55,5 % населения, лишь в одном сельском совете - Фарьек был остяк. В Березовском районе туземцы в сельских советах имеются (6 зырян и 6 остяков из 28 членов сове та), но активной работы они не ведут и фактически являются декоративной частью советов, за исключением одного. В Сургуте остяки в советскую работу не втянуты. Из 2294 представителей этой народности они имеют лишь одного представителя в сельском совете Юган. В Самаровском районе в сельских советах нет ни одного инородца, а в Александровском и Березовском районах членами и председателями сельских советов остяки и зыряне бывают редко. «Самоедские и остяцкие роды, которые кочуют по урманам (лесам - Р.Л.) и тундрам дальнего севера - стоят совершенно в стороне от советского строительства, ни с какими административными учреждениями не связаны и механически приписаны к определенным сельским советам, расположенным в тех местах, где осенью и весной инородцы выходят из леса для продажи пушнины.
Управление этими кочующими инородцами, которые распадаются на роды и семьи, происходит родовыми старостами (ватажными старшинами). Они сохранились с царского времени, являются князьками и творят суд и расправу над инородцами. Сельскими советами им поручается сбор ясака (налога) среди инородцев» - подчеркивается в отчете85.
Хронологическое формирование Остяко-Вогульского и Ямальского округов совпадает с кампанией по коллективизации, раскулачиванию и переселению сотен тысяч людей на Север. Освоение края при помощи спецпереселенцев должно было помочь не только в решении экономических проблем, но и в проведении советизации и коллективизации аборигенов86. Национальные округа оставались в составе Уральской области до 1933 г., в последующем они вошли в Обско-Иртышскую область, а через год - в Омскую, в составе которой находились до августа 1944 г.
Введение латинизированного алфавита среди этнических меньшинств Урала
В связи с низкой квалификацией преподавательского состава национальных школ в течение 1924/25 учебного года были проведены учительские курсы для учителей национальных меньшинств. Эти областные двухмесячные курсы были запланированы на 112 часов. Для представителей трех наиболее крупных национальных групп были проведены одномесячные курсы, при этом для татаро-башкирских учителей было проведено 45 часов, марийских - 32 часа, коми-пермяцких - 31 час. В течение 1925/26 учебного года подобные курсы были вновь проведены. При этом для татаро-башкирских и коми-пермяцких учителей курсы проходили в течение полутора месяцев, для марийских - один месяц65. Надо отметить, что в 1924 г. в Уральской области через различные курсы было подготовлено 300 работников национальных школ, а в течение 1925/26 учебного года на педагогических курсах, которые проводились только за пределами области, прошло обучение более 300 человек66.
Для учителей национальных школ I ступени была разработана программа и курс обучения. Обучение проходило на родном языке, но со второго года обучения вводился русский язык. В национальных школах с четырьмя группами имелся особый преподаватель русского языка. Необходимость преподавания русского языка в школах национальных меньшинств очевидна. Но в начале 1920-х гг. преподавание русского языка в национальных школах рассматривалось как преподавание иностранного языка в русской школе, перелом начинается в 1927 г. Для учителя русского языка в национальной школе выделялось особое время, но часто его работа в школе проходила автономно, самостоятельно, будучи не связанной с производственным планом и учебным процессом национальной школы, поэтому, методы работы преподавания русского языка в национальной школе отличались от общих методов и принципов работы. Учителя русского языка шли ощупью, а в некоторых школах применяли «...такие нелепые приемы как мимика...»67. Таким образом, преподавание русского языка шло в разрез с общей программой национальной школы. Обычно, преподаватель русского языка в четырехлетней национальной школе обучал учащихся второй, третьей, четвертой групп. Учитель как предметник уделял каждой группе в среднем пять часов в неделю или один учебный час в день, он составлял расписание, согласуя время занятий с другими преподавателями. Учитель занимался в этих группах по своему плану обучения, руководствуясь учебниками, предназначенными для соответствующей группы, то есть для второй группы учебниками первого года обучения, для третьей группы - второго года обучения и для четвертой группы - третьего года обучения. В связи с введением со второй половины 1920-х гг. в национальных школах края нового плана обучения, рекомендованного Государственным ученым советом (ГУС), учитель русского языка оказался в весьма затруднительном положении. Его план обучения не совпадал с общим учебным планом комплексного обучения. Программы ГУСа предусматривали комплексное изучение определенной темы на, всех предметах, но учитель русского языка со своим планом обучения выпадал из общей системы преподавания.
Национальные меньшинства в основной массе проживали в сельской местности. В крестьянских семьях говорили исключительно на родном языке, поэтому ребенок до поступления в школу русским языком совершенно не владел. Таким образом, до 8-Ю летнего возраста мировоззрение ребенка из национальной семьи было связано с его родным языком. Преподавателям русского языка в национальных школах приходилось очень тяжело. Дети не всегда понимали предмет, не все усваивали, ходили на эти уроки с нежеланием. Ребенку было очень трудно усваивать материал, мысли его рассеивались, так как ему одновременно нужно было сосредоточить свою мысль-на том предмете, о котором идет речь, запомнить произношение слов на непонятном ему языке. Далеко не все преподаватели могли мобильно перестроить свой учебный план, в основной массе учителя работали по своим традиционным программам. Однако находились энтузиасты своего труда, которые перестраивали свой учебный план к определенной теме комплексного изучения программ ГУСа. (Так, например, темы: «Охрана здоровья», «Начало весенних работ» самостоятельно вносились ими в свой учебный план).
Были и другие причины, которые осложняли работу учителя русского языка в национальной школе. В большинстве случаев преподавателями русского языка в школах этнических меньшинств были русские, которые, естественно, родного языка обу 125 чаемых не знали. Работая с 3-4-мя группами учащихся учителю было очень трудно дать полноценные знания русского языка обучаемым. Поэтому учителя-нацмены предлагали открыть для них специальные курсы русского языка, чтобы они могли сами преподавать в своих школах русский язык.
В связи с введением русского языка в национальных школах 1 ступени, срок обучения был продлен с четырех до пяти лет. Это было обусловлено тем, что дети нацменов одновременно обучались на родном и русском языках, большим объемом изучаемого материала, а также отсутствием дошкольного воспитания и культурной отсталости детей национальных меньшинств не позволяло им полноценно усвоить учебный материал, предусмотренный программами ГУСа в течение четырех лет обучения.
Однако к 1925 г. не все национальные школы перешли на пятилетний курс обучения. Основной причиной этому было отсутствие средств и подготовленных школьных работников.
В 1925 г. УралОНО был принят второй вариант обучения тюркских народностей, который предусматривал введение дополнительной пятой группы после четырех лет обучения, таким образом, половина материала, изучаемая на четвертом году обучения переносилась на пятый. Среди финно-угорских народностей был принят первый вариант обучения/Согласно ему, до первой группы обучения открывалась нулевая . После обязательного введения преподавания русского языка для национальных меньшинств, в некоторых национальных школах прекратили обучать на родном языке, если преподавание на родном языке среди татаро-башкирского населения было поставлено четко (так как эти народы имели традиции обучения на родном языке еще в дореволюционное время, а после Октябрьской революции был накоплен определенный опыт по изданию учебной литературы), то среди школ финно-угорских народностей, и тем более народов Тобольского Севера, переход обучения на родной язык был частично произведен на первом и втором году обучения, а начиная с третьего года обучения переходили на русский язык, что было, безусловно, ненормальным явлением.