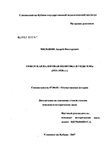Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Методологические аспекты изучения социальной политики . 88
1.1. Модернизационная парадигма и социальная история: методологический потенциал 88
1.2. Идейно-политические (доктринальные) основания социальной политики большевистской партии 111
Глава 2. Социальная политика и рабочий класс Южного Урала 125
2.1. Заработная плата как инструмент классовой политики: конфликт идеологических установок и экономической реальности 128
2.2. Политика занятости и неразрешимость проблемы безработицы в рамках нэповской экономики 144
2.3. Рабочий класс и власть: социальная эффективность государственной политики 174
Глава 3. Социальная политика и крестьянство Южного Урала 204
3.1. Налоговая политика и крестьянские комитеты как инструменты реализации классового подхода в социальной политике 206
3.2. Крестьянство Южного Урала и власть: от социального компромисса к социальному разочарованию 254
3.3. Кризис «деревенского НЭПа» 1928-1929 гг. на Южном Урале: отчуждение крестьянства от власти как фактор модернизационного срыва 283
Глава 4. Дополнительные инструменты управления социальными процессами на Южном Урале в годы НЭПа 320
4.1. Народное образование: медленное накопление модернизационного потенциала 322
4.2. Здравоохранение, социальное обеспечение и жилищно-коммунальная политика: государственный патернализм в рамках возможного 354
Заключение 403
- Модернизационная парадигма и социальная история: методологический потенциал
- Заработная плата как инструмент классовой политики: конфликт идеологических установок и экономической реальности
- Налоговая политика и крестьянские комитеты как инструменты реализации классового подхода в социальной политике
Введение к работе
Каждый новый этап развития общества даёт исторической науке возможность вновь «поверить» прошлое настоящим, посредством ретроспективного анализа увидеть те детали, черты и закономерности, которые прежде ускользали от внимания исследователей и/или трактовались односторонне. Такое «переосмысление» прошлого не только делает глубже и прочнее «связь времён», но и предоставляет возможность власти и обществу извлечь «исторические уроки» из успехов и неудач пройденного пути, объективнее оценить собственные силы и возможности.
Сказанное вполне справедливо для нынешнего этапа развития российского общества, характеризующегося сложными переходными процессами, напряжённым поиском оптимальной системы социально-экономической, политической, социокультурной организации, способной модернизировать страну применительно к требованиям нового постиндустриального века и обеспечить тем самым сохранение и укрепление статуса России как одной из ведущих мировых держав1.
Само состояние «переходности», в котором оказалась Россия после распада СССР, предопределило и продолжает предопределять противоречивость и неоднозначность всех сторон жизни страны. Наверное, одним из самых явственных показателей противоречивости современного развития явился ход социальных процессов: формирование новой социальной структуры и порождаемые этим процессом сложные конфликты. В условиях растущей социально-имущественной поляризации общества, ухудшения или стагнации жизненного уровня значительной части населения, на первый план объективно начинает выходить задача проведения такой государственной социальной политики, которая содействовала бы движению модернизирующейся России в направлении «социального государства».
См.: Постиндустриальный мир и Россия. М.: Эдиториал УРСС,2001. В этой связи в последние годы всё более популярной в политических и интеллектуальных кругах страны становится идея об активной регулирующей роли государства в социальной сфере. Определённые признаки качественного изменения государственной социальной политики, наблюдающиеся уже несколько лет, дают основания полагать, что подобная идея начинает воплощаться в реальные действия власти.
При всей относительности исторических аналогий и сравнений нельзя не отметить, что в недавней истории России уже был опыт государственного регулирования социальных процессов в условиях переходного общества - опыт 1920-х гг., этапа развития, вошедшего в историю как «эпоха НЭПа». Признавая существенные отличия этих исторических ситуаций, нельзя не отметить два важных системных сходства нэповской и постсоветской России: в обоих случаях имелись смешанные системы в экономике, сочетавшие частную, государственную и кооперативные формы собственности, а перед обществом в целом стояла задача поиска наиболее быстрого и эффективного пути всесторонней, в том числе и социальной, модернизации.
Как хорошо известно, исторический опыт является неотъемлемым элементом любого научного познания действительности, способного должным образом рационализировать политику власти, придать ей необходимую эффективность. Поэтому представляется, что новое обращение к изучению истории НЭПа, эпохи перехода к новой системе общественного устройства, обладает не только научной самоценностью, но и приобретает в таком, в частности, её аспекте как история государственной социальной политики, практически-политическую актуальность.
В отечественной историографии НЭПа, переживающей в последние годы очевидный качественный подъём, на первый план вышло понимание того времени как чрезвычайно сложного, многосоставного, противоречивого и динамического процесса. Всё большую поддержку в научном сообществе находит точка зрения, высказанная в своё время В.П.Дмитренко, о том, что переход победивших в гражданской войне большевиков к политике нэпа означал «появление альтернативного пути развития послеоктябрьского общества» . Высказывается аргументированное мнение и о том, что внутри самого нэпа долгое время сохранялась определённая внутренняя альтернативность разных вариантов развития .
Естественно, что при таком понимании нэпа политика большевистской власти не может рассматриваться как нечто однородное. Исходная противоречивость положения, при котором партия, захватившая власть ради кардинального переустройства общества на социалистических началах, переходит к использованию экономических методов и средств, характерных как раз для отвергаемого её идеологией буржуазного общества, неизбежно должна была проявиться и в такой важной сфере как социальная политика.
Поставив перед собой задачу «переоснования» традиционного российского общества, лидеры большевизма, в первую очередь В.И.Ленин, именно государству, монопольной властью в котором обладала партия, отводили решающую роль в конструировании новой социальной действительности в соответствие с объективно существующими, по их убеждению, законами общественного развития, открытыми Марксом.
Большевистская партия должна была, особенно после официального принятия лозунга «строительства социализма в одной, отдельно взятой стране», практическими действиями убедить население страны в том, что социалистическая траектория развития действительно соответствует коренным, жизненным интересам людей. Можно сказать, что государство в такой ситуации объективно становилось, прежде всего, социальным государством, по политике которого, по тому, как она способствует улучшению жизни людей, население страны способно было судить о совпадении своих собственных интересов с интересами власти.
Модернизационная парадигма и социальная история: методологический потенциал
Принципы системности и историзма, лежащие в основе научного исследования социальных явлений, требуют рассмотрения социальной политики как составной части функционирования всей государственно-политической системы и одновременно как конкретно-исторического процесса, развивающегося во времени, претерпевающего эволюцию и тесно связанного как с прошлой традицией, так и порождающего в ходе собственной эволюции новую традицию. Поэтому методологической основой частного исследования, каковым и является изучение социальной политики Советского государства 1920-х гг., должен стать метод более высокого порядка, позволяющий исследовать всю советскую систему, а не только её отдельные элементы. Основываясь на нём, становится возможным вычленить отдельные исследовательские инструменты, подходящие для анализа тех или иных сторон функционирования всей системы.
Российское обществоведение последних 15 лет апробировало уже целый арсенал методологических подходов, преимущественно заключающихся в применении (с определённой адаптацией) подходов, ранее разработанных в зарубежных социальных науках. Обсуждение методологических проблем исторического знания, развернувшееся в отечественной научной периодике1, показало, что в целом профессиональное историческое сообщество приняло принцип методологического плюрализма, естественно, с той оговоркой, что речь идёт о действительно научных методах, а не об их различных квазинаучных имитациях.
Одной из самых характерных черт нынешнего этапа исторических исследований стало стремление учёных к междисциплинарным подходам, творческому использованию методов и приёмов, которые проявили свой гносеологический потенциал в смежных областях обществознания (социологии, политологии, социальной психологии, экономике и т.д.).
Как уже отмечалось во введении, всё больший интерес историков стал привлекать метод исследований, сформировавшийся в рамках так называемой «теории модернизации». Вернее даже будет говорить о «методах», объединённых в рамках общего подхода, обозначаемого как «модернизационная парадигма» современного обществознания.
Это связано с тем, что теория модернизация изначально создавалась и впоследствии развивалась не как универсальный инструмент познания общественных процессов, в равной мере применимый ко всем странам и эпохам, а как метод, эффективный для исследования преимущественно переходных эпох, тех периодов в истории стран, когда совершается их переход от традиционных, аграрных обществ к обществам индустриальным. Накопленный в западной социальной науке опыт показал, что именно при изучении таких исторических периодов модернизационный подход позволял достигнуть реального увеличения нового научного знания1.
С этой точки зрения правомерным представляется использование модернизационного подхода для изучения той общественной системы, которая существовала в России/СССР на протяжении 1920-х гг., поскольку в это время советское общество представляло вполне типичный для не западноевропейского мира пример страны, находящейся в состоянии незаконченного перехода в индустриальное состояние или, если использовать принятую в социологии и политологии терминологию, в состоянии незавершённого «транзита».
Несмотря на радикальные социально-политические сдвиги, в социально-экономическом и социокультурном отношении нэповская Россия обладала высокой степенью преемственности по отношению к России второй половины XIX - начала XX в., когда самодержавный политический режим уже начал осуществлять ряд преобразований, объективно означавших переход к раннеиндустриальной модернизации страны. Провозглашаемые большевистской партией разрыв со «старым миром» и создание принципиально нового, социалистического общества в экономическом плане были невозможны без всесторонней индустриализации страны, иначе говоря, без доведения до конца решения одной из главных модернизационных задач.
Советское государство, унаследовавшее от прежнего самодержавного режима ту же объективную историческую задачу, вынуждено было на протяжении всего периода НЭПа решать её в пределах сложного переплетения
различных социально-экономических укладов, тесно связанных, особенно в сельском хозяйстве, с предыдущей системой социально-экономических взаимоотношений, но одновременно облекать свои решения в «новые идеологические одежды», воплощением которых являлась марксистская доктрина в её большевистской интерпретации.
Поэтому можно говорить о том, что идеологическое целеполагание большевизма в годы НЭПа, в конечном итоге вылившееся в лозунг «строительства социализма в одной, отдельно взятой стране», а на практике в первый пятилетний план, в основе своей носило ярко выраженный модернизаторский характер и укладывалось в общую линию поиска национального пути перехода к индустриальному типу развития.
Действительность нэповской России - это действительность модернизирующегося общества, в котором государство в соответствие с самовоспроизводящейся традицией природно-географического характера вновь стало, особенно с 1925-1927 гг., выступать в роли главной организующей силы возобновления прерванного войнами и революциями процесса. Российский социум, в лице составляющих его многочисленных социальных классов, слоев и групп, в основе своей ещё аграрный, с усилившимися элементами архаичности, находился в состоянии сознательного и бессознательного самоопределения: формально-по отношению к новой государственной власти, а по глубинному содержанию - по отношению к рождающейся из большевистской доктрины национальной программе завершения индустриального транзита.
Заработная плата как инструмент классовой политики: конфликт идеологических установок и экономической реальности
До революции основная часть территории Южного Урала входила в состав двух губерний - Оренбургской и Уфимской. В экономическом отношении это был сельскохозяйственный регион, полностью обеспечивавший себя продовольствием и вывозивший его преимущественно в соседние горнозаводские районы Среднего Урала (Пермская губерния).
По сравнению со Средним Уралом промышленность на юге Урала была развита в гораздо меньшей степени. Имелись горнорудные и металлургические заводы, сосредоточенные в нескольких городах (Златоуст, Челябинск) и рабочих посёлках, механические мастерские, связанные с обслуживанием железной дороги, проходившей через Южный Урал в Среднюю Азию (на Ташкент), предприятия по производству мелкой сельскохозяйственной техники и по деревообработке, но наибольшее их количество было связано с переработкой сельскохозяйственного сырья. Такие предприятия, как правило, имели небольшие размеры, работали на местный рынок и скорее походили на кустарное производство доиндустриальной эпохи.
По данным частичной демографической и промышленной переписи 1920 г. в городах и городских посёлках Южного Урала проживало лишь около 10% всего населения, что было почти в два раза меньше, чем в городах и городских посёлках Среднего Урала1. Вопрос о численности рабочих в составе населения Южного Урала в начале 1920-х гг. остаётся дискуссионным. Согласно наиболее, на наш взгляд, авторитетной оценке уральского историка В.В.Фельдмана, по отношению ко всему населению численность рабочих (включая занятых в мелком, кустарном производстве) не превышала 4 - 4,5% .
Особенностью южноуральского рабочего класса, как и всего уральского пролетариата, было сохранение тесных связей с землёй: у рабочих, особенно в посёлках, существовавших при рудниках и заводах, обычно имелись небольшие земельные участки, обработка которых велась для личного потребления. Наличие таких участков отчасти компенсировало низкую заработную плату на предприятиях. Это положение сохранилось и в годы НЭПа. Так, в одной из сводок ОГПУ, направленной в начале 1923 г. руководству страны, констатировалось, что в Башкирии «жизнь рабочих мало отличается от жизни крестьян, так как большинство из них собственники и имеют своё хозяйство. Городских рабочих в республике очень мало»1.
В годы Гражданской войны в условиях военных действий, захвативших практически всю территорию Южного Урала, общего спада производства (к 1921 г. остановилось более половины всех промышленных предприятий) имело место сокращение численности рабочих, но массовой миграции рабочих в деревню не произошло: лишившись работы на заводах, они стали усиленно заниматься своим хозяйством, позволявшим обеспечить минимальные потребности и выжить в этих трудных условиях. Так, согласно данным Челябинского губотдела ГПУ, более 50% всех рабочих Челябинской губернии, помимо своих прямых работ на производстве, постоянно занимались и ведением сельского хозяйства (главным образом, огородничеством), а в условиях поразившего губернию в 1921 - 1922 гг. голода этим занялись «почти все 100% рабочих»2.
Голод 1921 - 1922 гг. носил для региона не менее катастрофический характер, чем для Поволжья. Вся территория Южного Урала была отнесена, согласно нескольким решениям Центрального комитета помощи голодающим ВЦИК РСФСР, к голодающим районам .
В Башкирии в ноябре 1921 г. голодало до 90% всего населения, в Уфимской губернии в декабре 1921 г. - до 80-85%4, на пике голода, наступившем в Оренбургской губернии в 1922 г., голодало 4/5 всего населения . Количество голодающих в Челябинской губернии в начале апреля 1922 г., по сведениям, приводимым в информсводке ГПУ, направленной высшему руководству страны, составило более 600 тыс. чел., то есть почти 80% населения . В мае 1922 г. губисполком сообщал, что «общее количество голодающего населения губернии не поддаётся точному учёту» и к нему можно отнести всё сельское население, то есть 957 тыс. чел.3
Налоговая политика и крестьянские комитеты как инструменты реализации классового подхода в социальной политике
Переход от продразвёрстки к продналогу явился первым и решающим шагом по изменению политического курса большевистской партии. Уже одно это обстоятельство обозначило ключевое место, которое налоговая политика заняла с этого момента в отношениях большевистской власти с крестьянством.
Формирование основ этой политики было в известной мере приторможено и затруднено ситуацией острого социально-экономического кризиса, в которой происходил переход к новой экономической политике, обрушившимся на многие районы страны в 1921-1922 гг. голодом, неоднозначной реакцией значительной части членов партии на такой резкий политический поворот.
Как сам продналог, так и вытекающая из него свобода частной торговли воспринимались большинством большевиков как временное отступление, манёвр, предпринимаемый для удержания в своих руках политической власти, но отступление только до известного предела. Уже в марте 1922 г. Ленин заявил о том, что отступление закончено, «дальше назад мы не пойдём, а займёмся тем, чтобы правильно развернуть и группировать силы»1.
Такая постановка вопроса означала, кроме всего прочего, и необходимость ясно определить ту границу, где «отступление закончено», по всем аспектам нэповской политики.
В отношении налоговой политики в деревне это было сделано в апреле 1923 г. на XII партийном съезде. О сложностях, которые возникли при определении партийной линии в налоговой области, свидетельствует то обстоятельство, что по данному вопросу выступили три содокладчика: Л.Б.Каменев, М.И.Калинин и Г.Я.Сокольников. Показательно и то, что решение вопроса было перенесено в комиссию без открытия прений на самом съезде.
В резолюции «О налоговой политике в деревне», одобрившей переход к единому прямому сельскохозяйственному налогу в смешанной натурально-денежной форме, признавалось, что при установлении конкретных размеров налога «Советская власть должна руководствоваться интересами развития и поднятия сельского хозяйства», но при этом подчеркивалось, что распределение налогов следует проводить «с наибольшей выгодой для бедноты». Обращала на себя внимание и достаточно жёсткая формулировка последнего пункта этой резолюции: « ... меры к облегчению положения крестьянства ... отнюдь не освобождают его от необходимости напрячь все силы для удовлетворения предъявленных крестьянству Советским государством требований»1.
Ещё более определённо цели налоговой политики были сформулированы в резолюции «О работе РКП в деревне»: «Наше законодательство (в первую очередь налоговое) должно учитывать классовое деление в деревне, соответственно возлагая главные экономические тяготы на наиболее зажиточные хозяйства. Как самые декреты и распоряжения центральных органов, так и применение их на местах должны облегчить экономические тяготы, падающие на маломощные хозяйства, вплоть до полного освобождения от тех или других из них (например, от некоторых налогов) беднейших слоев деревни»2.
Следует обратить внимание на то, что в принятые резолюции не попали носившие несколько иной акцент высказывания основных докладчиков, Каменева (распределение налога по крестьянским хозяйствам должно проводиться так, чтобы «не подорвать личной заинтересованности крестьянина в увеличении производительности его труда») и Калинина (обложение надо проводить так, чтобы оно «не тормозило развития крестьянского хозяйства») .
Последующий опыт взаимоотношений государства с крестьянством показал, что именно установка на классовый характер налогообложения, а не на те стимулы, которые оно должно было создавать для развития крестьянского хозяйства, играла роль определяющей на всём протяжении НЭПа.
Конечно, классовый акцент в решениях по налоговой политике, принятых на XII партийном съезде, отражал, прежде всего, доктринальные установки большевизма. Но вместе с тем свою роль играли и вполне прагматичные соображения экономического характера: прогрессивная налоговая шкала позволяла, с одной стороны, получить из села необходимую продукцию (большая часть которой, естественно, оказывалась сосредоточена в зажиточных, а не в бедняцких хозяйствах), с другой стороны, оставляла менее успешным хозяйствам некоторый минимальный ресурс, требующийся для их дальнейшего развития, то есть не только поддерживала «на плаву» слабые хозяйства бедняков, но и давала им шанс потом «подняться».
Важность последнего обстоятельства выявилась в ходе первых продналоговых кампаний, показавших, что положение бедняцких хозяйств, платящих налог, часто оказывалось относительно более тяжёлым, чем хозяйств зажиточных. А это было чревато негативными для власти политическими последствиями. Их реальность и потенциальную опасность подтверждала и налоговая практика Южного Урала.