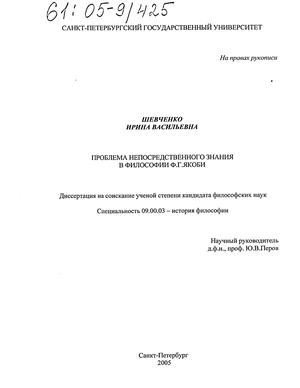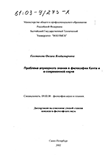Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Бог и свобода: проблема свободы и непосредственного знания в ранних произведениях Якоби
1. История творчества Якоби 27
2. Социально-философские взгляды Якоби в ранних работах (1773-1785) 39
3. Этическая интуиция: проблема непосредственного знания в романах Якоби 65
Глава II. Интуиция и реальность: основные положения теории «непосредственного знания»
1. Непосредственное и опосредствованное знание 94
2. Чувственное восприятие 106
3. Восприятие сверхчувственного. Разум и вера 116
4. Сущность и функции рассудка 132
Глава III. Якоби и немецкий идеализм
1. Кант и Якоби. Начало критики трансцендентальной философии 140
2. «Привилегированный еретик»: Якоби и Фихте 159
3. Критика спекулятивной теологии: полемика Шеллинга и Якоби 165
4. Абсолютный реализм и абсолютный идеализм: Якоби и Гегель 176
Заключение 184
Библиография
- История творчества Якоби
- Социально-философские взгляды Якоби в ранних работах (1773-1785)
- Непосредственное и опосредствованное знание
- Кант и Якоби. Начало критики трансцендентальной философии
Введение к работе
Актуальность проблемы. Насущная необходимость исследования проблемы непосредственного знания в философии Якоби обусловлена прежде всего тем, что не только эта проблема, но и творчество Якоби в целом до сих пор не стали предметом систематического изучения в отечественной философии. Наличие этого «белого пятна» в российской историко-философской науке, практически полное отсутствие интереса к работам этого весьма оригинального мыслителя тем более странно, что он был настоящим «серым кардиналом» немецкой философской классики, сыгравшим важную роль в её генезисе и развитии. Без точного и детального анализа этой роли история великого духовного движения от Канта к Гегелю не может быть понята достаточно полно и глубоко. Неопределенность понятия «непосредственное знание», причисление Якоби к «философам чувства и веры» нередко создавали слишком приблизительное и туманное представление о философии Якоби - как «субъективистской» и «индивидуалистической», что служило поводом для её неверного истолкования, объявления её реакционной, ретроградной и даже сугубо «личной». Подобные оценки закрывали путь к пониманию как её действительной роли в истории немецкой философии, так и её теоретического значения.
Более того, значение творчества Якоби не ограничивается его местом в истории немецкой философии классического периода, второй половины XVIII- первой трети XIX вв., выходя далеко за её пределы, поскольку в некоторых важных пунктах его критика немецкого диалектического идеализма не могла быть адекватно оценена его великими современниками - она предвосхитила идеи «философии жизни» и той критики, которой «классическая» философия «разума и сущности» была подвергнута в «неклассической» философии ХІХ-ХХ вв., ориентированной на конкретное «существование». Интуитивизм и реализм Якоби обрели новую жизнь и получили новое истолкование в современной философии. Без изучения творчества Якоби и его влияния картина философского развития ХІХ-ХХ вв. также остаётся неполной и неточной, особенно в части, касающейся экзистенциально-феноменологического движения и различных форм философского интуитивизма.
Основные положения философии Якоби и его учения о примате непосредственного знания представляют несомненный теоретический интерес в связи с современными дискуссиями о месте философии в духовной жизни общества, о сущности и границах научного знания и его значении для мировоззрения личности, об отношении науки и религиозной веры, а также в связи с проблемами отношения дискурсивного и интуитивного, философских систем и фрагментарного философствования, естественной закономерности и свободы человека и др. Философия Якоби в современной духовной атмосфере России представляется, пожалуй, не менее современной и актуальной, чем учения его великих оппонентов - Фихте, Шеллинга или Гегеля.
Сложность поставленной проблемы состоит в том, что философские взгляды Якоби имеют преимущественно «рапсодический» характер. В диссертационном исследовании предпринята лишь первая попытка целостной реконструкции учения Ф.Г.Якоби, которая необходима для истолкования его взглядов на «непосредственное» знание. Суть этой проблемы становится ясной лишь контексте целого.
История исследования творчества Якоби в XIX-XX вв. В отечественной историко-философской науке Якоби не посвящено ни одного отдельного, систематического исследования. Проблема непосредственного знания специально рассматривается лишь в статье О.Котельниковой, опубликованной в 1922 г. и кратко формулирующей основные положения философии Якоби1. Автор верно подчёркивает реалистическую направленность идеи «непосредственного знания». Разрозненные замечания о взглядах Якоби можно найти в книге В.А.Кожевникова 1897 г., содержащей общую оценку смысла и значения его «философии чувства и веры» . В одной из глав книги В.Ф.Асмуса 1965 г. понятие интуиции в творчестве Якоби оценивается с позиций диалектического материализма3.
Первый систематический обзор истории влияния и исследования творчества Якоби дан в работе его биографа Э.Цирнгибля, вышедшей в 1867 г.4 Сжатое изложение истории влияния и оценок взглядов Якоби с 1850 г. по начало 70-х гг. XX в. даёт немецкий якобиевед К.Хоман5.
Первые фундаментально обоснованные теоретические оценки сущности и значения взглядов Якоби, и прежде всего - на «непосредственное» знание, принадлежат классикам немецкого идеализма.
В критической части своего учения, направленной против рассудочного рационализма просветителей, Якоби получил поддержку Канта, который сразу обратил внимание на его понимание «веры», как непосредственного знания, вкратце изложенное в конце работы «Об учении Спинозы, в письмах к г-ну Моисею Мендельсону». В адресованном Якоби письме, по случаю второго издания этой книги в 1789 г., Кант отмечает: «Вы впервые с величайшей ясностью представили те трудности, которые окружают телеологический путь к теологии...»6. Кант соглашался с Якоби в том, что в разговоре о сверхчувственных предметах необходимо опираться на некое «дополнение» к рассудку, «сверхчувственную способность», выходящую за пределы «спекуляции», но лежащую всё же «в самом разуме». Эту «сверхчувственную способность» Кант, однако, понимал иначе, чем Якоби, и потому к положительной части его взглядов отнёсся иначе. В апреле 1786 г. он даёт в письме к М.Герцу первую, весьма суровую и, в сущности, ошибочную их оценку: «фантазии Якоби представляют собой не что-нибудь серьёзное, но лишь аффектированное мечтательное гениальничанье, чтобы сделать себе имя, и потому едва ли заслуживают серьёзного опровержения»7. Немного позднее Кант подверг Якоби критике в статье «Что значит ориентироваться в мышлении?». Канта, как мы уже отметили, более всего беспокоила опасность утраты свободы вследствие ограничения прав разума и науки со стороны религиозного «чувства» и «непосредственного знания» о сверхчувственном : умаляя разум, всегда открывают дверь невежеству, фанатизму и деспотизму.
И Фихте, и Шеллинг, и Гегель уделяли большое внимание сочинениям Якоби. Все они признавали своеобразную «посредническую» роль Якоби в переходе от кантовского дуализма к спекулятивной диалектике. То, что Якоби в 1785 г. превозносил философию Спинозы как истинную, в научном отношении совершенную философию, и несколько позже порицал Канта за то, что замысел последнего был исполнен только наполовину, стало в известной мере побудительным толчком к разработке философии «конкретного» тождества мышления и бытия.
Наиболее развёрнутое изложение этой оценки было дано Шеллингом и Гегелем. Оба они решительно выступили против утверждения Якоби, что невозможно научное познание Бога и построение научной философской теологии.
Это «фанатическое основоположение», согласно Шеллингу, составляет «средоточие образа мыслей Якоби»9. Стремление Якоби не пускать науку в сферу богопознания Шеллинг считает страхом перед разумом, ненавистью к нему, «учением добровольной слепоты». С одной стороны, Якоби убеждён в том, что непосредственное знание о Боге, именно в силу своей непосредственности, в принципе не может принять форму науки, с другой, он хочет сохранить права разума. Получается, что знание о божественных вещах невозможно, но «знание о Боге» есть «самое достоверное в человеческом духе». Нельзя доверять такое важнейшее дело, как познание Бога, личному, внутреннему и непосредственному «двусмысленному чувству», за которым могут укрыться всякие бессмыслицы. «Чувство сверхчувственного», о котором верно говорит Якоби, необходимо развить до степени развёрнутого философского сознания. Точка же зрения Якоби «делает невозможным всякий научный теизм». Шеллинг признал правоту Якоби в его полемике против «рационалистических систем», но усматривал существенный недостаток его работ в том, что они не идут дальше полемики10. Якоби фактически уступил поле боя рационализму, противопоставив рационалистическому пониманию знания и науки своё «незнание» и «чувство», а не другое, более высокое и истинное понимание философии как науки. Тем самым он и себя лишил возможности достичь «более высокой науки». Такая позиция и привела его учение к «духовному истощению», которое и составляет «истинный характер философии Якоби»11. Таким образом, её историческое значение состоит в том, что она стоит на границе двух эпох. «Рассудок» Якоби целиком принадлежал ушедшей эпохе классического рационализма, но «чувство» влекло его дальше, в ту духовную страну, контуры который уже вырисовывались вдали. Шеллинг имеет в виду послекантовский немецкий диалектический идеализм. Мы должны «почтить и признать его как невольного пророка».
Гегель высоко ценил творчество Якоби и интересовался его работами на протяжении всей своей жизни. В своих лекциях по истории философии он начинает изложение «новейшей немецкой философии» именно с Якоби. В «Энциклопедии философских наук» Гегель завершает введение к своей Логике «третьим отношением мысли к объективности», т.е. точкой зрения Якоби (после «эмпиризма» и Канта). Незадолго до смерти, в рецензии на издание собрания сочинений Гамана1 , Гегель цитирует оба тома избранной переписки Якоби, вышедшей в 1825-1827 г.
Впервые он подверг Якоби развёрнутой критике в работе 1802 г. «Вера и знание, или рефлексивная философия субъективности...», опубликованной в их совместном с Шеллингом «Критическом журнале»1 . Субъективная вера в вечное, утверждает здесь Гегель, не должна остаться «смутным чувством», она должна стать «артикулированным научным словом (логосом)» . Пятнадцать лет спустя, в рецензии на третий том «Сочинений» Якоби (1817 г.)16, Гегель признаёт ограниченную правоту Якоби в критике рассудочной метафизики, но его мышлению недостаёт научной формы, определённого и надёжного метода, «развития понятий». Отсюда - остатки «непосредственного» знания и иррациональность свободы. Историческое значение Якоби состоит в том, что вместе с Кантом он положил конец прежней рассудочно-рациональной метафизике, обосновав тем самым необходимость совершенно нового взгляда на природу логического, на отношение между мышлением и абсолютным17. Именно благодаря этому творчество Якоби «составило эпоху» в истории не только немецкой, но и всей мировой философии . Но его коренное заблуждение - убеждение в том, что наука не может познать божественное, и именно в форме понятия19. Его философия, будучи лишённой научной формы, лишь в которой и может адекватно развернуться идея абсолютного, остаётся на уровне смутных чувствований и субъективных «уверений». Иначе говоря, критика рассудочного познания и непосредственное «чувство» абсолютного у Якоби - лишь заря перед восходом солнца абсолютного идеализма .
Признавая «эпохальное значение» критики рассудочной метафизики, то есть «конечного познания», Гегель совершенно не приемлет трактовки спекулятивного познания как «непосредственного». В «вере» Якоби отсутствут всякое определённое содержание. Вера, лишённая уже позитивного, традиционного содержания, но не наполненная ещё философскими определениями чистого мышления, совершенно пуста, и представляет собой, по сути, простое чувство благоговения, не имеющего никакого определённого предмета. Якоби и Кант делают одну и ту же ошибку, противопоставляя безо всякого опосредствования конечное и бесконечное, из чего следует вывод о непознаваемости бесконечного, или невозможности содержательного определения абсолютного. Подобное противопоставление конечного и бесконечного не замечает, что бесконечное, которое имеет «вне» себя всё конечное, тем самым и само понимается как конечное.
Особенно важно отметить для дальнейшего исследования, что средоточие философии Якоби Гегель усматривает в том, что он придаёт основополагающее значение свободе личности. Тем самым он переходит от понятия абсолютной субстанции (Спинозы) - к понятию абсолютного духа, или субстанции-субъекта: «благодаря Якоби самым определённым и решительным образом был подчёркнут момент непосредственности познания Бога. Бог - не мёртвый, а живой Бог; он есть даже нечто большее, чем живой Бог - он есть дух и вечная любовь, и он является таковым исключительно благодаря тому, что его бытие не абстрактно, но представляет собой движущееся внутри себя различение, познание самого себя в отличной от него личности; и его существо есть непосредственное, т.е. сущее единство лишь постольку, поскольку это существо вечно сводит упомянутое вечное опосредствование к единству, и это сведение само и есть это единство, единство жизни, самоощущения, личности, знания о себе» . Однако осуществив этот переход от субстанции к духу в глубине своей собственной души, Якоби не сумел придать своему воззрению адекватную научную форму.
В «Лекциях по истории философии» Гегель подробно останавливается на понятии «непосредственного» знания. Суть его критики проста: всё непосредственное опосредствовано; принцип непосредственности в религии ведёт к идолослужению, поскольку «непосредственно» даны лишь вещи в их телесной единичности. Однако Бог Якоби - не языческий идол, а «предмет духа», следовательно, его понятие о Боге достаточно многообразно опосредствовано, прежде всего - воспитанием и образованием, «длительной, непрерывной культурой». И то, что Якоби принимает своё знание о Боге за «непосредственное» прикосновение Бога к душе, можно объяснить только «недостатком элементарной рефлексии» , которая легко обнаруживает, что подобная «непосредственность» возникает лишь в результате «снятия» предшествующего опосредствования. Для религиозного сознания это понимание своего собственного генезиса совершенно не нужно, как и для пищеварения нет нужды в знании физиологии, но философия должна знать об этих опосредствованиях и показать их. Более того, философия только и делает, что заставляет осознать те опосредствования, которые уже содержатся во всех предметах её рассмотрения23. Строго говоря, уже само понятие «знания» предполагает некое определённое и тем самым различённое внутри себя содержание. Если же «знание» о Боге непосредственно, то это означает, что мы знаем о Боге лишь одно - что он существует. Любая дальнейшая попытка сказать, что именно «существует», была бы уже опосредствованием. И если бы Якоби был вполне последователен в своём настаивании на непосредственности богопознания, т.е. возможности одного лишь чувствования Бога, то он получил бы тот же самый результат, что и критикуемая им рассудочная метафизика: совершенно пустую абстракцию «высшего существа».
Однако требование «непосредственности» у Якоби означает и нечто иное -признание свободы человеческого духа. Сама эта свобода признаётся источником познания абсолютного: «собственный дух должен свидетельствовать духу, что Бог есть дух...» . В требовании «непосредственности» как признании свободы духа заключается, таким образом, и «величие принципа» философии Якоби, и его «недостаточность». Гегелевское определение точки зрения Якоби как «философии субъективности», таким образом, двойственно. Субъективность — «могучая форма духа», «принцип севера», великий принцип, выступающий с полным правом после «пресыщения объективностью культа». Но этот принцип должен быть надлежащим образом «очищен» посредством движения понятия, должен достигнуть истинной объективности, не утратив одновременно завоёванной посредством субъективности свободы. Благодаря работе понятия эта свобода становится истинной. Если же она антитетически, без опосредствования, противопоставляется объективности научного знания или общественных форм, то становится «дурной». И философия Якоби в силу её принципиальной установки на «непосредственность» постоянно подвергается этой опасности соскальзывания в дурную субъективность.
Более обстоятельно мы рассмотрим отношение между Якоби и немецким идеализмом в специальном разделе диссертации.
К числу тех, кто стремился защитить его основные идеи и одновременно несколько усовершенствовать форму изложения его взглядов, следует прежде всего назвать И.Залата (J.Salat, 1766-1851), профессора в Ландсхуте, который в споре между Якоби и Шеллингом встал на сторону первого, отметив в то же время «недостаток научности» в его работе «О божественных вещах...». Наряду с защитой Якоби против пантеизма Шеллинга Залат предпринимает также «защиту Якоби против Якоби», т.е. защиту «глубокого мыслителя» против «писателя»26. Он подчёркивает значимость критики «демонстративного» метода Хр.Вольфа у Якоби, критики, основанной на «глубине души» Якоби, причём эта глубинная «субъективность» как раз и привела Якоби к подлинной объективности и подлинной реальности. В Шеллинге же мы видим кульминацию «идеалистического высокомерия», как следствия «гипердогматизма»27. Залата можно, по мнению Г.Баума, М.Оливетти и К.Хомана, считать учеником Якоби в точном смысле этого слова. Его интересовала прежде всего моральная сторона взглядов учителя, проблема религиозного чувства и его отношения к понятию .
Другой почитатель Якоби, Й.Нэб (J.Neeb, 1767-1843), назвавший его «ветераном немецких философов», выдвигал на первый план дуализм Якоби, понятия «веры», «совести» и «религии» в его творчестве. По его мнению, в философии Якоби есть лишь одно положение, выражающее суть его душевных устремлений: «гомогенность» человека и Духа Божьего29.
В своих речах на торжественном заседании Баварской академии наук, посвященном памяти Якоби, А.Шлихтегроль (A.H.F.Schlichtegroll, 1765-1822, генеральный секретарь академии наук) и К.Вайлер (C.Weiller, 1762-1826) отмечали как его преимущественную заслугу то, что он первым открыл именно в чувстве - «в его высшем смысле» - источник непосредственного сверхчувственного знания, и сделал это с такой определённостью и основательностью, что даже наука не может с этим не согласиться, благодаря чему достигается примирение и согласие между наукой и религией.
Хр.Вайс (Chr.WeiB, 1774-1853) в своей книге «О живом Боге, и о том, как человек приходит к нему» также примыкает к «партии Якоби» - против Шеллинга. Он стремится дать содержанию веры и положениям Якоби психологическое обоснование. Именно психология, как «научное самопознание» позволяет показать, «как человек приходит к Богу». Рассматривая с психологической точки зрения душевные способности чувственного восприятия, воображения, рассудка и разума, Вайс приходит к выводу, что именно разум - и лишь он один - непосредственно нацелен на сверхчувственное30. Вайс находит также у Якоби троякий дуализм: 1) «я» и «ты»; 2) естественного и сверхъестественного; 3) сверхъестественного в разуме и сверхъестественного вне разума31. Именно этот последний дуализм составляет принцип философии веры Якоби, из которого вытекает первенство религии по отношению к науке. Психологическое обоснование этого дуализма сводится к тому, что «человеческий дух ни в каком отношении сам себя не удовлетворяет». Сама по себе ненаучная, вера, коренящаяся в психологии человека, становится исходным принципом философии как науки -«реалистической» и «дуалистической». Вайс отклоняет наименование «философия чувства» для характеристики взглядов Якоби и полагает, что название «философия души» (Gemiith) - более точное, так как «душа» - это «единство ума и сердца»32. Соглашаясь с Якоби во всём основном, он хочет лишь по мере сил дать научно-психологическое обоснование его взглядов.
Возможно, что именно здесь начинается некоторое смещение акцентов в толковании взглядов Якоби: «чувство» и «вера» толкуются, в соответствии с духом времени, всё более психологически, тогда как для самого Якоби они прежде всего выражали онтологические реалии и морально-социальную позицию личности. Эту линию толкования Якоби продолжил Я.Фрис.
«Партию Якоби» в споре между Якоби и Шеллингом выбрал также Ф.Э.Бенеке (F.E.Beneke, 1798-1854). Он ценит прежде всего практическую философию Якоби, полностью принимая его обоснование морали посредством религиозного чувства. Эта мысль сделала Якоби «почти единственным зрячим среди столь многих слепцов» . Он высоко ценит личные качества Якоби, его любовь к истине, порядочность, искренность, и считает трактат о «божественных вещах» - «чистейшим зеркалом его сердца и духа». Вместе с тем, он признаёт «теологию» Якоби и его учение о свободе не вполне ясными. По убеждению Бенеке, Якоби сделал лишь «неоценимую предварительную работу», поскольку учение о добродетели можно разработать с математической строгостью . «Физика нравов», «естествознание человеческой души», основанное на «многократно повторенных самонаблюдениях» - такова программная цель Бенеке, нелепая с точки зрения Канта и вполне чуждая Якоби.
Более критически отнёсся к Якоби К.Х.Ф.Краузе (K.Chr.F.Krause, 1781-1832), который одобрил критику дискурсивного мышления, но не принял отождествления природы с «механизмом», а также считал возможным спекулятивное познание абсолютного, ибо «Бог познаваем»35. Способ изложения Якоби он считает плохим, неясным. Подобный способ философствования, по его мнению, даёт убежище «ненаучности и поверхностности» . Этот же упрёк можно найти у Шопенгауэра, Шеллинга и Гегеля.
Швейцарский философ И.Трокслер (I.P.V.Troxler, 1780-1866) полагал, что Якоби имеет для современной философии, в отношении теории внутреннего опыта и непосредственного познания, такое же значение, которое в XVII в. имел Ф.Бэкон для теории внешнего опыта.
Э.Цирнгибль перечислил в своей монографии ряд других имён, обладателей которых можно причислить к ученикам или во всяком случае к «родственным душам»: T.Wizenmann, F.Koppen, F.Ancillon, Chr.Claudius, F.Bouterwek, W.T.Krug, G.Jasche, F.Calker, J.Kuhn. Он указывает также, что идеи Якоби получили известность и распространение в Австрии (L.Rembold, F.Exner, А.МШІег, J.N.Jaeger, R.J.Lichtenfels)38. РЛихтенфельс, например, бывший профессором в Вене с 1831 г. по 1860 г., и имевший большое влияние на назначение других профессоров во всей Австрии, препятствовал тому, чтобы на кафедрах безраздельно господствовали школа Канта-Гербарта или Шеллинга-Гегеля, и отдавал предпочтение дуализму Якоби, который близок здравому рассудку и моральному чувству всякого человека, не испорченного предвзятой теорией.
Шопенгауэр обвинил Якоби в элементарном непонимании «Критики чистого разума», а также в «приторной и набожной болтовне»39. В работе «О четверояком корне закона достаточного основания» он пишет, что Якоби добавил к «практическому оракулу» Канта некий «теоретический оракул», благодаря которому открылось «окошечко» в сверхъестественный мир40, спасающее, в случае необходимости, профессоров философии. Шопенгауэр просто высмеивает Якоби как «великого философа», который «написал поистине трогательные книжки, и имел лишь одну маленькую слабость - принимал за врождённые основные истины человеческого духа всё, что он узнал и испытал до пятнадцатилетнего возраста»41.
Для Гейне Якоби был просто «сварливым прохвостом», которому оказывают слишком много чести, называя его среди немецких философов: ничто не может сравниться с ненавистью «карлика Якоби» к великому Спинозе.
Фейербах иронически назвал Якоби «баловнем судьбы», «избранным среди всех философов», которому рябчики попадали прямо в рот в уже зажаренном виде, иначе говоря - он вкушал плоды с древа познания, не нуждаясь для этого ни в каких орудиях . Так Фейербах оценил идею непосредственного познания. Возможно, именно это место вспомнил в одной из ранних работ молодой Маркс, когда писал о «жареных рябчиках абсолютной науки». В то же время Фейербах уже без всякой иронии считает Якоби «классическим» философом44, признавая за ним ту заслугу, что один лишь он среди всех философов «от Анаксагора до Гегеля» самым решительным и глубоким образом показал неразрывную связь между представлением о личном Боге и субъективно-личной формой познания этого Бога. Фейербах полностью поддерживает мысль Якоби о том, что объективно-научная философия по самой своей природе неизбежно ведёт к пантеизму, в то время как «личный способ» познания ведёт к личному Богу. Учение Якоби о «чувстве» как подлинном и единственном основании веры в личного Бога сыграло немаловажную роль в фейербаховском преобразовании теологии - в антропологию. Якоби свёл ортодоксальную веру - к вере, основанной на личном и непосредственном чувстве, а Фейербах, по его собственному утверждению, сделал в «Сущности христианства» все «необходимые выводы» из точки зрения «чувства»45, которое самому себе и представляется «Богом».
Кьеркегор, предтеча экзистенциальной философии XX века, толкует Якоби в контексте своего основополагающего убеждения, согласно которому чем субъективнее человек, тем он ближе к истине. Критика Лессинга, развёрнутая в его «Ненаучных записках» 1846 г., затрагивает и беседу Лессинга с Якоби. Данная здесь краткая характеристика взглядов Якоби преимущественное внимание уделяет его salto mortale. Называя Якоби «изобретателем прыжка», Кьеркегор настроен значительно решительнее, радикальнее Якоби, и высказывает серьёзное сомнение в том, что Якоби понимает всю суть этого головокружительного философского прыжка, и где, собственно, он необходим и имеет место: «Его salto mortale может быть, пожалуй, лишь актом субъективирования, противопоставленным объективности Спинозы...»46. Якоби рассчитывает помочь и другим совершить это salto mortale при помощи своего красноречия, а между тем настоящий «смертельный прыжок» представляет собой «акт изолирования», которому невозможно научить и о котором невозможно рассказать47. Кьеркегор признаётся, что Якоби нередко «вдохновлял» его, однако «диалектическая ловкость» Якоби нравилась ему гораздо меньше, чем «подлинное воодушевление». Но всё же Якоби для Кьеркегора -«протест красноречия благородного, неискажённого, достойного любви и богато одарённого духа против систематического сковывания бытия...» . «Прыжок» у Кьеркегора - самый решительный протест против принуждения и ущемления личной свободы тем «методическим движением» безличного мышления, которое столь впечатляюще было изображено Гегелем. Якоби и сам решающее различие между собой и Гегелем определяет посредством алогического «прыжка»49. Г.Шольтц исследовал историю термина «прыжок» (Sprung) в его философском применении, и пришёл к выводу, что предпосылкой всех теорий «прыжка» и необходимости совершить решительное «сальто» перед лицом всех требований научной логики, пусть и с риском сломать себе шею, служит принципиальная недостаточность данных всех наук, а также философской спекуляции (умозрительной метафизики) для удовлетворения религиозной и метафизической потребности человека укорениться в вечном и неизменном, которая с юности обуревала Якоби. Эта духовная жажда и заставляет вопреки науке и логике совершить «прыжок» в трансцендентное и обратиться к непосредственно данному в глубинах собственной субъективности °.
У Фейербаха и Кьеркегора мы видим начало той переоценки творчества Якоби, которое не только не принимает аргументацию классиков немецкого идеализма, но и ставит Якоби выше спекулятивной диалектики, усматривая в его творчестве исток будущей «философии жизни».
Романы Якоби стали предметом литературоведческого интереса с середины XIX в., преимущественно в связи с исследованием творчества Гёте5 . Г.Фрике в 1943 г., по случаю 200-летней годовщины со дня рождения Якоби, произнёс небезынтересную и в философском отношении речь о его взглядах на гениальность52. Я.У.Терпстра в 1957 г. подготовил историко-критическое издание «Альвиля», снабжённое обстоятельными примечаниями и комментариями53. Это издание должно быть учтено и в исследовании философских взглядов Якоби. Х.Николаи в своей профессорской диссертации 1965 г. подробнейшим образом изложил историю дружбы Гёте и Якоби . Эту работу Николаи, а также его послесловия к подготовленным им новым изданиям обоих романов Якоби и его доклад на конференции 1969 г. в Дюссельдорфе по случаю 150-й годовщины со дня смерти Якоби56 можно рассматривать как подведение итога литературоведческих исследований творчества Якоби за столетие. Другой подход к изучению литературного наследия Якоби, не ориентированный на Гёте, можно найти в трудах В.Хариха и Г.Шанце . Первый отталкивается от романов Жан-Поля, в особенности - от «Титана», на создание которого повлияло чтение «Альвиля» Якоби, второй даёт новую интерпретацию «Альвиля» в связи с романтической теорией поэтического творчества.
Со второй половины XIX в. и до наших дней изучение философских взглядов Якоби шло двумя главными путями: они оценивались либо в контексте проблем теории познания, либо с точки зрения «философии жизни». Разумеется, это разделение имеет достаточно условный характер, речь идёт лишь о преобладающих тенденциях.
Первый подход сформировался в неокантианской среде, для которой Якоби -прежде всего критик Канта (т.е. идейный противник) и «гносеолог». К этому типу относятся диссертации Ю.Лахмана59, В.Буша60, К.Кульмана61, А.Крамера62, Г.Кампмана63. Благодаря неокантианскому интересу к современникам Канта, к его исторической «среде обитания» и по поручению немецкого Кантовского общества Г.Шольцем в 1916 г. было подготовлено историко-критическое издание «Писем о Спинозе» и других работ, связанных со «спором о пантеизме»64. Обширное введение Шольца содержит важные материалы по истории этого знаменитого спора и, в частности, обстоятельный разбор тезиса Якоби о необходимой внутренней связи рационализма с атеизмом. Первое основательное, всестороннее исследование философии Якоби в XX в. также было проведено в русле неокантианской традиции: учителем автора, Ф.Шмида, побудившим его к изучению работ Якоби, был В.Виндельбанд65. Признавая, что в центре внимания Якоби находились религиозно-философские вопросы, Шмид находит всё же, что способ их постановки аналогичен кантовскому, поскольку и Якоби в конечном счёте сводит их к проблеме оснований опыта. Менее значительные работы Х.Тило, К.Изенберга, А.Франка, В.Якоби и др., вышедшие в начале XX века, свидетельствуют о том, что на время 1900-1914 гг. приходится первый всплеск историко-философского интереса к Якоби, имеющий в целом характерную неокантианскую «окраску»66.
После первой мировой войны влияние неокантианства постепенно уменьшается под натиском новых философских умонастроений, прежде всего - аналитической и экзистенциальной философии, и старая традиция в исследовании творчества Якоби прерывается. Лишь в 1969 г. снова появляется крупная работа, в которой возрождается «кантовский» подход в якобиеведении — диссертация Г.Баума, ученика президента немецкого Кантовского общества Г.Функе67. Автор намеренно исключает из рассмотрения всё, что касается Якоби как литератора, стилиста, мастера эпистолярного жанра, экономиста, политического мыслителя и общественного деятеля, сосредоточиваясь исключительно на «философски релевантном» содержании его трудов68. При этом собственно философское содержание Баум понимает вполне в духе Канта, как исследование априорных условий эмпирически данного множества фактов. Другой подход, скажем с позиций философии жизни, как у О.Больнова, по мнению Баума, делает невозможным понимание философии Якоби и её укоренённости в философской традиции69. Соответственно такой постановке вопроса в центре внимания оказывается проблема интуиции, или «разума», в познании предметного мира и в самопознании, а в качестве текстуальной опоры выбираются «Письма об учении Спинозы», «Давид Юм», «Предприятие критицизма», «Божественные вещи» и «Введение» 1815 г. Главный теоретический источник учения Якоби о непосредственном знании Баум находит у Т.Рида , указывая также на значение «морального чувства» Ф.Хатчесона . Тезис Баума о зависимости Якоби от «здравого смысла» Рида был оспорен К.Хаммахером и К.Дюзингом . Баум интерпретирует, далее, «разум» Якоби как интеллектуальное созерцание и на этом основании отличает его теорию непосредственного познания абсолютного от различных форм мистицизма75. Значительное внимание в книге уделяется также метафизическим основаниям этики Якоби, поскольку этические проблемы, по мнению Баума, были для Якоби важнее гносеологических. Одно из важных достоинств работы Баума заключается в тщательном изучении взаимоотношения рассудка и разума в текстах Якоби. Баум указывает, в частности, на их «тесную связь», о которой свидетельствует то прежде почти незамеченное в работах о Якоби обстоятельство, что рассудок он трактует не только как способность абстрагирования, но и как неотъемлемый элемент способности самосознания76. В целом же исходная, явно зауженная трактовка сущности философии делает работу Баума несколько односторонней, одномерной, и не даёт ему ключа к пониманию мировоззрения Якоби, несмотря на то, что он уделяет довольно много внимания центральному для Якоби понятию свободы.
Наиболее весомый вклад в изучение творчества Якоби с совершенно иной позиции, с точки зрения «философии жизни», внесли О.Больнов, Д.Баумгардт, К.Хаммахер. Вопреки Гаману, они полагали, что «древо жизни» интересовало Якоби всё же больше, чем «древо познания»77. В контексте «философии жизни» учение Якоби получило совершенно новую интерпретацию. Её представители, стремясь достичь ясности в теоретических вопросах «историческим» путём, обращались к истокам своего движения. Эти истоки, согласно О.Больнову78, для немцев находятся в периоде «бури и натиска». Философ «бури и натиска» - Якоби. Его философские устремления, по мнению Больнова, обоснованному в его профессорской диссертации 1933 г., и были направлены в сущности на построение философии нового типа, «философии жизни». Идея такой философии была главным импульсом всего его творчества. А «философия чувства и веры» — традиционное историко-философское обозначение его взглядов — это лишь не вполне удавшийся результат этих усилий, результат, в котором первоначальный творческий импульс скрыт под традиционной терминологией и постановкой вопроса .
Идея исследования творчества Якоби под этим углом зрения была высказана ещё Дильтеем, который и ввёл понятие «философия жизни» - не столько для обозначения некоторого рода философских взглядов, изложенных в достаточно свободной манере, сколько для обозначения вполне определённого философского принципа: отказавшись от трансцендентных и абстрактных метафизических начал спекулятивно-рационалистической философии, понять жизнь из неё самой. Кроме того, философия жизни - это не учение «о» жизни, но определённый способ философствования, такой, в котором само философствование является подлинным выражением жизни в её целостности. Это такое философствование, которое исходит из того, что невозможно никакое построение системы философии, исходящее из «чистого разума», самодостоверного и самодостаточного «чистого мышления». Оно противопоставляет одному лишь абстрактному «чистому знанию» - «жизненную действительность» во всём её объёме. Бенедетто Кроче считал Якоби образцом такого оригинального, «атеоретического», «витального» мыслителя. Он был именно тем, кого следовало бы называть «настоящим философом».
В этом контексте возникает и вопрос о месте мышления и его наиболее полного воплощения, науки, в более широкой реальности жизни. Главная проблема для философов этой ориентации, собственно, и состоит в этом вопросе - об отношении мышления и жизни. Этот вопрос со всей серьёзностью, ясностью и силой был поставлен в духовной истории Германии именно в период «бури и натиска». Здесь притязание рассудка на господство впервые серьёзно было поставлено под сомнение. И единственный настоящий философ, которого породило это поколение «штюрмеров» и «бурных гениев», по мнению Больнова, - Якоби80. Такая постановка проблемы существенно расширяет кругозор исследования. Ведь философское значение творчества Якоби в неокантианском горизонте сводится чуть ли не к единственной знаменитой фразе, сказанной им по адресу «вещи в себе» в философии Канта - что «без этой предпосылки я не могу войти в систему и с этой предпосылкой не могу в ней оставаться»81. Г.Файхингер считал, что эти слова Якоби -едва ли не самое лучшее и важнейшее из всего того, что вообще было сказано о кантовской философии . Э.Кассирер видел лишь в них действительный и существенный исторический вклад философии Якоби83. Это высказывание действительно имело немаловажное значение для последующей истории кантовской философии и её критики, но в философии Якоби, в её целом и в её развитии, оно занимает второстепенное место. Преувеличенное внимание к этим словам обусловлено «кантоцентристской» точкой зрения, свойственной особенно немецкой историографиии, и оно сыграло свою негативную роль в неадекватной оценке взглядов Якоби. Подход к анализу философии Якоби с позиций «философии жизни» позволил высветить новые грани и в его учении о «непосредственном» знании.
Название профессорской диссертации Больнова, «Философия жизни Ф.ГЛкоби», говорит само за себя. Первоначальный импульс к такой постановке вопроса Больнов получил от Дильтея, который и сам намеревался посвятить Якоби отдельную работу и которому, таким образом принадлежит честь быть родоначальником нового направления в якобиеведении. Якоби интересовал Дильтея в связи с «историей немецкого духа», в его отношениях с Кантом, Фихте, Гёте, Гаманом и т.д., а также как яркий представитель одного из намеченных Дильтеем типов мировоззрения - «идеализма свободы»84. Под влиянием дильтеевской постановки проблем и до книги Больнова была написана работа N.Wilde85. Больнов даёт анализ центральных проблем философии Якоби, опираясь на сводку важнейших мест из всех его сочинений и исходя из проблематики «напряжения» между «понятием» и «жизнью». Он опирается на идею Якоби о том, что задача философии - «раскрыть бытие» (Daseyn enthiillen), и его интерпретация этих слов показывает влияние хайдеггеровского «Бытия и времени». Преимущественное внимание Больнов уделяет философии религии Якоби, его понятию «веры», усматривая в нём секуляризацию собственно христианской веры. Он подчёркивает также особую важность и перспективность мысли Якоби о равной первичности понятий Я и Ты, отмечая в то же время ограниченность его дуалистического принципа и отрицательное влияние полемики с Кантом на реализацию первоначального замысла. Преобладающий интерес к «жизни» побуждает Больнова искать основополагающие для всего творчества Якоби идеи прежде всего в его романах, отразивших настроения «бури и натиска». Эту мысль, впрочем, высказывали и другие - Э.Цирнгибль86, К.Вайнхолд87, А.Франк88, В.Якоби89, О.Хереус90.
Обрисованная перспектива исследования позволяет высветить в творчестве Якоби такие стороны, которые оставались незамеченными для неокантианцев, но в то же время оставляет в тени другие, не менее важные аспекты, что приводит к некоторому искажению образа мыслителя. К.Хоман, например, полагает, что известная неадекватность изложения у Больнова имеет своей причиной «вкладывание» в сочинения Якоби более позднего, иррационалистически окрашенного понятия «жизни», тогда как следовало бы, наоборот, вычитать это понятие из них9 . Нечто аналогичное имеет место и тогда, когда мы судим о Канте или Якоби в «гносеологических» категориях, тогда как само понятие «теории познания» (Erkenntnistheorie) - гораздо более позднего происхождения92. Это незаметное смещение взгляда и обусловливает различие позиций интерпретатора и самого Якоби. Сознательный отказ от исторического исследования и строгое подчинение исключительно теоретическому или систематическому интересу, как это имеет место и у Баума, и у Больнова, усиливает эту опасность: незаметно подменить подлинного Якоби - воображаемым. Тем не менее, книга Больнова оказала очень большое влияние на дальнейшую историю якобиеведения. Материалы Дюссельдорфского конгресса 1969 г. посвящены именно ему - «за возрождение мышления Якоби»93. Даже последовательный противник больновского подхода Баум подчёркивает, что именно благодаря мастерскому анализу Больнова и его тончайшей способности вжиться во внутренний мир героев романов Якоби снова было открыто теоретическое, а не только лишь историческое значение его произведений .
Справедливости ради необходимо сказать, что в работе Больнова обстоятельно и глубоко говорится о том, на что кратко намекали другие авторы и до него. Так, Ф.А.Шмид писал о важности для Якоби проблематики отношения теории к жизни95. Согласно А.Кроуфорду, целью философских размышлений Якоби было прежде всего понять жизнь такой, какова она есть96. Л.Леви-Брюль осмысливает творчество Якоби под углом зрения развития иррационализма97. Ф.Хармс противопоставляет «эмпиризм жизни» Якоби -научном эмпиризму98. Впрочем, этот подход к пониманию мысли Якоби был свойствен и некоторым его современникам, да и ему самому. Г.Баум указывает в этой связи на Я.Фриса и Ф.Бутервека . Фихте видел в сочинениях Якоби господство «энтузиазма жизни» . Сам же Якоби за сто лет до Дильтея не только применяет выражение «философия жизни», но и вводит его в заглавие своей работы, ставшей частью будущего романа «Вольдемар»101. Таким образом, «экзистенциальный» подход в известной степени обоснован самопониманием или самоистолкованием Якоби, с поправкой на те смыслы понятия «жизни», которые были внесены после Якоби мыслителями, гораздо более склонными к иррационалистическому настроению, чем философ классической эпохи немецкой культуры.
Аналогично Больнову и под его влиянием оценивают значение понятия «жизни» для Якоби Я.У.Терпстра102, Б.Кроче103, Х.Николаи104, В.Верра105. Одновременно с книгой Больнова вышла работа Д.Баумгардта «Борьба за смысл жизни между предшественниками современной этики» , в которой помимо этики Канта и Гердера обстоятельно изложены и соответствующие воззрения Якоби. По мнению автора, в «Альвиле» Якоби полемизирует против своего рода «морали аристократического анархизма»107, а позднее, в 1781-1783 гг., приближается к «радикальным просветительским тенденциям» °8, которые соседствуют с совершенно «иррационалистическими» настроениями109. Около 1793 г. Якоби ближе к этике Канта, однако, немного позднее, в 1800 г., он подвергает ее жёсткой критике. К этому времени и сформировалась окончательно его «совершенно иррационалистическая этика» . Баумгардт констатирует, таким образом, наличие в работах Якоби двух противоположных тенденций или умонастроений, радикально просветительской и столь же радикально иррационалистической, которые явно противоречат друг другу. К.Хоман, однако, указывает на то, что эти мнимо противоречащие друг другу тенденции - результат ретроспективного вкладывания в работы Якоби с позиций иррационалистической философии жизни такой противоположности, которая для него самого просто не существовала. Как и для других авторов той эпохи, для Якоби нет противоречия между рациональностью рассудка и «иррациональностью» чувства. Это противоречие возникает лишь для поверхностно-воинственных критиков Просвещения. У Якоби речь идёт не о том, что «чувство» или «жизнь» ценнее и выше разума, не об иррационалистическом отвращении к науке, но о свободе человека «во всём её объёме», которая без разума и ясности рассудка так же невозможна, как невозможна она и при умалении права чувства и того, что дано непосредственно. С этой позиции необходимо судить и о «чувстве» у Якоби, и тогда констатированное Баумгардтом противоречие можно объяснить без особого труда11 .
В том же году, когда вышла книга М.Баума и в Дюссельдорфе была проведена конференция, приуроченная к 150-летию со дня смерти Якоби, была опубликована и книга К.Хаммахера, известного исследователя его творчества, одного из авторов нового издания его сочинений . Книга Хаммахера в целом продолжает традицию истолкования Якоби с позиций «философии жизни»: мышление Якоби должно быть рассмотрено сквозь призму «напряжения» между разумом и жизнью, которое Хаммахер толкует как напряжение между «критикой» и «жизнью». Философия Якоби благодаря «радикализации» этого напряжения ведёт к более глубокому постижению «сопринадлежности» этих двух «моментов духа»"3. Анализ, прямо и непосредственно вводящий в суть дела, должен быть начат, по Хаммахеру, с проблемы очевидности и достоверности познания, как она была поставлена в Новой философии. Этот анализ в тексте Хаммахера находится под заметным влиянием Хайдеггера. В результате Хаммахер приходит к весьма неожиданному выводу, что именно Фихте развил, усовершенствовал и выявил истинное содержание... философии Якоби! Якоби в конечном счёте выводил возможность человеческой свободы из «Ты» Бога, а Фихте посредством трансцендентально-философской рефлексии обнаружил свободу как «ингредиент самого знания». К.Хоман заметил в этой связи, что Хаммахер в целом рассматривает Якоби sub specie Фихте, скрещивая его трансцендентально-дедуктивный подход с феноменологическим методом и способом выражения Хайдеггера114. В другой своей работе Хаммахер проводит некоторые параллели между Якоби и Бергсоном115. На некоторое родство их взглядов указывал ранее и Дильтей116, причисляя обоих к типу мировоззренческого «идеализма свободы».
Неоспоримая заслуга книги Хаммахера в том, что в ней использованы неопубликованные записи Якоби, в том числе Epistel iiber die Kantische Philosophic из архива Гёте и Шиллера в Веймаре. При всех различиях между книгами Баума и Хаммахера их объединяет трансцендентально-философская установка, у Баума -классическая (кантовская), у Хаммахера - феноменологическая, отталкивающаяся от проблематики «жизненного мира» позднего Гуссерля. Оба исследователя исходят из проблематики познания, очевидности, достоверности, интуиции, рассудка и разума.
Совершенно иначе подходит к интерпретации философии Якоби К.Хоман, который в своей ясно написанной и опирающейся на богатейшую текстуальную базу книге предпринимает попытку показать основополагающие условия для «ревизии метода» истолкования. Радикальная ревизия необходима потому, что практически вся традиция философского исследования творчества Якоби, начиная с первой половины XIX столетия, упускает из виду, «что все формы субъективности у Якоби имеют своим принципом свободу»117, что Якоби - социально-политически ориентированный мыслитель, работы которого могут быть поняты исключительно в совершенно конкретном историческом контексте. Это не значит, что мысли Якоби не представляют теперь для нас никакого интереса, что они целиком принадлежат прошлому. Напротив, лишь внимательное изучение прошлого, той общественной и духовной ситуации, которая породила феномен Якоби, может выявить его силу и значение для настоящего. И ключевая роль в таком анализе принадлежит понятиям «свобода», «субъективность», «история» .
В последние годы появились два крупных исследования взглядов Якоби, одно из которых сосредоточивается на проблематике «прыжка»1 , рассмотренной сквозь призму диалектики, понятой в смысле К.Хаммахера, второе - на различении понятий «причина» и «основание»120. Для нашего исследования наиболее важны результаты Биргит Зандкаулен, профессора Иенского университета. Цель её работы -дать структурный анализ мышления Якоби, этого «серого кардинала» немецкого идеализма. Главный интерес автора -систематический, а именно - «парадигматическая критика разума». Всё творчество Якоби, отмечает автор, - парадокс: в центре его воззрения стоит «прыжок», который никто из его современников делать не собирался и не считал нужным. Почему же Гегель в конечном счёте ставит Якоби непосредственно перед собой, после Канта, поскольку он обосновал необходимость совершенно новой трактовки логического! Почему же поздний Шеллинг ставит Якоби после Гегеля, после всей философии Нового времени, которая вместо чаемого познания высшей реальности предлагала лишь эрзац, в котором мышление не выходит за свои собственные пределы, остаётся внутри себя, тогда как мы стремимся к тому, что вне мышления и выше него? Не совершил ли и поздний Шеллинг тот же самый прыжок, что и Якоби, и не признал ли он, не зная того, правоту слов Якоби, сказанных против Гегеля: что Гегель идёт тем же путём, что и Спиноза, путём мышления, а нужен «прыжок»? Историю продолжает Кьеркегор, который после критики Гегеля и разочарования в берлинских лекциях Шеллинга по «философии откровения» снова обращается к разговору Лессинга и Якоби. Киркегор обращается, следовательно, к Якоби после Шеллинга.
Разгадку Б.Зандкаулен находит в седьмом приложении к «Письмам о Спинозе», которое представляет собой «тайное главное произведение» Якоби . Два ключевых понятия этого приложения: основание и причина. Идеалистическая, да и вообще традиционная рецепция Якоби ставит в центр понятия обусловленного и условия, опосредствованного и непосредственного, а действительно ключевые «основание» и «причину» практически не замечает. То же самое справедливо и относительно интерпретации с позиций «философии жизни»: О.Больнов не может пробиться к пониманию основополагающего значения различия основания и причины именно потому, что исходит из точки зрения философии жизни.
Суть дела в том, что неявной предпосылкой всех усилий чистой метафизики, по Якоби, служит обман: подмена причины - логическим основанием. В отличие от «чисто идеалистического» понятия основания, понятие причинности - опытное, причём мы получаем его из опыта нашей собственной активности и пассивности. Это - чрезвычайно важно. Не просто из наблюдения того, что происходит вне нас, а из опыта нашей собственной деятельности. «Основание» есть поиск зависимости чего-то от чего-то, «причина» связывает деяние с деятелем. Понятие причины предполагает понятие действия. Следовательно, оно предполагает и время. Нет деятельности вне времени. И, наконец, принцип достаточного основания предполагает, что всё обусловленное должно иметь условие. Этот принцип и осуществляет «процедуру рационализации»: всё становится «механическим». Что заставляет разум выпрыгнуть из этой разумной деятельности поиска условий для обусловленного? Раздвоенность самого разума на «инструментальный разум», который присущ человеку как инструмент, и разум-дух, благодаря которому, собственно, существует «субстантивно» вся «живая природа человека». Первым человек пользуется, второе его создаёт. Без сокровенно и имманентно живущего в человеке духа-разума он никак не мог бы придти к необходимости «неразумного» прыжка. Безусловное - не завершение цепи обусловленного и не «вся» эта цепь, а первоначальное, то, что уже и всегда предположено обусловленным, и составляет т.о. нечто просто данное, или фактическое. Всё обусловленное, объяснимое, исследуемое и т.п. и есть «природа». Безусловное, следовательно, - не «природа», а сверхприродное, сверх-естественное. И это безусловно-сверхъестественное связывается с понятием причины, которое, в свою очередь и изначально связывалось с действием и деятелем. Поэтому у всех народов «инстинкт разума» состоял в том, чтобы всё возникшее рассматривать как действие живого существа. Ведь начало изменения постижимо для нас лишь как решение воли. Потому и начало мира, его причину мы неизбежно мыслим как Творца, личность. Понятие основания - высшее понятие рассудка, высшее же понятие разума - причина, т.е. само по себе сущее и только лишь из себя порождающее, несозданное творящее, абсолютно безусловное1 . Принцип обоснования нельзя смешивать с принципом деятельности. Опыт поступка есть нечто совершенно иное, нежели логика обоснования. А принцип действия - это принцип свободы.
Смешение логической последовательности с реальной последовательностью ведёт к фатальному стиранию своеобразия поступка; свободная деятельность исчезает в логике обоснования, в природе. Это та точка, в которую в конечном счёте и целит Якоби. Если бы у нас не было основополагающего опыта деятельности, опыта ощущения в самих себе такой силы, которая исходит от нас самих, и которую мы можем применять по своему усмотрению, «то мы не имели бы ни малейшего представления о причине и действии» 4. Если мы не увязываем понятие причинности именно с принципом деятельности, то для принципиального различения основания и причины, собственно, и нет ни основания, ни причины. В черновиках Якоби поясняет: «Понятие причины основывается исключительно на опыте каузальности посредством разума»125. Содержание, истинность, значению этому понятию сообщает исключительно одно лишь чувство: «я есмь, я действую, творю, порождаю»126. Причинность означает не просто следование изменений друг за другом, а возникновение изменения. Свобода же собственно и заключается в том, чтобы посредством внутреннего решения или самоопределения начать изменение в мире. «Причина есть начало - начало есть действие (поступок - Handlung)» . И действительным началом можем быть лишь то, в чём скрещиваются начало и окончание.
Иначе говоря, целеполагание, «конечная причина»: «где начало - в конце, или идёт от конца» . Там, где нет этого перекрещивания, нет начала в собственном смысле, как нет и деятельности. Действие без начала и конца - характерное определение природы. Характеристики деятельности, напротив, - предвидение, проект, свободный выбор, намерение. Начать изменение, предвидя его завершение и взять на себя ответственность за последствия - это, собственно, поступок, деятельность. Causa finalis - вот что отличает основание от причины. Эту конечную причину Якоби, указывает Б.Зандкаулен, необходимо отличать и от целесообразности Аристотеля, и от целесообразности развития духа у Гегеля. Речь идёт не просто о цели, но о замысле, намерении, которое всегда оставляет будущее открытым. Речь всегда идёт о личности и о том, что достижение цели не гарантировано.
Таким образом, исследования последних лет ставят в центр философии Якоби понятие свободы, которое имеет основополагающее значение и для истолкования понятий интуиции, непосредственного знания, «чувства» и «веры».
Цель и задачи исследования. Автор диссертации ставит перед собой цель выявить смысл и значение понятия непосредственного знания в работах Якоби в контексте его мировоззрения и творчества в целом. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 1) изучить историю литературно-философского творчества Якоби, основную проблематику его работ в их временной и логической связи; 2) изучить весьма обширную зарубежную (преимущественно - немецкую) литературу о философии Якоби, выявить основные оценки теоретического значения взглядов Якоби и их влияния на развитие немецкого идеализма и философию XIX-XX вв.; 3) установить связь учения Якоби о непосредственном знании с его социально-философскими, экономическими и политическими взглядами, прежде всего - в его ранних произведениях; 4) оценить философское значение романов Якоби, в том числе для понимания генезиса и оснований проблематики непосредственного знания; 5) систематически исследовать основные положения философии Якоби и его учение о непосредственном знании в его основных философских произведениях, в том числе - теорию чувственного и сверхчувственного восприятия, рассудка и разума; 6) систематически реконструировать философию религии Якоби в её связи с его теорией науки; 7) выяснить направленность и основное теоретическое содержание идеи непосредственного знания в той критике, которой Якоби подверг философские системы Спинозы, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля.
История творчества Якоби
Поскольку работы Якоби практически до сих пор не были предметом исследования в отечественной философии и поскольку его учение о непосредственном знании может быть понято и адекватно оценено лишь в контексте его мировоззрения и творчества в целом, необходимо сначала кратко охарактеризовать историю его духовного развития, создания основных произведений в их внешней и внутренней, проблемной связи.
Фридрих Якоби родился 25 января 1743 г. в семье Иоганна Конрада Якоби, богатого торговца сукном, коммерции советника в Дюссельдорфе. Юношеское развитие Якоби описал Ф.Долдингер . В возрасте 14 лет, после конфирмации, Фридрих вступил в пиетистский кружок, члены которого называли себя «чистыми» („die Feinen"130). Члены кружка придерживались реформатского направления Й. Ван Лоденштейна (Lodensteyn, 1620-1677), сторонники которого были привержены серьёзному и религиозно-строгому образу жизни, не придавая значения обрядности и сохраняя внутреннюю независимость от церкви. Уже в это время Якоби обнаруживает неприязнь к тому, что позднее назовёт «религиозным материализмом», т.е. перенесению религиозной веры на всякого рода посредников между душой и Богом.
Существенное влияние на формирование взглядов молодого Якоби оказало его пребывание в Женеве, где он оказался не только в городе, который хранил дух кальвиновского протестантизма, но и в самой гуще научно-просветительской мысли. Продолжая своё торгово-экономическое образование, Якоби брал уроки у профессора философии, известного математика Ле Сажа (G.L.Le Sage, 1676-1759), который познакомил его с философией при помощи популярного в то время «Введения» В.Я.Гравезанда13 . Здесь Якоби познакомился со взглядами известного натуралиста и философа Ш.Боннэ132, который сочетал психологический сенсуализм в духе Локка с кальвинизмом и верой в сверхъестественное, а также с дуализмом Декарта. Кальвиновская вера в абсолютное божественное предопределение соединяется в его работах с материалистически-механистическим детерминизмом. Работу Боннэ о способностях души «Essai analytique sur les facultes de Гате» (1760) Якоби знал «почти наизусть»133, с другими был знаком основательно. Возможно, что изучение Боннэ способствовало формированию реализма Якоби, убеждению в неразрывной связи человека с окружающей его природой, но для него всегда была совершенно неприемлема натуралистическая этика. Возможно, что в это же время и под влиянием Боннэ Якоби знакомится с философией Беркли, читая французский перевод «Трёх диалогов между Гиласом и Филонусом»134.
Первым литературным учителем для Якоби, по-видимому, был Руссо, роман которого «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) он прилежно изучал. «Эмиль, или О воспитании» Руссо с приложенным к нему «Исповеданием веры савойского викария» (1764) противопоставил как французскому материализму, так и церковной догматике личную веру в Бога, согласную и с чувствами, и с разумом. Руссо, осмелившийся вопреки своему учителю Вольтеру и своим друзьям-энциклопедистам поставить «прекрасную душу», искреннее чувство, «наивность» и совесть выше просвещённого остроумия и научной рассудительности, привлекал молодого Якоби больше всех, он чутко воспринял, по-своему переработал и навсегда усвоил себе мысли «этого величайшего гения среди писавших на французском языке» .
В Женеве, где наука шла рука об руку с философским материализмом, сформировалось, видимо, и твёрдое убеждение Якоби в неразрывной связи между собой, если не тождестве, науки и систематической философии, имеющей тенденцию к отрицанию Бога. Однако религиозное чувство и научное доказательство имели для него равные и неотчуждаемые права - каждое в своём деле. По образному сравнению биографа Якоби, Э.Цирнгибля, он так и остался навсегда «двуликим Янусом» в философии136.
В 1763 г. Якоби знакомится с сочинениями М.Мендельсона и Канта, посвященными вопросу об очевидности метафизического познания: можно ли доказать метафизические истины вообще, а в особенности основные принципы естественной теологии и морали, с такой же ясностью и отчётливостью, как и геометрические теоремы? Эти работы137 определили главное направление последущих размышлений Якоби. Мендельсон стремился обновить знаменитое онтологическое доказательство бытия Бога, что побудило Якоби к изучению Декарта, у которого он надеялся найти чистейшую и яснейшую форму подобного доказательства, а Декарт привёл его к Спинозе. Спиноза стал для Якоби величайшим представителем догматической метафизики, самым строгим, последовательным и глубоким мыслителем среди всех сторонников научной, систематической философии. Читая рассуждения Спинозы, Якоби пришёл к выводу, что научному постижению и доказательству доступен тот Бог, о котором можно сказать «Бог, или природа», а живой и личный Бог Авраама, Исаака и Иакова , Творец мира, стоящий вне и бесконечно выше всякого естественного порядка вещей в природе, может быть предметом только веры и чувства. Якоби пришёл к парадоксальному выводу, что философия Спинозы настолько же неопровержима, насколько и неприемлема, поскольку логически последовательное, научное мышление в области сверхчувственных, метафизических предметов неизбежно приводит к атеизму и фатализму.
Первая публикация Якоби появилась в 1771 г., в Париже. Это было предисловие к сделанному им переводу на французский язык трудов его брата, И.К.Якоби, известного поэта-анакреонтика . В следующем, 1772 г., курфюрст Карл Теодор, герцог Юлиха и Берга, назначает Фридриха членом придворной палаты (Hofkammer). В этом качестве Якоби представил в 1773-1774 гг. рукописное исследование в двух частях о состоянии металлургических и ткацких ремёсел в этих двух княжествах . Этому исследованию он предпослал общетеоретическую «инструкцию»141, где попытался применить к немецким условиям физиократическую теорию Ф.Кенэ (F.Quesnay). Важно отметить, что первый опыт самостоятельного исследования Якоби касался злободневных экономических и политических проблем.
В мае 1771 г. Якоби знакомится с Хр.М.Виландом и издаёт вместе с ним, начиная с 1773 г. и по образцу „Mercure de France", „Немецкий Меркурий" („Der Deutsche Merkur", со второго тома - „Der Teutsche Merkur"). В этом журнале Якоби публикует ряд статей, в том числе «Рассмотрение предложенного г-ном Гердером, в его сочинении о происхождении языка, генетического объяснения искусности животных»143 и «Письма» о «Recherches Philosophiques sur les Egyptiens et Ies Chinois, par Msr. de p »144, в первой работе он разбирает вопрос о принципиальном, качественном отличии присущей человеку свободы от самой «искусной» деятельности животных. Во второй - противопоставляет модным в те времена домыслам о египетской и китайской культуре попытку трезвой оценки религии египтян и китайского «деспотизма». Важно отметить, что основу любой религии Якоби уже в это время видит в чувстве зависимости. Это чувство внутренне присуще каждому человеку, поэтому не было и не будет народа без представления о высшем существе, во власти которого находится человек, хотя вместо истинного богослужения из этого метафизического чувства нередко произрастает идолослужение. В этих первых работах уже звучит лейтмотив всего последующего творчества Якоби: свобода и зависимость, Бог и свобода, истинная религия и идолослужение.
В ещё более значительной степени, чем сотрудничество с Виландом, последующее духовное развитие Якоби определила дружба с Гёте, начало которой было положено 21 июля 1774 г., когда Гёте по пути, во время совместного путешествия с Лафатером и Базедовым, посетил имение Якоби, Пемпельфорт. Именно Гёте вдохновил Якоби к самостоятельному художественному творчеству, и в 1775 г., в издаваемой его братом «Ириде», появляется первая часть его романа в письмах «Альвиль» . В 1776 г., уже в 31 «Немецком Меркурии», последовало продолжение146. Позднее роман публиковался при жизни автора ещё дважды, но так и не был им закончен. Тем не менее для понимания творчества Якоби этот роман очень важен. Сам автор называл его позднее своим «любимым ребёнком», более того - «подлинным общим ключом»147 ко всем последующим сочинениям. В нём находится и ключ к проблематике «непосредственного знания» в последующих философских работах Якоби.
Социально-философские взгляды Якоби в ранних работах (1773-1785)
Одна из основных опорных точек для выявления социально-исторического смысла философии Якоби, несомненно, - понятие свободы, посредствующее между «чисто метафизическими», гносеологическими и этическими, общественно-политическими составляющими его взглядов. Якоби сам неоднократно и со всей определённостью подчёркивал, что свобода -основное понятие всей его философии. В письме к княгине Голициной от 11 января 1782 г. он сообщает ей, что работает «над сочинением, посвященным вопросу: что такое свобода? - преимущественно в политическом отношении; но я беру это понятие во всём его объёме...» . Этот объём, как показывает анализ творчества Якоби в целом, включает в себя аспекты метафизические, религиозные, моральные, политические, правовые и хозяйственно-экономические. «Все мои взгляды основываются на убеждении в свободе человека. Это - свойственное мне понятие, и оно отличает мою философию (если угодно удостоить учение о вере этим именем) от всех предшествующих» . Свобода, подчёркивает Якоби в другом месте, - «основа моей философии» . «Принятие действительного и истинного провидения и свободы, не только в высшем, но и во всяком разумном существе, а также утверждение, что эти два свойства взаимно предполагают друг друга, - это то, что отличает мою философию от всех других, от Аристотеля до возникших в наши дни» .
К.Хоман в своей монографии обстоятельно доказывает, что Якоби, как философ, всегда мыслит «в горизонте истории», и что лишь последовательно конкретно-историческая интерпретация может показать смысл и значение его философии, в том числе - для нашего времени . Якоби мыслит «в горизонте истории» вполне сознательно, исходя из социально-исторического понимания сущности философии, самой природы философского знания. Он полагает, что философская мысль всегда обусловлена современным ей состоянием общества: «Философия не может создать свою материю; эта последняя всегда уже налична в современной или уже прошедшей истории. Но мы дурно философствуем, опираясь на прошлое, если оно содержит в себе опыт, который мы не можем повторить. Мы можем судить с достоверностью лишь о том, что находится перед нами... И таким образом каждая эпоха имеет как свою собственную истину, содержание которой совпадает с содержанием опыта, так и свою собственную живую философию, которая представляет господствующий способ деятельности этой эпохи в её поступательном движении. Если это верно, то отсюда следует, что не столько поступки людей должны вытекать из их философии, сколько их философия - из их поступков; что их история не определяется их образом мышления, но их образ мышления возникает из их истории»210.
Поскольку всякая философия для Якоби так или иначе есть духовное выражение своего времени, то и свою собственную философскую деятельность он понимал как попытку осмыслить насущные проблемы и задачи своего времени, того общества, в котором он жил, и фундаментально обосновать определённую позицию по отношению к тем или иным сторонам и процессам общественной жизни. Поэтому для полного понимания его казалось бы сугубо «гносеологических» размышлений о непосредственном знании мы должны увидеть их скрытую социально-историческую подоплёку, т.е. понять их как попытку решения актуальных для Якоби жизненных проблем.
Общественно-политическому измерению философских взглядов немецких мыслителей классического периода в историко-философской литературе уделялось достаточно много внимания, особенно после второй мировой войны — а именно, в отношении Гамана, Гердера, Форстера, Канта, Фихте, Шеллинга, В.Гумбольдта, Гёльдерлина, Гегеля, Гёте, Шиллера, Новалиса, Шлегелей и т.д. Но, увы, не в отношении взглядов Якоби, несмотря на усиление в послевоенный период внимания к его творчеству. Лишь К.Хаммахер (1969) попытался впервые обстоятельно выявить философское значение социально-критических работ Якоби после «краткого реферата» Е.Цирнгибля (1867), весьма сомнительного толкования этих работ Д.Баумгардтом (1933) и кратких замечаний Б.Кроче (1945). Но и попытка Хаммахера211, по мнению Хомана, оказалась неудачной, поскольку он опирался на слишком скудную текстуальную базу, да и использованные тексты истолковал неверно212. Хаммахер, в отличие от Г.Баума, главного современного представителя чистой «теоретико-познавательной» интерпретации Якоби, толкует его, вслед за О.Больновым, с позиций «философии жизни», однако делает ту же самую ошибку, что и Баум, исходя из проблематики «разума, очевидности, интуиции» и т.д. как исходной и основополагающей постановки вопроса у Якоби. Баум пишет: «Главная мысль, вокруг которой вращается философствование Якоби, - это проблема интуиции» . Хаммахер в своей рецензии на книгу Баума по существу соглашается с такой исходной постановкой вопроса, критикуя лишь сведение проблемы интуиции Баумом к вопросам теории познания214, и свою книгу начинает с анализа проблемы очевидности. А ведь Якоби в 1799 г. совершенно недвусмысленно заявляет: «Разум и свобода неразрывно связаны друг с другом в нашем сознании, но не так, что способность свободы должна быть выведена из разума (из Adjectivo), а так, что разум должен быть выведен из способности свободы (из Substantivo)»215. Таким образом Хаммахер, как и Баум, и как практически вся традиция истолкования философии Якоби, по мнению Хомана, не видят центра, средоточия мышления Якоби - проблемы свободы «во всём её объёме». Необходимо со всей серьёзностью отнестись к собственным словам Якоби о том, что цель его труда об учении Спинозы указана в его последних разделах, где речь идёт уже не о Спинозе или Лессинге, не о пантеизме, но об отношении между теорией и историей. Иначе говоря, Якоби написал свои знаменитые «Письма об учении Спинозы» не для того, чтобы рассказать о своих беседах с Лессингом, не для того, чтобы изложить или покритиковать Спинозу, а для того, чтобы по этому случаю и на этом примере изложить своё понимание места философии и религии в жизни людей, в жизни общества. Первым обратил внимание на значение этих пассажей «Писем...» для понимания философии Якоби философ-марксист, Л.Колаковский216, исходя из основополагающего марксистского принципа, согласно которому не сознание людей определяет их бытие, а напротив - их общественное бытие определяет их общественное сознание. Однако у Маркса, насколько нам известно, нет ни одного упоминания имени Якоби, а у Ф.Энгельса, оно встречается лишь однажды, в ранней работе «Шеллинг и откровение» (1842 г.). Энгельс говорит здесь о Шеллинге как представителе «духа времени», а Якоби («и ему подобные»), по его мнению, не в счёт, поскольку выражают лишь отдельные стороны их времени, но не его целостность. Как полагает К.Хоман, здесь удалось впервые нащупать действительный «нерв» всего философствования Якоби, который ускользает от внимания исследователей при «чисто философском» подходе.
Правда, первенство здесь может быть признано и за Гегелем, который впервые рассматривает философию как историческую эпоху, схваченную в мыслях. Центральное понятие гегелевского толкования философии Якоби, как мы видели, - «субъективность», истолкованная Гегелем как особая ступень в развитии мирового духа, а стало быть, и общества, на которой им достигается известное сознание свободы. Именно здесь заключается своеобразие гегелевского истолкования «непосредственного знания» Якоби: «в положении, гласящем, что человек непосредственно знает о Боге, всегда будет содержаться то великое, что оно представляет собою признание свободы человеческого духа... и величие нашей эпохи заключается в том, что в ней признана свобода, ... признано, что дух внутри себя обладает этим сознанием» . Стало быть, уже по Гегелю ключ к пониманию философии Якоби в целом, её существа, заключается в том, чтобы рассматривать её как выражение достигнутого европейским обществом последней четверти XVIII в. «сознания свободы», в том числе - в политике, праве, морали, искусстве, религии. Гегель, не найдя у Якоби «конкретного» понимания свободы духа в специфически-гегелевском толковании «конкретности» как спекулятивной диалектики категориальных форм, утверждает, что завоёванный «принцип свободы» остаётся у Якоби, однако, «только принципом». Это утверждение освободило Гегеля от более конкретного исследования взглядов Якоби на экономические, юридические, политические, этические и религиозные проблемы того времени.
К сожалению, не продвинулись в этом направлении и марксистские историко-философские исследования, в том числе и в России Сложность проблемы усугубляется тем, что взгляды Якоби на устройство общества и государства имеют весьма «рапсодический» характер. Такова, правда, и вся его философия, однако изложить его «теорию общества» значительно труднее, чем, скажем, его нравственные представления или учение о бытии и знании. В нашем исследовании предпринята лишь первая попытка такой реконструкции и только в связи с проблемой непосредственного знания.
Непосредственное и опосредствованное знание
Средоточие всей теории познания Якоби - учение о соотношении непосредственного и опосредствованного знания. Мысль об их коренном различии и первичности непосредственного знания Якоби впервые развивает и публично высказывает в своих «Письмах об учении Спинозы».
Спиноза неукоснительно придерживается основного принципа старой, античной натурфилософии, который одновременно служит главным принципом всякого научного исследования мира: из ничего ничего не бывает; при всех изменениях что-то сохраняется неизменным; всякое изменение имеет причину, из которой оно следует с необходимостью, закономерно. Ничто не может возникнуть «из ничего» или исчезнуть «бесследно», аннигилировать в ничто. Это значит, что причина мира в целом как бесконечного универсума тождественна с ним самим. Мир, как совокупность телесных, душевных и духовных процессов, есть сам своя собственная причина, causa sui. Нет никакой причины мира «вне» мира, сверхъестественной причины, действующей разумно и целенаправленно. Поэтому и внутри мира нет никаких целевых (конечных) причин, воплощающих замысел Творца, или Провидение, есть одни лишь действующие (промежуточные) причины. В ряду событий и состояний нет ни первой причины, ни последней цели. Всё, что мы называем «мышлением», «волей», «чувством», «целями» и свободными «поступками» человека - также есть процесс механически-закономерно действующих природных сил, цепочка причин и следствий, в которой последующее с необходимостью вытекает из предыдущего, и в этой цепочке нет начала и нет конца.
Это и значит, что всякое существование и всякое событие опосредствовано, что всё происходит согласно вечной и неизменной необходимости. Спиноза, согласно Якоби, стал фаталистом и атеистом потому, что он хотел понять и объяснить всё, опираясь лишь на рассудок, хотел мыслить мир как целое, Бога и человека лишь как учёный, посредством одних лишь ясных и отчётливых понятий - так, как мыслит математик. Он хотел о Боге и человеке мыслить так же, как о числах, линиях и фигурах. Поэтому он называет «Богом» -природу, субстанцию.
Этот результат, т.е. атеизм и фатализм, утверждает Якоби, не составляет преимущественное достояние именно учения Спинозы, его особенность. К такому результату неизбежно придёт любая рассудочная, или научная, философия, если будет последовательной. Для неё понять какую-либо вещь — значит её объяснить, а объяснить -это значит связать с чем-то другим, т.е. указать основание или причину. Научное мышление - то, которое ищет причину и свои утверждения хорошо обосновывает, или доказывает. Любое же доказательство, как известно со времени Аристотеля, есть выведение одних суждений из других - такой переход, который совершается с логической необходимостью, мыслится аподиктически, и в котором мы, следовательно, не свободны, а подчиняемся общей и безличной логике мысли или логике вещей. Отсюда ясно, что «понять», «объяснить» и «доказать» — всегда означает опосредствовать и подчинить необходимости. Любое объяснение, и прежде всего определение и доказательство, по сути своей есть опосредствование. Мы можем понять лишь то, что можем объяснить и вывести посредством чего-нибудь другого. Но это другое мы также можем понять лишь через нечто третье. И так далее. На этом пути обоснования мы всегда имеем дело лишь с обусловленным, или истинным условно, при условии истинности предпосылок. Процедура опосредствования по своему существу бесконечна, вернее, требует бесконечного регресса, так как для обоснования привлекается только то, что в свою очередь требует точно такого же обоснования. Некоторое положение действительно доказано только тогда, когда и те положения, из которых оно выведено, тоже доказаны. Идя по цепочке обусловленного и объяснимого, мы не можем остановиться и не можем дойти до первого начала, до абсолютного и безусловного, если не хотим принимать ничего не доказанного. На пути объяснения, выведения и доказательства оно недостижимо, что прекрасно понимал уже Оккам, критикуя доказательства бытия Божьего, предложенные Аквинатом. Подняться постепенно, шаг за шагом, от мира к Богу, или от конечного к бесконечному, нельзя. Собственно, и основоположник логики и теории доказательства, Аристотель, уже прекрасно понимал, что всё доказанное в конечном счёте исходит из недоказанного и недоказуемого, поскольку в противном случае цепочка доказательств либо уходит в бесконечность - и тогда каждое из её звеньев вечно останется недоказанным, - либо становится замкнутой, т.е. попадает в порочный круг. Доказательство лишь тогда и является собственно доказательством, когда цепочка выводов исходит из положения, не подлежащего доказательству, из некоторого «первичного достояния ума», истинность которого непосредственно очевидна. Очевидна не для всякого человека, а для разума.
Пытаясь «понять» абсолютное, Бога, и доказать свои утверждения о нём, такая философия забывает о своих собственных предпосылках. Для неё понять Бога - значит точно так же «вывести» его из причины, из чего-либо иного, от чего он, стало быть, зависит, но такой «Бог» перестаёт быть Богом. Там, где прекращается выведение и опосредствование, там кончается и область господства «понятия», рассудка и науки. Поэтому существенный интерес науки состоит в отрицании Бога, в отрицании существования всего «сверхъестественного», «внемирного». Нет ничего позорнее для учёного, чем прибегать в объяснении тех или иных вещей и событий к воле Бога. Это значит - стыдливо уйти от собственно научного объяснения под «благовидным» предлогом. Воля Божья «объясняет» сразу всё, поэтому она никогда ничего не объясняет. Вот почему все чисто философские, научные системы в своём последовательном развитии должны придти к спинозизму. Это относится, говорит Якоби, и ко взглядам «бессмертного Лейбница», поскольку его философия в своём восхождении от чувственного к сверхчувственному, от конечного - к бесконечному, посредством одного лишь «рефлектирования», в каком бы направлении она ни двигалась, «теряется в чистейшем ничто»387. «Предустановленная гармония» - не что иное, как живущая по своим внутренним законам субстанция Спинозы. И лейбницевское понимание свободы также по существу не отличается от спинозовского . Лейбниц был учёным до мозга костей.
В знаменитом седьмом приложении к «Письмам об учении Спинозы» Якоби излагает краткую историю развития человеческого разума, которая постепенно выявляет и доводит до предела скрытую вначале внутреннюю противоречивость человеческого бытия. Всё достоинство человека состоит в его разумности, способности мыслить. Мышление - порождение жизни, оно служит лучшей ориентировке в мире, более надёжному самосохранению, поэтому обобщает опыт, находит причины и следствия. В немногих словах Якоби показывает, как эта способность в человеке обращается против породившей её жизни, против самого живого индивидуума. Развитие научного мышления от античных атомистов до Декарта приводит к такому пониманию природы (механико-математическому), которое делает совершенно необъяснимым её отношение к душе, духу, res cogitans, человеческой субъективности.
Кант и Якоби. Начало критики трансцендентальной философии
Якоби - один из первых критиков кантовской философии. Он упрекает её прежде всего в непоследовательности, или противоречивости, и в «идеализме». Очевидно, первое обвинение касается «буквы» кантовской философии, второе - её «духа». Дважды он применяет также термин «спекулятивный эгоизм»532, который с 1800 г. уступает место «субъективизму». «Явления» Канта, по мнению Якоби, - это всего лишь человеческие представления, которым не соответствуют никакие реальные предметы, существующие вне и независимо от сознания. Эту мысль Якоби впервые сформулировал в 1787 г., в приложении к «Давиду Юму»533, озаглавленном «О трансцендентальном идеализме», и неоднократно повторил впоследствии, в особенности - в 1801 г., в «Предприятии критицизма», а также в 1811 г., в «Божественных вещах». В том же приложении 1787 г. он указывает и на основное противоречие кантовской философии, непоследовательность Канта, обусловленную его уверенностью в существовании «вещей самих по себе»: «без этой предпосылки я не могу войти в систему и с этой предпосылкой не могу в ней оставаться»5 .
Нельзя не заметить, что и отношение Якоби к Канту было весьма противоречивым. В 1790 г. он пишет Эвальду (Ewald): «Земля ещё не носила более последовательного философа, чем Кант» (!)535. В другом месте, однако, читаем прямо противоположное: Кант «остался противоречивым и совершенно двусмысленным до конца своих дней»5 . Противоречия во взглядах Канта объясняются, по мнению Якоби, в конечном счёте тем, что в качестве профессора, философа, учёного и учителя он должен был опираться на основания разума, абстрактные понятия и доказательство, но в качестве человека, как живая личность, он доверял «непосредственному положительному откровению разума», своему личному моральному сознанию537. Как философ, он был вполне последователен, но в его философские трактаты вкрались всё же ненаучные, простые человеческие высказывания. Таково вредное влияние профессионализма в философии: он приводит к недоверию здравому смыслу, уводит от реальности в вымышленные теоретические миры,и если человек всё же не совсем утрачивает связь с реальностью, то он вынужден раздваиваться, вступать в противоречия с самим собой.
Непоследовательность, «хамелеоновская окраска» - это «основной недостаток» кантовской философии, которая страдает «двусмысленностью», «хочет парить посередине между идеализмом и эмпиризмом», быть наполовину априорной, наполовину эмпирической и т.д. Именно эта хамелеоновская способность и сделала кантовскую философию столь популярной и привлекательной для целой «толпы» его сторонников и сто последователей . Ведь для любого нормального человека с присущим ему «наивным» реализмом есть что-то отталкивающее в последовательном субъективизме, но его охотно принимают (под влиянием всё-таки достаточно сильных философских аргументов), если сохраняется хотя бы видимость признания объективно-реального мира, как у Канта.
Основное противоречие, из которого вытекают все прочие, согласно Якоби, состоит в том, что без предположения реального существования объектов вне субъекта (вещей «в себе» или «самих по себе») невозможно «войти» в кантовскую систему, но сохраняя эту предпосылку невозможно в этой системе «оставаться». С одной стороны, само понятие «явления», как писал и сам Кант, теряет всякий смысл без предположения существования того, что является, являющейся вещи. «Является» всегда то, что может и не являться, существует само по себе. Говорить о явлениях и отрицать существование вещей самих по себе - всё равно что описывать поверхность океана, отрицая существование самого океана. Однако это предположение, с другой стороны, основано на понятии «аффицирования», которое включает в себя представление о причинности, которое применяется к явлению как следствию воздействия «вещи в себе» на душу, её способность восприимчивости. Применение же понятия причинности, согласно всему последующему кантовскому анализу деятельности рассудка, должно быть ограничено отношением между явлениями, с целью создания «опыта», и никак не может выходить за границы явлений и опыта, иначе говоря, это понятие не может быть применено к отношению между «вещью в себе» и явлением. Поэтому способ, которым Кант получает понятие «вещи в себе», находится в непримиримом противоречии с его учением о категориях, их значении и применении. А это учение, особенно в части «трансцендентальной дедукции», которая как раз и ограничивает применение категорий сферой опыта, образует самое средоточие, сердцевину, краеугольный камень всей системы критицизма. Поэтому Якоби с присущей ему образностью называет отношение «вещи в себе» и явления, субъекта и объекта у Канта - «криптогамией», тайным браком.
Якоби хорошо видит не только то, что Кант фактически начинает с реалистической предпосылки, признавая существование вещей самих по себе и аффинирование чувственности этими вещами, но и то, что Кант и не может начать иначе, что это предпосылка необходима для построения его системы. И если в ходе дальнейшего развития системы он рассматривает предмет как продукт деятельности мышления, то это означает, что философская интенция, опора на абстрактное мышление, постепенно берёт верх над изначальной реалистической установкой и в конечном счёте вытесняет её. Метафизик победил в Канте физика, Кант-учёный одолел Канта-человека. Якоби упрекает Канта не в том, что он признаёт аффинирование души со стороны «вещей в себе», а в том, что он продолжает утверждать их существование после того, как он со всей ясностью разложил сознание и познание на его элементы, причём так, что стало возможным показать происхождение любого представления, в том числе и представления о «предмете» и его «реальности», из конструирующей деятельности субъекта. После того, как Кант решил эту задачу, признание «аффинирования» стало совершенно излишним и несовместимым с полученным результатом. Ибо что мы можем утверждать о вещи в себе, если любые наши утверждения возможны лишь благодаря категориям, а эти последние служат исключительно эмпирическому синтезу?
Эта критика по сути дела требует элиминировать понятие «вещи в себе» из учения Канта, чтобы показать истинную сущность трансцендентального идеализма. Именно этим путём и не без прямого влияния критики Якоби и пошло в дальнейшем развитие немецкого идеализма. От этой мысли, как исходной, основополагающей, отталкивался Фихте, предвосхитивший почти всё, что было сделано потом Шеллингом и Гегелем.
Кант не может, далее, согласовать и эмпиризм с априоризмом. Черты эмпиризма в кантовской системе проступают совершенно явственно. Кант не только принимает существование вещей в себе и их воздействие на чувственность субъекта, не только принимает «суверенность» чувственного многообразия, его простую «данность» независимо от всей деятельности мышления, но по сути дела заимствует из опыта якобы «априорные» формы чувственности и категории рассудка. Он принимает их как факт, не имея другого основания, кроме того, что именно эти формы мы обнаруживаем в опыте, как его формы.