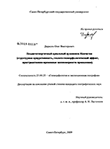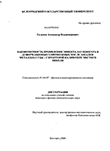Введение к работе
Актуальность проблемы. Леса России составляют около 22% мировой площади лесов (Колтунов, 2006) поэтому им принадлежит важная планетарная роль в процессах фотосинтеза, депонирования углерода, круговорота веществ в природе и многих других функциях. Одним из важнейших резервов сохранения лесного фонда и продуктивности лесного хозяйства является защита насаждений от насекомых. В России от различных негативных факторов (в основном пожаров) ежегодно погибает около 300 тыс. га лесов, на долю насекомых в этом процессе приходится в среднем 36 тыс. га, или более 10% (Матусевич, Гниненко, 2000). В отдельные годы влияние этого фактора увеличивается до 30-50% (Матусевич, Гниненко, 2000), т.е. ущерб от деятельности насекомых становится сопоставим с лесными пожарами. Наиболее вредоносная роль принадлежит сибирскому шелкопряду Dendrolimus superans sibiricus., непарного шелкопряда Lymantria dispar и шелкопряда-монашенку Lymantria monacha также относят к группе наиболее опасных лесных фитофагов. Эти насекомые периодически дают крупномасштабные вспышки массового размножения в различных частях своего ареала, иногда на площадях, исчисляемых в миллионах гектаров (Marshall, 1981; Harris, Lavers, 1985). На территории России наибольшие по площади очаги среди дендрофшшных насекомых образует непарный шелкопряд. Так, за последние 20 лет площадь его очагов в среднем ежегодно составляла 726 тыс. га (Матусевич, Гниненко, 2000), а шелкопряда-монашенки за последние 10 лет - 36,4 тыс. га (Сергеенко, 1999).
Комплексный подход к защите растений предполагает максимальное использование разнообразных естественных регуляторов, а при необходимости защитных мероприятий -применение искусственных факторов, сдерживающих численность насекомых на экономически неощутимом уровне при возможно меньшем нарушении равновесия среды. Такой подход представляется наиболее целесообразным и к настоящему времени он получил широкое признание (Знаменский, 1973; Рукавишников, 1973; 1979; Долгий, 1989; Кобзарь, 1991; Штерншис, 1995; Белицкая, 2004; Pimentel et al, 1984; Reardon, 1988; Fffippov, 1989; Howarth, 1991;
Cameron, 1991). Основу интегрированного управления численностью насекомых составляет детальное изучение биологии, динамики численности и вредоносности, а также выявление естественных регуляторов и их роли в ограничении численности насекомых.
Краткий анализ современного состояния проблемы. Проблема, каким образом поддерживается перманентность бакуловирусной инфекции в популяциях насекомых-хозяев, и как инициируются массовые заболевания при естественных эпизоотиях, является предметом дискуссии на протяжении последних десятилетий Часть исследователей полагает, что вирусы могут длительное время сохраняться в среде обитания насекомых (Doane, 1976; Thompson et al., 1981; Weseloh, Andreadis, 1986; Oloffson, 1988; Murray, Elkinton, 1989; Dwyer, Elkinton, 1995; Richards et al., 1999 и др.), а эпизоотии возникают на пике численности популяции, когда увеличивается вероятность контактов насекомых с вирусом. Альтернативная теория построена вокруг идеи, согласно которой в популяциях насекомых присутствует скрытый вирус, который активируется некоторыми экстремальными факторами, вызывая смертность насекомых (Гершензон, 1961; Тарасевич, 1975; Steinhays, 1958; Aruga, 1963; Vago, 1963; Fuxa et al., 1999; Boots et al., 2003; Cooper et al., 2003 и др.). Полярность точек зрения, вероятно, объясняется практически полным отсутствием работ, позволяющих в прямых экспериментах исследовать вертикальную передачу вирусов у насекомых и идентифицировать эндо- и экзогенную вирусные инфекции. Дакое дифференцирование принципиально важно, поскольку на воздействие скрытого вируса ответ насекомого детерминирован в основном физиологическим статусом последнего и действием индуцирующих факторов. В свою очередь, реакция насекомого на экзогенное инфицирование, помимо физиологического статуса, обусловлена главным образом биологической активностью вируса и множественностью заражения.
Большое значение при изучении динамики численности насекомых уделяется трофическому фактору, поскольку при высокой плотности популяции уменьшается количество корма и изменяется его качество (Рафес, 1981; Haukioya, 1991; Larson et al., 2000 и др.), вызывающие изменение резистентности насекомых к вирусной инфекции (Shapiro et al., 1994; Boots, 2000). Однако и при оценке роли трофического фактора закономерности проявления вирозов во многом не ясны. Так, эпизоотии в популяциях массовых видов лесных фитофагов отмечались и при слабой степени дефолиации
насаждений (Гулий, Рыбина, 1988; Ильиных и др., 2005), которая не вызывает существенных изменений биохимического состава корма. С другой стороны, даже при высокой и сплошной степени дефолиации основных кормовых пород непарного шелкопряда в Зауралье и Западной Сибири гибель насекомых от полиэдроза наблюдалась на энзоотическом уровне - спорадически и у незначительной части популяции, не превышающей нескольких процентов (Колтунов, 1993; Колтунов и др., 1998; Ильиных, 2005; Hyinykh et al., 2004). В свою очередь, в североамериканских и европейских популяциях непарного шелкопряда полиэдроз является одним из ведущих факторов динамики численности, нередко приводящим к массовой гибели насекомых (Вейзер, 1972; Woods, Elkmton, 1987; Dwyer, Elkinton, 1995).
С помощью молекулярно-биологических методов была
обнаружена интеграция бакуловирусного генома в клеточный геном
насекомого-хозяина у таких видов, как большая вощинная огневка
Galleria mellonella (Мирюта и др., 1985) и тутовый шелкопряд ВотЪух
топ (Кок и др., 1983; Yamab et al., 1999). Однако для других видов
насекомых способ существования скрытой вирусной инфекции
оставался неизвестным. Первые сведения о проявлении спонтанного
полиэдроза у насекомых получены более ста лет назад (Pogwaite,
Mazzone, 1986), однако до настоящего времени отсутствовали прямые
доказательства, подтверждающие регистрацию скрытой вирусной
инфекции у насекомых и ее способность к переходу в острую форму,
и все предположения строились по косвенным данным. Имеются
отдельные работы по активации скрытых вирусных инфекций у
непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки, но оставалось во
многом невыясненным, насколько латентные инфекции
распространены в популяциях названных насекомых. В результате практически отсутствуют представления о характере причинно-следственных связей, обуславливающих степень сопряжения фитофагов с их бакуловирусами и, соответственно, закономерности проявления вирозов в популяциях насекомых.
Цель исследования заключалась в комплексном изучении основных механизмов вертикальной передачи бакуловирусов и формирования заболеваний полиэдрозом у непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки.
Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:
1) Оптимизировать состав искусственной питательной среды (ИПС) и разработать методику культивирования непарного шелкопряда в лабораторных условиях.
2) Изучить возможность вертикальной передачи бакуловируса в
виде латентной инфекции, а также через инфицирование насекомых
вирусом в среде обитания.
Исследовать индукцию вирусной репликации у непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки в экспериментальных условиях в различные периоды онтогенеза и фазы градации численности.
Выявить распространение скрытой вирусной инфекции в очагах массового размножения непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки.
5) Исследовать особенности проявления спонтанного полиэдроза
у непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки в очагах массового
размножения насекомых в различные фазы градации численности.
Научная новизна работы. Впервые с применением современных диагностических методов установлено, что вертикальная передача бакуловируса у одного и того же вида насекомого может осуществляться как в виде скрытого вируса, так и через внешнее инфицирование насекомых в среде обитания.
Впервые в прямом эксперименте продемонстрировано, что скрытая вирусная инфекция может формироваться у насекомых, выживших после воздействия бакуловируса, и может быть активирована в дочернем поколении
Впервые показано, что уровень скрытого вирусоносительства в популяциях лесных филлофагов поддерживается за счет особей, погибших от полиэдроза в предшествующих генерациях насекомых.
Впервые проведен анализ причинно-следственных связей, обуславливающих различную степень сопряжения насекомых с их бакуловирусами. Показано, что уровень проявления спонтанного полиэдроза в популяциях лесных филлофагов определяется биологической активностью вируса, множественностью заражения, биологическими особенностями и физиологическим состоянием насекомого, особенностями кормовой породы, а также факторами внешней среды.
Практическая значимость работы. Разработана оригинальная ИПС для выращивания гусениц непарного шелкопряда и методика культивирования, исключающая экзогенное инфицирование насекомых вирусом и позволяющая получить ряд генераций непарного шелкопряда в лабораторных условиях
Показано, что процент гибели насекомых от индуцированного полиэдроза и количество выделенного вируса на одну особь могут служить характерными точками градационного цикла и наряду с традиционными показателями (масса куколок, плодовитость насекомых) применяться в качестве индикаторов фаз вспышки шелкопряда-монашенки.
Предложен метод получения вируса ядерного полиэдроза (ВЯП) у шелкопряда-монашенки, заключающийся в содержании гусениц из природных популяций на пике численности или в фазу кризиса, в условиях 100% влажности воздуха для индукции вирусной репликации. Этот метод позволяет оптимизировать культивирование вирусного материала, поскольку получение вируса не связано с его расходом.
Концептуальные положения, которые выносятся на защиту. 1 Вертикальная передача бакуловируса может осуществляться как за счег передачи скрытого вируса, так и через экзогенное инфицирование насекомых в среде обитания.
2. Латентная вирусная инфекция может формироваться у насекомых, выживших после заражения бакуловирусом, и может быть активирована в дочернем поколении.
3 Уровень скрытого вирусоносительства в популяциях насекомых поддерживается за счет особей, погибших от полиэдроза в предшествующих генерациях.
4. Интенсивность эпизоотии у лесных филлофагов обусловлена главным образом биологическими особенностями насекомых и характером лесорастительных условий, при которых обеспечивается сохранность вируса в экосистеме и высокая вероятность контакта бакуловируса с насекомым-хозяином. Апробация работы.
Материалы диссертации были представлены на I и II Всесоюзных конференциях по промышленному разведению насекомых (Москва, 1986, 1989); на Всесоюзной конференции "Пути совершенствования микробиологической борьбы с вредными насекомыми и болезнями" (Оболенск, 1986); на отраслевом совещании "Биологические и технологические проблемы создания вирусных препаратов для интегрированной защиты растений" (Новосибирск, 1989), на II симпозиуме стран-членов СЭВ по микробным пестицидам (Москва, 1990); на Всероссийском научно-производственном совещании (Краснодар, 1994), на Международном конгрессе по химическим пестицидам (США, Вашингтон, 1994); на ХШ Международном
конгрессе по защите растений (Голландия, Гаага, 1995); на Всероссийском съезде по защите растений (Санкт-Петербург, 1995); на международном симпозиуме "Биологическая и интегрированная защита леса" (Пушкино, 1998); на XI и XI съездах Русского Энтомологического Общества (Санкт-Петербург, 1998, 2002); на Международном симпозиуме "Сохранение и защита горных лесов" (Ош, 1999); на международном симпозиуме "Интегрированная защита растений: достижения и проблемы" (Кишинев, 20001); на международном симпозиуме "Молекулярные механизмы генетических процессов и биотехнология" (Москва, Минск, 2001); на международной конференции "Достижения биотехнология для будущего человечества" (Самарканд, 2001); на научно-практической конференции, посвященной 100-летию профессора Е.В. Талалаева (Иркутск, 2002), на Сибирской зоологической конференции (Новосибирск, 2004); на XXV юбилейном конгрессе ВПС/МОББ (Венгрия, Будапешт, 2005); на II Межрегиональной научной конференции паразитологов Сибири и Дальнего Е>остока (Новосибирск, 2005), на VII Межрегиональном совещании энтомологов Сибири и Дальнего востока (Новосибирск, 2006).
Публикации Основные материалы диссертации изложены в 74 научных работах, из них 22 в рецензируемых журналах.
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 282 страницах машинописного текста, включает 45 таблиц и 22 рисунка. Работа состоит из введения, семи глав, заключения, выводов и списка литературы