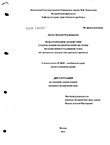Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Заблуждения, знания и возможности
Типичные предрассудки 25
Гипотезы и методология 34
Отечественный историографический «бэкграунд» 44
Зарубежное изучение «социальности» охотников и собирателей 86
Цели и возможности изучения охотников и собирателей 114
Глава вторая. Проблема территориальных социальных объединений.системы землепользования 121
Проблема племени 1.21
Проблема «надобщинных» формирований у африканских и южноазиатских охотников и собирателей 134
Проблема общины 146
Проблема собственности на землю 188
Глава третья. Родство 202
Социоцентрические родственные группировки 206
Проблема рода 225
Эгоцентрическая перспектива: номенклатуры родства. Билатеральные киндреды. Отношения по бракам и семья 232
Проблема "латеральности" счета родства и использования номенклатур родства для историко-социологических реконструкций 249
Глава четвертая. Проблема "прервобытного равенства". Эгалитаризм и дифференциация статусов 293
Дифференциация статусов у аборигенов Австралии 296
Санкции и наказания в обществе аборигенов Австралии 325
Монополизация информации как средство структурирования социального неравенства 328
Эгалитарные общества африканских и азиатских охотников и собирателей 346
Некоторые черты социальной жизни, тесно сопряженные с эгалитаризмом или дифференциацией статусов 353
Некоторые соображения о причинах «эгалитарности» и «неэгалитарности» социальных отношений при одинаковом способе жизнеобеспечени архаический синдром? 369
Заключение 376
Литература 386
Список сокращений 422
Приложение 423
- Типичные предрассудки
- Проблема племени
- Социоцентрические родственные группировки
- Дифференциация статусов у аборигенов Австралии
Введение к работе
Проблемы и объекты исследования. В опубликованной недавно на русском языке работе «Проблемы, парадоксы и перспективы эволюционизма» виднейший голландский специалист по политической антропологии X. Дж. Классен пишет:
«...в XIX столетии было обнаружено огромное количество обществ, которые не достигли государственного уровня развития... Они были современниками и бьши полны жизни, но в эволюционных схемах они классифицировались как представители недоразвитых, отсталых или даже деградировавших типов общества». Между тем, «не было ни малейшего признака деградации или стагнации этих обществ; они были абсолютно жизнеспособны и явно шли по иным путям развития. Интересно, что ни Сервис, ни Салинз, ни Фрид, ни Карнейро не сделали этого очевидного вывода из имеющихся в наличии данных» (Классен, 2000а, с. 14).
Удивительно, что ни сам Классен, ни другие авторы безусловно теоретически авангардного сборника «Альтернативные пути к цивилизации» (2000), где помещена цитируемая работа, тоже не сделали этого вывода до конца, со строгой логической последовательностью.
Так, Классен пишет далее о своей методологической платформе: «Предлагаемая здесь модель противоположна упомянутым в начале работы схемам [классическому эволюционизму ХГХ века и неоэволюционизму XX века — О.А.], поскольку за точку отсчета берутся истоки человеческого общества, а не высшие уровни (как обычно делалось)... Из этих истоков развивалось все многообразие человечества... внутренняя динамика вела к возникновению различных линий развития, часто связанных с особенностями регионов, в которых развитие культуры и, следовательно, социально-политической организации шло различными путями» (там же, с.14-15)1. Но в вышеприведенной цитате, а также на следующих страницах той же публикации, мы читаем о достижении государственного уровня развития или о племенном уровне организации, о более и менее высоких уровнях развития, и о том, что некоторые из путей эволюции «демонстрируют лишь ограниченное развитие; это относится, например, к охотникам и собирателям, представляющим последних участников первого эволюционного потока...» (там же, с. 20; выделение в цитате мое — О.А.).
Логика требует спросить: ограниченное развитие относительно чего и уровни по отношению к чему? При таком формулировании где-то непременно должна быть верхняя планка. Для Классена это, очевидно, государство, к которому можно идти разными путями и до которого просто можно не дойти, застряв где-то по дороге (см. также: Классен, 2000 Ь). Для некоторых других участников цитируемого сборника это цивилизация, которая может быть безгосударственной, т.е. организационной системой, альтернативной государственным системам, но которая должна быть обязательно непервобытной (см. например, Бондаренко, 2000, с.200 и др.; Коротаев, 2000, с.265-291). Это как бы подразумевается и самим названием издания: «Альтернативные пути к цивилизации».2 Трудно удержаться от того, чтобы не перефразировать известный лозунг и не сказать иронически: «наша цель — государство» или некая сложная альтернативная непревобытная полития (ср. Коротаев, Крадин, Лынша, 2000, с.37). И уж в любом случае «наша цель — цивилизация». Иными словами, получается, что пути у разных обществ земного шара разные, а направление одно — цивилизация, и те общества, которые к ней не пришли, остались в первобытности. Первобытность же в такой парадигме оказывается уровнем или стадией социальной эволюции, как это и было в классическом эволюционизме, а также в марксистском учении о социально-экономических формациях.
Между тем, не только то важно, что этнографические материалы по таким обществам, как общества папуасов Новой Гвинеи, жителей Маркизских островов или аборигенов Австралии в доколониальное время, не позволяют говорить ни о стагнации, ни о деградации. Но и особенно важно то, что археологические материалы, полученные в местах их современного расселения, позволяют говорить об их эволюции, самостоятельном развитии. Общества Аборигенов Австралии тридцать тысяч лет тому назад и общества, аборигенов Австралии изучавшиеся этнографически в ХГХ-ХХ веках, — это разные общества с заметно отличающимися культурными комплексами (например: Уайт, 1994; Смит, 1999а; 1999b; Петерсон, 1999а). Вместе с тем, нет никаких свидетельств о том, что тот эволюционный путь, который аборигены Австралии проделали на своем материке, вел их в том же направлении, в котором двигалось, скажем, западноевропейское население с эпохи верхнего палеолита до раннего средневековья. И дело не в том, что шли они медленно. А в том, что шли они в другую сторону.
2 Правда, авторский коллектив, ядро которого составляют те же исследователи, издал (на английском языке) и книгу с более концептуально глубоким названием «Альтернативы социальной эволюции» (2000), но исследовательские парадигмы и ход авторских мыслей там те же.
Если последовательно придерживаться цитированной выше парадигмы Классена, согласно которой точкой отсчета могут быть лишь истоки человеческой истории, а также формулируемых А.В.Коротаевым, Н. Н. Крадиным и В.А.Лыншей теоретических установок, согласно которым у человечества имелось «неограниченное число эволюционных альтернатив» и «выбор в конкретных исторических условиях» совершало «само общество» (2000, с.47;54), то следует признать, что из «одного пункта отправления» разными путями можно было идти не только к цивилизации, но и в других направлениях, и у древних человеческих обществ были возможности не только не двигаться к цивилизации, гродским культурам и индустриальным экономикам, но и уйти в сторону от производящего хозяйства. Тогда мы не сможем говорить об ограниченном развитии охотников и собирателей или «бесполитийных» мотыжных земледельцев, а также о разных уровнях или стадиях социального развития. Тогда охотников и собирателей или безгосударственных мотыжных земледельцев мы не сможем поставить на более низкую ступень воображаемой всемирно-исторической лестницы, чем, скажем, современное население США. Ведь никто не определял для человеческих обществ «пунктов назначения». И тогда мы также должны будем в первобытности видеть не стадию социальной эволюции, не уровень социально-экономического развития, не форму социальной жизни, а историческую эпоху, которую все без исключения современные человеческие общества оставили далеко позади, каким бы способом жизнеобеспечения они ни обладали сегодня или сто лет назад.
Конечно, сразу же хочется определить то историческое время, когда эпоха первобытности кончилась. Однако выделение исторических эпох — это всего лишь научная условность. Историки договариваются между собой о том, какие события, имевшие глобальное значение в истории человечества в целом, считать вехами, отделяющими исторические эпохи друг от друга. Следуя этой практике, можно предложить считать концом первобытности то время, когда впервые на Земле появились общества, вступившие на путь развития в направлении цивилизации, а у других обществ появилась альтернатива от этого пути уклоняться.
Именно как производные альтернативных по отношению к цивилизации путей и направлений исторического развития рассматриваются в настоящей работе социальные системы охотников и собирателей, изучавшихся этнографически в XIX и XX столетиях. Все они расцениваются нами как непервобытные, созданные сообществами людей, которые уклонились не только от «цивилизационных» путей эволюции, но и от производящей экономики и от тех далеко ведущих возможностей социологического свойства, которые производящая экономика дает.
Нам также весьма импонируют цитированные выше установки Коротаева, Крадина и Лынши, согласно которым общества сами выбирают себе пути. В их формулировках можно, конечно, усмотреть известную персонификацию обществ и как бы указание на сознательное целеполагание на дальнюю перспективу, что, разумеется, нереалистично и, очевидно, не имелось в виду. Однако исторический выбор, осуществлявшийся из поколения в поколение в расчете на ближнюю перспективу индивидами, ассоциированными в те или иные сообщества, представляется несомненным фактом.
Ограничимся суждениями об объектах настоящего исследования. Мы постоянно слышим и читаем, что уцелевшие до нашего или сравнительно недавнего времени охотники и собиратели только потому и уцелели, что были загнаны в самые неблагоприятные, непригодные для обладателей других способов жизнеобеспечения экологические ниши, в которых можно было влачить лишь весьма убогое существование. Но при этом как-то забывается, что все или почти все известные этнологии охотники и собиратели на протяжении многих столетий контактировали с земледельцами или скотоводами и у них была альтернатива тем или иным способом раствориться в инокультурном окружении, перестать существовать в качестве охотников и собирателей, оставшись в более благоприятных нишах, как это сделали многие другие, не уцелевшие до нашего времени охотники и собиратели. Уцелевших охотников и собирателей не столько загоняли в глушь, сколько они сами туда уладялись, чтобы развиваться в русле предпочитаемого образа жизни, отнюдь не представлявшегося им убогим.
Танзанийские охотники и собиратели хадза, писал М.Салинз, «обученные жизнью, а не антропологами, отвергают неолитическую революцию, чтобы сохранить свой досуг. Окруженные земледельцами, они вплоть до недавнего времени отказывались культивировать растения главным образом, на том основании, что это потребовало бы слишком много тяжелой работы [устное свидетельство Дж.Вудберна, приводимое М.Салинзом]. В этом они подобны бушменам, которые на неолитический вопрос отвечают своим вопросом: Почему мы должны выращивать растения, когда в мире так много орехов монгонго? » (Салинз, 1972, с.42; см. также: Ли, 1968, с.ЗЗ). Земледелие, как заметил уже очень давно Поль Лафарг, было первым примером рабского труда в истории человека.
Исследователи многократно отмечали сознательное стремление охотников и собирателей оберегать свою изоляцию и автономию, избегать или жестко ограничивать взаимодействие с более «продвинутыми» соседями, их нежелание признавать подчиненное положение, сотрудничать с администрацией любого уровня, а также и упорное уклонение от налогообложения. Современных охотников и собирателей этнологи, изучавшие их в поле, часто называют «историческими беженцами». Особую же популярность среди специалистов
по изучению охотничье-собирательских культур получило выражение Дж.Вудберна «автономия дефолта» (1980; 1982; 1988а), которым обозначаются изощренные поведенческие стратегии, направленные на поддержание культурной обособленности. Стратегии эти были вполне успешными на протяжении веков или даже тысячелетий, пока охотники и собиратели не испытали прямого натиска современной индустриальной (глобализирующей) цивилизации. Но такого натиска не выдерживают и никакие другие эволюционные альтернативы.
В качестве объектов изучения в настоящей работе выбраны охотники и собиратели Австралии, Африки (бушмены, или сан, пигмеи и хадза) и Южной Азии (бирхор и палийан)3. Выбор этот обусловлен следующими объективными обстоятельствами.
1. Все названные общества развивались в условиях жаркого пояса, между северным и южным тропиками. Лишь бушмены и австралийцы в значительной своей части расселялись южнее тропика Козерога, но не далее 38-й параллели. Иными словами, на макроуровне экологические зоны, в которых развивались изученные группы охотников и собирателей, характеризуются базовым сходством, хотя на микроуровнях они варьировали. Однако принципиально важно, что при всех локальных отличиях именно экологические факторы обусловливали сравнительную простоту материальной культуры австралийских, африканских и южноазиатских охотников/собирателей, а также фундаментальное сходство их хозяйственных стратегий.
2. Все изученные общества относятся к категории так называемых неспециализированных охотников и собирателей. Иногда их весьма неудачно именуют низшими охотниками и собирателями, простыми или даже простейшими охотниками и собирателями. Эти наименования призваны противопоставить их охотникам и собирателям, специализировавшимся на различных формах интенсифицированного присвоения, которое развилось в особо благоприятных экологических условиях, позволявших поддерживать оседлый или полуоседлый образ жизни и создавать запасы пищи и других материальных ценностей. Неспециализированные же охотники и собиратели вели высоко подвижный образ жизни и не делали никаких запасов. Они быстро потребляли все, что добывали, и обходились минимумом орудий и утвари. В настоящее время их хозяйственные системы все чаще обозначаются предложенным британским социальным антропологом Дж.Вудберном термином «системы немедленного возврата» (подробнее см. ниже, ее. 104-105).
3. Относительная простота материальной культуры и трудовых процессов, задействованных в жизнеобеспечении, удивительным образом сочетались у австралийских,
См. карты в «Приложении».
африканских и южноазиатских охотников и собирателей со значительной сложностью социальных отношений и институтов, регулирующих духовную жизнь. Фундаментальное сходство приемов жизнеобеспечения сочеталось со значительным разнообразием организационных структур и культурных стереотипов человеческого взаимодействия. Оба сочетания представляют собой большой теоретический интерес как с точки зрения изучения процессов социальной эволюции — в частности, так и с точки зрения изучения организации человеческого общежития — в целом.
4. К настоящему времени мировая этнология (социальная/культурная антропология) накопила чрезвычайно обширные материалы по африканским, австралийским и южноазиатским охотникам и собирателям. Большая часть этих материалов собрана и опубликована на высоком профессиональном уровне по одним и тем же стандартным схемам, проверена и перепроверена в одних и тех же районах разньши авторами, и потому как нельзя лучше пригодна для широких сопоставлений и открыта для критического источниковедческого анализа — в силу высокой степени унификации концептуального аппарата и научного языка.
Как уже упоминалось, все рассматриваемые в настоящей работе охотничье-собирательские общества (за исключением некоторых групп аборигенов внутренних районов Австралии) имели более или менее длительную (от нескольких сотен до нескольких десятков лет) историю взаимодействия с автохтонными земледельческими или скотоводческими культурами, или с культурами пришлых колонистов, иногда же — и с теми, и с другими. Поэтому все эти общества не являют собой образцов так называемых чистых охотничье-собирательских социальных систем. Таковых этнологическая наука практически не знает. Вопросы о том, насколько современные или еще недавно существовавшие общества с присваивающей экономикой репрезентативны не только для реконструкции ранних этапов социальной эволюции, но и для заключений о социально-экономических системах этого типа per se, многократно дискутировались как в отечественной, так и в зарубежной этнологической литературе (например: Этнография как источник, 1979; Уилмсен, 1983, 1989а, 1989b; Уилмсен, Денбоу, 1990 и комментарии; Солуэй, Ли, 1990 и комментарии; Барнард, 1992b).
Наиболее взвешенным представляется подход, согласно которому люди, обеспечивающие себя исключительно или преимущественно охотой и собирательством, только потому и способны поддерживать свою жизнь таким способом, что практикуют адекватные ему формы социального взаимодействия. Инокультурные влияния могут быть весьма значительными, и в каждом конкретном случае должны пристально изучаться и учитываться, но они не разрушают социальных институтов охотников и собирателей
кардинально, а лишь видоизменяют их. Но сам факт, что люди продолжают опираться на присваивающее хозяйство, показывает, что эти влияния не разрушили социальных институтов охотников и собирателей кардинально, а лишь видоизменили их. При кардинальном же разрушении адекватных неспециализированной присваивающей экономике социальных систем она перестает существовать как способ жизнеобеспечения, (например: Мартин, 1983; Берд-Дэвид, 1987,1990а, 1990b; Барнард, 1992b).
Что же касается проблемы реконструкции «подлинно первобытных», т.е. давно исчезнувших, форм социальной жизни, то представляется очевидным, что ни одна из изучавшихся этнографически охотничье-собирательских социальных систем не может быть спроецирована в глубокую древность, но любое жизнеспособное, удовлетворяющее базовые материальные и духовные потребности людей, общество с присваивающей экономикой показывает, какие формы социальной жизни в принципе возможны при таком способе жизнеобеспечения, а кросс-культурное сравнение ряда таких обществ способно показать, какие формы социального взаимодействия безусловно необходимы для их функционирования, а какие могут варьировать или даже отсутствовать. Исходя из этого, именно различия в культурах социального взаимодействия у разных групп неспециализированных охотников и собирателей концентрируют максимум иследовательского внимания автора настоящей работы. Изучаемые социальные системы не только альтернативны социальным системам, основанным на производящей экономике, и цивилизационным моделям социального развития, но они также альтернативны друг ДРУГУ» Даже при базовом сходстве способов жизнеобеспечения эти общества могли следовать неодинаковыми путями в своей социальной эволюции.
В соответствии со всем вышесказанным можно очертить три основных круга задач диссертации:
1. Выявление общих и специфических черт социальной жизни конкретных охотничье- собирательских культур, избранных в качестве объектов изучения.
3. Анализ выводов, полученных при изучении конкретных современных или еще недавно существовавших охотничье-собирательских обществ, с целью выработки суждений о том, какие формы социальной жизни могли быть весьма вероятны, маловероятны и совсем невероятны на ранних этапах социальной эволюции, в первобытную эпоху.
2. Поиск в социальных системах современных охотников и собирателей структурных черт, которые имеют явные соответствия в социальных системах, основанных на различных способах жизнеобеспечения и характеризующихся различными уровнями экономи-ческой интеграции — от мотыжного земледелия с натуральным обменом до современных индустрии с рыночной глобализацией в широчайших масштабах. Иными словами, поиск
таких структурных соответствий, которые хотя и не являются универсальными и даже регулярными, но все же свидетельствуют о неких общечеловеческих формах взаимодействия, имеющих как бы сквозной характер — пересекающих границы эпох, культур, цивилизаций.
Более развернуто познавательный смысл изучения социальных систем современных или недавно существовавших охотников и собирателей мы сочли целесообразным сформулировать в конце первой главы, в историографическом контексте.
Новизна, актуальность и практическая значимость работы. Изучение современных или существовавших до недавнего времени охотников и собирателей в качестве обществ непервобытных, развивавшихся особыми эволюционными путями — альтернативными эволюционным путям земледельческо-животноводческих, городских и индустриальных культур — может положить начало новому направлению теоретической мысли в отечественной этнологии. Это представляется тем более актуальным на настоящем этапе развития отечественной этнологической науки, что в последние годы в печати и на научных собраниях нередко высказывается мнение о теоретическом кризисе или даже упадке в этой области гуманитарного знания (см., например, Соловей, 2003: ср.Тишков, 2003, сс.27-34).
В отечественной этнологической литературе имеется лишь две монографии (Кабо, 1986: Казанков, 2002), непосредственной задачей которых были широкие кросс-культурные сравнения этнологических данных по охотникам и собирателям. Однако ни в одной из них, в отличие от предлагаемой работы, не анализируются ни системы родства, ни системы статусных отношений в этих обществах. В зарубежной этнологической литературе исследования, посвященные охотникам и собирателям, в том числе и кросс-культурного характера, чрезвычайно многочисленны и разнообразны. В то же время, автору настоящей работы не известно ни одной индивидуальной монографии с аналогичной постановкой исследовательских проблем и аналогичным набором обществ, выступающих в качестве объектов изучения.
Предлагаемая диссертация вводит в оборот отечественной этнологии не только новый подход к охотничье-собирательским культурам, но и солидный объем новой информации о них. И то и другое весьма актуально на настоящем этапе развития отечественного гуманитарного знания, когда в различных высших учебных учреждениях нашей страны открылись и продолжают открываться новые учебные структуры, которые готовят профессиональных социальных антропологов. Выводы и материалы характеризуемой работы могут сослужить хорошую службу преподавателям вузов, равно как и популяризаторам этнологии и социальной антропологии, при подготовке и чтении таких
курсов, как «Основы этнологии», «Социальная антропология. Теоретические основы», «Экономическая антропология», «Политическая антропология», «Антропология пола», «Эволюция социальных институтов» и др. В этом, прежде всего, заключается практическая значимость диссертации. Кроме того, в ней опровергаются — «с фактами в руках» — многие досадные и все еще бытующие в кругах широкой общественности, интересующейся гуманитарным знанием, заблуждения как относительно эпохи первобытности, так и относительно изучавшихся этнологически охотников и собирателей. Это также может иметь практическое просветительское значение.
Источники, литература и методы исследования. Хотя автору настоящего исследования не довелось вести стационарную, непрерывную, многомесячную полевую работу среди охотников и собирателей, сохранивших традиционный уклад жизни, все же некоторый экспедиционный опыт — в том числе полученный на Чукотке, среди чукчей и чуванцев, которые в относительно недавнем прошлом в значительной мере опирались на присваивающее хозяйство, — имеется. Однако если бы даже автору удалось собрать более обширный оригинальный материал в одном из глухих уголков планеты, где люди все еще обеспечивают себя охотой и собирательством, этот материал вряд ли бы кардинально повлиял на результаты настоящей работы. Ее задачи предполагают широкое кросс-культурное сравнение и использование такого количества данных, какое могло быть получено и аналитически обработано только многолетними усилиями множества ученых.
К предлагаемой работе с полным основанием можно отнести следующие высказывания Ю.И.Семенова4:
«Не может быть и речи о замене эмпирического знания теоретическим, так же как теоретического эмпирическим. Без эмпирии нет и не может быть никакой теории. Сбор и накопление фактического материала и фактический материал, взятый сам по себе, — абсолютно необходимое условие существования науки. Но это отнюдь еще не сама наука в точном смысле слова. Для того, чтобы та или иная область знания стала настоящей наукой, настоятельно нужна теория.
А теория не представляет собой простого индуктивного обобщения фактических данных, ни даже простой первичной их систематизации. Индукция относится к эмпирическому уровню научного познания. И не всякая систематизация представляет собой выход за пределы эмпирии. Важно подчеркнуть, что никакая теория не может быть создана
4 Они цитируются с тем большим удовлетворением, что в дальнейшем нам придется весьма критически высказываться о некоторых взглядах этого автора.
на базе данных, полученных при исследовании одного индивидуального объекта (в случае с этнологией — одной группы людей или одного целого общества)... Даже если человек, поставивший задачу создать теорию, сам занимался работой в поле, он никогда не может ограничиться использованием лишь им собранного полевого материала. Он с неизбежностью должен обратиться к материалам, добытым другими исследователями, т.е. знать всю литературу вопроса. И здесь неоценимое значение имеет историография. Без знакомства с нею человек обречен на изобретение велосипеда. Сбор материала и его теоретическое осмысление — качественно отличные формы исследования, требующие далеко не одинаковых качеств. Поэтому прекрасный полевик вполне может оказаться неспособным к теоретическим конструкциям, а человек, никогда не работавший в поле, стать хорошим теоретиком... Теория может быть создана только на базе фактического материала, относящегося к массе объектов» (Семенов, 2003, с.207-208). И, добавим мы от себя, — только при опоре на теоретическую мысль многих предшественников.
Поэтому информация, на которой базируется предлагаемая работа, черпалась преимущественно из исследований профессиональных этнологов, которые работали в поле среди охотников и собирателей, сохранявших традиционную систему жизнеобеспечения, и которые теоретически осмысляли свои полевые данные в широком кросс-культурном контексте. Следовательно, источники и литература, положенные в основу настоящей работы, неразделимы. Их обзору посвящена значительная часть первой главы. Здесь оговорим только одно существенное обстоятельство.
Как нетрудно будет заметить читателю, подавляющее большинство публикаций, использованных в настоящей работе, вышло в свет в период между концом 1950-х и началом 1990-х годов. Немногочисленность более поздних литературных источников лишь отчасти объясняется фатальными лакунами в комплектовании отечественных библиотек в последнее десятилетие. Более или менее регулярное участие (с 1989 по 2002 гг.) в международных научных мероприятиях, на которых обсуждались проблемы изучения традиционной жизни охотников и собирателей, и хорошие личные контакты со специалистами в этой области позволили автору во многом восполнить эти лакуны. Однако у развития науки и у тематических издательских потоков есть своя логика.
Рубеж 1950-х —1960-х — это время, в которое стала разворачиваться интенсивная полевая работа среди охотников и собирателей в мировой социальной антропологии. За этим последовали горы публикаций, посвященных реконструкции их традиционных культурных характеристик. Конец 1980-х — это время, когда традиционный образ жизни охотников и собирателей в разных частях света стал исчезать с огромной скоростью. На злобу дня явились проблемы их адаптации к изменившимся условиям. Именно они
сконцентрировали на себе исследовательское внимание авторов работ, издававшихся в 1990-е и в начале 2000-х.
Кроме того, в этой научной сфере, как и в любой другой, заметны некие «веяния моды», истоки которых иногда можно, а иногда нельзя понять (см. Главу первую, сс.86-114). В 1960-е — 1980-е годы особенно интенсивно изучались системы жизнеобеспечения, а также модели резидентности, территориальности и социальные структуры, включая номенклатуры родства и кровнородственные объединения, т.е. то, что находится в центре внимания настоящего исследования. В последние годы наблюдается всплеск интереса к традиционной «ментальносте», личности и индивидуальности.
Далее отметим, что в отличие от прежних работ автора, в первую очередь от могорафии «Личность и социальные номы в ранне первобытнгой общине» (Артемова, 1987), в этой диссертации — ввиду ее специфики — в весьма ограниченных масштабах используется так называемый сырой эмпирический материал: записки, воспоминания, отчеты миссионеров, путешественников, административных служащих и других наблюдателей-неспециалистов. Это, в основном, публикации, выходившие до 1950-х.
Сравнительно мало привлекаются также свидетельства носителей изучаемых культур — их автобиографические рассказы, записанные и опубликованные ими самими или этнографами, а также фольклорные произведения. Не слишком значительную роль играют в нашем исследовании и данные так называемых case studies — исследований этнологов, которые анализировали отдельные конкретные примеры поведенческих стереотипов и повседневных взаимоотношений людей, — все то, чем мы широко пользовались в прежних публикациях.
Обращаясь к материалам этнологии охотников и собирателей, исследователь сталкивается с рядом методических трудностей. В нашем случае главная из них связана с проблемой деформации их культур под влиянием различных инокультурных воздействий. Исследований, в которых отражена жизнь охотников и собирателей, не имевших или почти не имевших контактов с местными земледельцами, скотоводами или пришлыми колонизаторами, как уже дважды говорилось, почти нет. Поэтому практически всякое исследование, посвященное тому или иному явлению их традиционной жизни, представляет собой в той или инрой мере реконструкцию, и автору его приходится вырабатывать свой метод реконструкции, соответствующий задачам работы. Большая часть использованных в предлагаемой диссертации сведений о характерных явлениях социальной жизни охотников и собирателей взята из публикаций, авторы которых уже ставили перед собой задачу проделать такую реконструкцию, отслоить в своих полевых материалах все то, что могло быть результатом контактов с иными культурами.
Кроме того, существуют специальные этнологические работы, изучающие те формы и направления, в которых обычно происходят изменения в образе жизни и поведении охотников и собирателей, происходящие при контактах с местными земледельцами, скотоводами или представителями европейских культур. Выводы таких исследований в ряде случаев помогают сделать критический отбор фактов. Вместе с тем, такие исследования показывают, что охотники и собиратели, ведущие традиционное хозяйство на своей исконной земле, где жили многие поколения их предков, даже при постоянных контактах с представителями иных культур длительное время сохраняют приверженность традиционным обычаям. В настоящей работе используются факты, относящиеся преимущественно к тем группам охотников и собирателей, которые жили на земле своих предков. В отдельных случаях, однако, привлекаются и данные, полученные у людей, которые оказались вынужденными покинуть привычные места проживания и уже не обеспечивали себя охотой и собирательством, но были еще хорошо осведомлены о жизни предшествующих поколений. Такие случаи специально оговариваются, и соответствующие данные интерпретируются с особой осторожностью.
В отдельных случаях в интересах сравнения привлекаются сведения о жизни охотников и собирателей, не включенных в круг основных объектов исследования (эскимосов-карибу и эскимосов-нетсилик, индейцев Калифорнии и Огненной Земли, эвенков Таймыра, кубу Суматры, батеков Малакки и др.), а также о жизни некоторых бесписьменных народов, обладавших производящим хозяйством (чукчей и коряков, папуасов Новой Гвинеи, меланезийцев, полинезийцев др.).
Задавшись целью определить методы настоящего исследования в контексте принятой в международной этнологии терминологии, мы бы должны были именовать их структурно-функциональным анализом социальных институтов и кросс-культурными сопоставлениями результатов такого анализа. Но, в то же время, мы придерживаемся той точки зрения, что в процессе работы каждый исследователь создает свои собственные аналитические методики, которые нелегко подвести под уже имеющиеся категории. Да это и необязательно.
Как писал в свое время А.Н.Максимов, ни на один из предложенных этнологами методов нельзя смотреть как «на панацею от всех зол... универсального лекарства от старых болезней пока не найдено... да мы думаем, что такое открытие не составляет безусловно необходимого элемента для возможности успеха... Откуда черпать доказательства своих положений, это приходится решать в каждом отдельном случае по-своему, не руководствуясь каким-нибудь одним правилом», а учитывая лишь самые общие методические установки, большая часть которых, — исходя из прошлого опыта, —
ориентирует лишь на то, как не следует вести научный поиск и строить аргументацию (1898, с.34-35).
Именно в этом ключе мы рассматриваем упорно повторяющиеся в последние десятилетия и в нашей, и в зарубежной литературе утверждения, что обязательным условием успеха кросс-культурных исследований является количественный анализ специально обработанных данных (например: Эмбер, 1992; Эмбер и Эмбер, 1999; Коротаев, 1999b; Коротаев, Халтурина, Кунашева, 2002 и др.). В другом месте (Артемова, 2002) нам уже приходилось более подробно представлять точку зрения, согласно которой в своем большинстве задачи, стоящие перед теоретической этнологией, относятся к числу тех, для решения которых данные из подготовленных для количественного анализа сводок, безусловно, слишком грубы и фрагментарны. Есть немало информации первостепенной важности, которую не ранжируешь, не закодируешь и не исчислишь. Кросс-культурные сопоставления с помощью подсчетов и сравнений закодированных и унифицированных данных осложняются еще и тем, что в этнологии сплошь и рядом сходные явления оказываются — при ближайшем рассмотрении — обусловленными весьма различными факторами или их разнообразными совокупностями, а одни и те же условия порождают очень разные явления. Известны также и случаи, когда совершенно очевидные, доступные "невооруженному глазу" корреляции и взаимозависимости компьютерными подсчетами парадоксальным образом не подтверждаются. Часто же сложными математическими процедурами подтверждается то, что и так ясно.
Обычно на подобные возражения приверженцы количественных методов отвечают, что раньше мы имели лишь ненадежные поверхностные обобщения, а теперь получили доказательства в виде точных цифр, убедительных диаграмм и т.п. Но в том то и дело, что цифры и построенные на их основе диаграммы в этнологии сплошь и рядом не являются доказательством, потому что «конечные» цифры выводятся в результате оперирования с сомнительными «начальными» цифрами.
Ведь что подсчитывается на начальных этапах процедур? Количество «обществ» («социумов», «культур», «культурных единиц», «этносов»), в которых такие-то черты социальной или духовной жизни сочетаются с такими-то. В качестве основных «операциональных единиц» масштабного категориального этносоциологического или историко-социологического мышления понятия «общества», «социумы», «культуры» и «этносы» весьма удобны, но они, в сущности, — академическая условность. Для количественных же методов требуются конкретные, дискретные, соизмеримые единицы.
Представляется, что количественные методы в науках о человеке могут давать надежные результаты, ведущие к номотетическим заключениям, только тогда, когда (при корректно
поставленных задачах) основными единицами счета являются индивиды, дома, дворы, автомобили или что угодно еще, соизмеримое и исчисляемое. Теоретическая же этнология чаще всего оперирует обществами и культурами, а они не поддаются выделению в дискретные и соизмеримые единицы.
Это в полной мере относится к культурам или обществам, являющимся объектами настоящего исследования. Анализируя, скажем, типы номененклатур родства, характерные для исследуемых культур, соблазнительно было бы определить количественно степень распространенности тех или иных из них, а также корреляцию типов номенклатур, например, со стереотипами резидентности. Но оказывается совершенно невозможным соотносить культуры носителей номенклатур или стереотипов резидентности в качестве соизмеримых дискретных единиц. Как аборигенов Австралии количественно сопоставить с индийскими палийан? Рассматривать первых как 250, или 300, или 500 разных общностей и противопоставлять одной, выбрать среди австралийцев одну как типичную, но какую? Сопоставлять ли тридцатипятитысячных !кунг с тысячей аборигенов аранда (аррернтре) как соизмеримые единицы, или выделить среди !кунг одну общность, но какую? А аранда рассматривать как целостность или как четыре различные формирования (ведь южные, северные и центральные аранда отличаются по многим культурным параметрам)? Ответов на эти вопросы, по нашему убеждению, нет и не может быть. Мы должны сознаться, что не знаем (и не можем знать) даже, сколько обществ или культур рассматриваются в предлагаемой работе. Количественные же данные или подсчеты привлекаются в ней только тогда, когда дело касается человеческих индивидов или единиц времени. Например, количество членов клана, которые на определенном отрезке времени пребывают на определенной территории, или количество членов тотемическои группы, которые могут принять участие в том или ином обряде. В целом статистических данных очень немного и в наших источниках, и, тем более, в настоящей работе.
Это, однако, вопреки утверждениям некоторых наших оппонентов (ср. Коротаев, 1999b, с. 119-120), отнюдь не обрекает используемые в предлагаемой работе методики изучения и обобщения фактов «считаться просто иллюстративными». Гуманитарное мышление по сути своей концептуально. При хорошем знании материала ему доступно «схватывать» сложные и тонкие взаимосвязи и взаимозависимости; его характеризует умение рассуждать и находить не иллюстрации, а убедительные факты и доводы. Абсолютными же наши выводы и заключения не могут быть в силу самой специфики предмета. Мы, как никто другой, вынуждены следить за тем, чтобы никогда не говорить «никогда» и всегда избегать говорить «всегда». И посмотрим, как далеко заведут нас охотники собиратели.
Структура работы, приемы изложения материала и терминология. Работа состоит из «Введения», четырех глав, «Заключения» и «Приложения». Отдельно сформулированы положения, вынесенные на защиту диссертации.
Специального обоснования требует, на наш взгляд, лишь первая глава, особенно первый ее раздел. Он может показаться нерелевантным серьезному научному исследованию, так как отражает взгляды и суждения, распространенные среди тех представителей нашего гуманитарного мира, которые не владеют профессиональными знаниями ни о современных, ни о первобытных охотниках и собирателях. Тем не менее, нам было важно охарактеризовать публикуемые и передающиеся новым поколениям гуманитариев заблуждения, которые косвенным образом свидетельствуют как о недостаточной влиятельности подлинных профессионалов, так и о слабостях, изъянах их мышления. Кроме того, опровергая эти заблуждения, мы использовали возможность представить такую информацию о культурах современных и первобытных охотников и собирателей, которая специально не рассматривается в собственно исследовательских главах работы, но важна для понимания их содержания.
Еще больше такой информации вкраплено в те разделы первой главы, которые непосредственно посвящены обзору развития отечественных и зарубежных исследований по охотникам и собирателям.
И, наконец, только проследив развитие идей и изысканий предшествующих лет, мы сочли возможным изложить авторскую методологическую парадигму, а также свои представления о познавательном смысле, эвристических возможностях и конкретных задачах изучения социальной организации охотников и собирателей, чему посвящен последний раздел первой главы.
Структура остальных глав, в основном, как представляется, соответствует существующим в этнологии стандартам организации материала при изучении социальных систем различных народов.
Поскольку образ жизни охотников и собирателей, явившихся объектами изучения в настоящей работе, либо уже ушел, либо стремительно уходит в прошлое, постольку весь дескриптивный материал излагается в прошедшем времени.
Терминология, используемая в предлагаемой диссертации, в основном соответствует современным отечественным и международным этнологическим (социально-антропологическим) практикам. Однако в ряде случаев смысл используемых терминов раскрывается и анализируется в контекстах релевантной проблематики и связанного с ней конкретного материала. Для того, чтобы можно было при необходимости уточнить
содержание наиболее употребительных терминов, небольшой предметный указатель имеется в «Приложении».
В «Приложении» также представлен иллюстративный материал. Карты расселения изучавшихся групп охотников и собирателей, а также схемы, характеризующие их номенклатуры родства, даны в том виде, в каком они содержатся в источниках. Не только технические трудности, но и опасения внести искажения и ошибки удержали нас от попыток графической и стилистической унификации, равно как передачи географических названий, а также терминов родства и их кодов по-русски.
Типичные предрассудки
Как писал М. Салинз, похоже «мы унаследовали свои предрассудки от Иакова вместе с его семенем, распространившимся широко на запад, и на восток, и на север на беду Исава, который был старшим сыном и искусным охотником». Молва несправедлива, а расхожие предрассудки упорны, и «противостоять им приходится полемически» (Салинз, 1972, с. 19).
Не боясь прослыть "певицей первобытности", спрошу: были ли в истории человечества рывки "вперед", равные по мощи своей и по своим последствиям формированию орудийной деятельности, освоению огня и — в особенности — созданию нормативной культуры взаимопомощи? Это три палеолитических кита, на которых общество стоит и по сей день. И не случайно эпоха, когда были сделаны эти главные достижения человечества, в 500 раз превосходит по длительности все его дальнейшее развитие. Длительность здесь пропорциональна содержанию и значению. Такие простые и банальные истины часто упускаются из виду певцами цивилизации.
Приведем некоторые весьма симптоматичные примеры. Несколько лет назад на солидном научном собрании в Институте Востоковедения РАН, посвященном глобальной дилемме "Формационный или цивилизационный подход к истории?", один заслуженный коллега произнес с кафедры: "Хорошо с первобытностью, там все ясно — собрали, съели..." И почему-то никто не смеялся!
А за год до этого я приношу А.Я.Гуревичу заявку на доклад "Личность в первичной формации", он читает и говорит стоящему рядом маститому историку: "Вот видите, оказывается, и в первичной формации была личность, а Вы насчет Средневековья сомневаетесь!" Видимо, и сам маэстро нестандартного исторического мышления усомнился, во всяком случае, заявка осталась без реакции, зато не раз и не два звучали на его семинарах насыщенные блеском учености (не слишком ли нарочитой?) доклады Л.М.Баткина о рождении индивидуальности личности в эпоху Возрождения в среде европейских интеллектуалов, в которой только она, эта индивидуальность, и развивалась чуть ли не до XIX столетия, "хотя, конечно, и крестьянки тоже чувствовать умели..." (цитата из конспекта одного из докладов). И это говорят историки. Но и неисторики тоже считают, что о чем-о чем, а уж о первобытности-то они все знают! И могут авторитетно высказываться в аудитории специалистов, писать, публиковаться и даже, что хуже всего, преподавать студентам, учить новые поколения или просвещать широкую публику. Так, журналистка и "новая русская феминистка" И.Корчагина публикует книгу "Парадоксы души русской женщины" (1997). Но прежде, чем анализировать женский вопрос в отечественной современности, она обращается к истокам — к эпохе матриархата. Невзирая на то, что еще на рубеже XIX-XX вв. серьезные этнологи отрицали какие-либо научные основания у гипотезы матриархата и, очевидно, не подозревая, что в авторитетных международных изданиях по культурной (социальной) антропологии уже более чем полстолетия этот термин фигурирует лишь в историографическом контексте, она цитирует определение матриархата из "Краткого энциклопедического словаря" (с.29-30) и пишет далее: "меня, лично, такое определение не устраивает". Взамен, естественно, предлагается иная "концепция". Она хоть и "концепция" того, чего не было, но зато такая, которая И.Корчагину, лично, устраивает.
Несколько лет назад я получила для рецензии рукопись статьи А.М.Буровского под названием "Идиллический палеолит?" и с эпиграфом "Дети! Храните себя от Идолов!" (глава Евангелия от Иоанна, правда, была указана неверно). Автор охарактеризовал себя так: "Доктор философских наук, археолог" (Представим по аналогии: "Доктор исторических наук, гастроэнтеролог"). Он также отмечал, что преподает антропологию (Какую? Впрочем, так ли уж важно...) в Красноярском университете. В статье критиковались всякие "дилетантские" измышления вроде теории "неолитической революции" Гордона Чайлда и доказывалось, что палеолит был "ужасен" — в нем царствовали геноцид, каннибализм, беспощадное и бессмысленное уничтожение фауны и т.п. Примеры в подтверждение имели весьма широкий спектр от археологических данных о верхнепалеолитических жителях Сибири, якобы безжалостно истребивших мамонтов, до этнографических данных по масаям (кстати, современным африканским скотоводам, несопоставимым с палеолитическими евразийскими охотниками), которые жестокосердно уничтожали львов; а также африканских пигмеев мбути, которые, хотя и знают, что не в силах съесть слона целиком, все равно убивают его полностью...
Не далее как в октябре 2003 г. мне пришлось участвовать в конференции «Человек, культура и этнос в науке XXI века (вторые Широкогоровские чтения)» (Москва, Институт философии, 21-22 октября 2003), проводившейся Институтом Человека РАН и несколькими государственными университетами. Маститые философы, доктора наук, рассуждали о первобытности как о феномене всем очевидном и особенно упирали на то, что «первобытный человек, глядясь в зеркало культуры, еще не способен был узнать себя как личность и отграничить от коллектива».
Сравнительно недавно была опубликована книга А.П.Назаретяна "Мораль, агрессия и исторический прогресс" (1996; те же взгляды пропагандируются и в более поздних публикациях). Это курс лекций, читаемых на факультете психологии МГУ. На обороте титульного листа книги автор отрекомендован как профессор названного факультета, ученая степень не указана. В тексте же отмечается, что он много лет работал как психолог, лингвист и социолог, а также с юных лет увлекался философией.
В глобальной эволюционной схеме автора, стремящегося выявить векторы прогрессивного развития человечества в ходе всемирной истории, ранним этапам социальной эволюции принадлежит весьма значительная роль — они призваны демонстрировать тот низкий интеллектуальный и моральный уровень, на фоне которого разительны культурные и нравственные достижения последующих эпох.
Вот несколько ключевых обобщений: Первое обобщение: неолитической революции предшествовали нормативный геноцид, людоедство и "рукотворная" экологическая катастрофа потерпевшего крах верхнего палеолита — т.е. неолитической революции предшествовал глобальный антропогенный кризис, из которого эта самая революция человечество и вывела (Назаретян, 1996, с.53-57).
Само понятие "неолитическая революция", на условность и абстрактность которого не раз указывалось в специальной литературе (см. напр.: Максимов, 1929, с.324-325; Салинз, 1972, гл.1), однако, не анализируется. Нет также речи ни о том, где и когда происходила эта "революция", ни о том, где и когда жили эти гипотетические людоеды — истребители мамонтов и себе подобных, — ни о том, какие пространства и какие периоды отделяют одно от других.
Куда-то на фоне этого неолитического революционного прорыва потерялась у нашего автора целая эпоха в истории Европы — мезолит. Эпоха, сформировавшая культуру охотников и собирателей, которые имели огромные достижения в обработке камня и кости, в охотничьем оснащении и транспортных средствах (лук и стрелы, лодки, лыжи, сани и др.) и динамично расселялись по ойкумене. Именно с ними, а не с верхнепалеолитическими охотниками, сопоставляем мы теперь всех уцелевших до нашего времени и изучавшихся этнографически охотников и собирателей. Мезолитические охотники создали куда более прогрессивные охотничьи технологии, чем якобы загнавшие человечество в тупик верхнепалеолитические людоеды и истребители мамонтов. Мезолитическим бы людям, жившим как раз в начале голоцена (а верхний палеолит — это конец плейстоцена), и антропогенный кризис устроить (рукотворную экологическую катастрофу, обусловленную "небывалым технологическим потенциалом" — там же, с.53), а они вместо этого успешно распространяли по планете свой способ жизнеобеспечения.
Проблема племени
В настоящем исследовании проблема племени может обсуждаться только применительно к аборигенам Австралии. Как видно из предшествующего изложения, в отечественной литературе австралийским племенам уделялось немалое внимание, и соответствующий материал из источников представлен весьма детально, особенно в характеризовавшейся выше работе В.А.Шнирельмана «Протоэтнос охотников и собирателей» (1982). И можно было бы адресовать читателя к более ранним публикациям, не останавливаясь специально на этом сюжете, если бы за время, прошедшее с выхода последней относительно крупной отечественной австраловедческой работы (Артемова, 1987) зарубежные исследователи-австраловеды, в первую очередь «полевики», не отказались бы совсем от категории «племя». В 1983-1987 гг. до нас доходили лишь отголоски «ревизионистских» настроений по этому поводу. К началу 1990-х они, как уже говорилось, возобладали.
В статье «Племенная организация» вышедшей в 1994 году двухтомной «Энциклопедии Австралии аборигенов» читаем: «Слово это [племя — О.А.] может употребляться в обыденной речи, однако оно лишено той четкости [определенности] содержания, которая необходима для научного описания и анализа» (Мэддок, 1994, с.1103).
Нельзя не обратить внимания на то, что призывы отвергнуть это понятие применительно к австралийской этнографии начали звучать примерно в то время, когда вышла в свет нашумевшая и получившая широкое признание книга М.Фрида «Понятие племени» (1975), в которой автор утверждал, что племя у так называемых примитивных народов — «иллюзия», «химера» и что если такого рода объединения и существовали где-то и когда-то, они были порождениями государственных систем или колониализма — «вторичными» образованиями. Можно заподозрить, что пересмотр привьганых представлений об австралийских племенах — это в известном смысле дань интеллектуальной моде. К тому же более поздние авторы (Хайэт, Меггит, Петерсон и др.), не находившие племен у аборигенов, в большинстве своем работали в поле среди представителей деформированной культуры, а более ранние авторы (Хауит, Рот, Спенсер и Гиллен и др.), писавшие о племенах, чаще имели дело с аборигенами еще в значительной мере сохранявшими традиционный образ жизни.
Но можно рассуждать и иначе: Фрид не на пустом месте построил свою концепцию, среди его источников австралийским материалам принадлежит видное место, он сопоставлял данные и более ранних, и более поздних авторов. Что же касается ранних авторов, то они изначально были убеждены, что племена у таких народов, как австралийцы, должны быть, и — возможно — эти исследователи находили племена, даже если таковых не было в действительности. Тем более, что таких фактов, когда при попытках вьмснить племенную принадлежность исследователи вместо названий искомых крупных общностей получали (от информаторов) названия местностей, кланов, локальных групп или какие-то вообще не имевшие смысла словосочетания или звукосочетания, доподлинно известно немало, — равно как и случаев, когда разными названиями обозначались одни и те же общности, а разные общности по тем или иным недоразумениям получали одно и то же «племенное» название (Тиндейл, 1974, с. 32-33). Эти якобы названия входили в литературу, помещались на карты и долгие годы фигурировали на «законных» основаниях. Сегодня некоторые авторы полагают, что именно исследователи, настойчиво искавшие племена, и самим аборигенам внушили представление о том, что племена у них должны были быть: сконструировали у аборигенов образ их традиционной племенной организации (Мэддок, 1994).
Неслучайно, скажем, применительно к бушменам Южной Африки, которых массированно стали изучать во второй половине XX века, вопрос о племенах просто даже не рассматривался. Но все-таки не вполне понятно, как эту «неслучайность» оценивать. Попытаемся несколько прояснить проблему.
Как известно, социальная организация австралийских аборигенов была довольно сложна, конкретные локальные варианты ее не были единообразны. Это особенно дает о себе знать при попытках понять, каковы были традиционные социальные формирования, более крупные, чем локальные группы.
Применительно к австралийцам под племенем долгие годы было принято понимать некое объединение численностью от нескольких сотен до нескольких тысяч (300-3000 — наиболее часто указываемый в литературе разброс, 500-600 — средние цифры; общая численность аборигенов ко времени европейской колонизации оценивается, как известно, приблизительно в 300 тыс. чел. — см. например, Берндт и Берндт, 1981, с. 18), которое представляло собой совокупность объединений меньших размеров (локальных групп, или общин) и для которого были характерны такие черты, как тенденция к эндогамии, общность территории, языка (или диалекта) и культурных традиций (особенно мифо-ритуального комплекса), а также самосознание.
Авторы классических обобщающих трудов — Элькин (1949), Берндты, (Берндт и Берндт, 1964, 1977), ранний К.Мэддок (1972) и др. — давали именно такую дефиницию и приводили карты распределения племен по материку в доколониальных условиях. Правда, названия племен сильно расходились у разных авторов. Кроме того, для отдельных районов делались исключения.
Так, Берндты указывали, что в северо-восточной части Арнемленда, по их собственным полевым данным 1950-х, наиболее крупными социальными объединениями являлись основанные на экзогамных патрилинейных кланах (мала) локальные группы, которые иногда частично, а иногда полностью совпадали с довольно дробными диалектными группировками (мада — Берндт и Берндт, 1977, с. 61-65). Отметим, что У. Уорнер, проводивший полевые исследования в том же районе двумя десятилетиями раньше, чем Берндты, группировал все кланы северо-восточного Арнемленда в восемь крупных образований, которые он условно называл племенами. Принадлежность к этим "племенам", по свидетельству Уорнера, не играла почти никакой роли в жизни аборигенов (1937, с. 9). Весь этот анклав Уорнер объединял под названием мурнгин. После Берндтов там работало множество других исследователей (Я.Кин, Ф.Мерлан, Г.Морфи, Н.Петерсон, Р.Тонкинсон и многие другие — см., например, обширные библиографии в книгах: Кин, 1997; Морфи, 1991). Этот район всегда представлял собой что-то вроде заповедника: сначала был резервацией, затем стал признанной законом «землей аборигенов». Там почти в течение всего периода после колонизации юридически поддерживалась изоляция коренных жителей.
Социоцентрические родственные группировки
Сначала суммируем все, что нам известно о социоцентрических родственных структурах австралийских аборигенов. У них имелось несколько типов таких структур, в том числе экзогамных с унилинейным десцентом. К сожалению, для австраловедческой литературы характерен большой разнобой в терминологии. Образования одного и того же типа разные авторы называют по-разному (клан, гене, сиб, линия, линидж и т. д.), и одни и те же термины применяются к различным группировкам. Это очень усложняет их понимание и описание. В первую очередь мы будем опираться на обобщающие труды по культуре коренных австралийцев в целом, принадлежащие общепризнанным авторитетам полевой австраловедческой этнологии, и лишь по мере необходимости ссылаться на региональные исследования.
Самые авторитетные австралийские этнологи Элькин и Р. и К. Берндты среди основных родственных подразделений аборигенов характеризуют социальные кланы (Элькин) или просто кланы (Берндты) — с одной стороны — и территориальные кланы (Элькин) или локальные десцентные группы (local descent groups — Берндты) — с другой (Элькин, 1979, с. 112-113; Берндт, Берндт, 1977, с. 40-43). Обе эти социальные формы часто сосуществуют. Первые у Элькина определяются несколько иначе, чем у Берндтов, в определении вторых эти авторы полностью сходятся. Элькин характеризует социальные кланы как экзогамные, обычно матрилинейные экстерриториальные группы, члены которых живут в разных местах племенной территории, но считают друг друга родственниками и верят, что происходят от одного или нескольких общих предков. Берндты же определяют кланы как экзогамные группы, которые могут быть как патрилинейными, так и матрилинейными: их члены могут иметь локализованное ядро, а могут быть расселены дисперсно. И по данным Элькина, и по данным Берндтов, социальные кланы, или просто кланы, существовали далеко не везде.
Локальные десцентные группы Берндтов, или территориальные кланы Элькина, всегда патрилинейны и экзогамны; все входящие в них люди считают определенный участок земли "своей землей"; связь людей с землей осознается как родство: человек наследует от отца не только прочные связи с членами своей локальной десцентной группы, но и прочные связи с определенной территорией, и именно территория локальной десцентной группы есть фактор, как бы структурирующий группировку (Берндт, Берндт, 1977, с.40). Во многих районах у аборигенов имелись специальные слова для обозначения патрилинейных локальных десцентных групп. Выше приводилось такое слово для локальных десцентных групп, или патрилинейных кланов, общности йолнгу — «мала». У юго-западных соседей йолнгу — гидъингали (бурара)— аналогом было слово «гунмунгур» (Берндт, Берндт, 1970). Вместе с тем, нередко общего обозначения для такой группы не было, а члены ее просто назывались «людьми такой-то земли» — по названию местности, с которой ассоциировалась наследственная группа. Так, Петерсон пишет, что у валпири не было никакого «абстрактного существительного» для их «патрилиний», и названий для каждой из них не было, а говорили о них, добавляя к главному топониму соответствующего участка территории суффикс -уардингки. Люди носили имена, ассоциировавшиеся со священными песнями, которые воспевали мифических героев, создавших во времена творения «земли» «патрилиний» и считавшихся их прародителями. Ребенок «автоматически» получал права на землю «патрилиний» отца и не мог их утратить, даже никогда там не живя (Петерсон, Лонг, 1986, с.70).
По-видимому, в доколониальных условиях патрилинейные локальные десцентные группы, или территориальные кланы, существовали на значительной части континента. Определенных данных нет о ряде областей Юго-Восточной Австралии, хотя есть немало сведений о патрилинейном наследовании кормовых территорий на всем этом обширном пространстве (см. подробнее: там же, с. 13-25; 52-70). Петерсон полагает, что во многих случаях патрилинейные локальные десцентные группы (территориальные кланы) имелись и там, где о них ничего не известно, но они не были «поименованы», особенно когда сосуществовали с матрилинейными тотемическими группами (там же). Могло быть, что члены патрилинейной десцентной группы именовались, опять-таки, по местности. Причем по одной и той же местности могли именоваться и члены резидентной группы, и члены десцентной. Скажем, то, что у Хауита приводится в качестве имен «орд», может быть с тем же успехом относиться и к патрилинейным десцентным группам. Неслучайно многие авторы не различали терминологически резидентные группы и кланы, используя лишь последний термин, как это делала, например, Макконнел, а иногда то же делал и Рэдклифф-Браун: ученые в таких случаях следовали за аборигенами.
Хауит пишет о локальных группах («ордах» диери, ведь у них были матрилинейные фратрии и матрилинейные тотемические группы), которые «обладали» определенными участками земли для охоты и собирания пищи: «сыновья наследовали, или, может быть, правильнее будет сказать, занимали в силу рождения землю, на которой охотились их отцы» (1904, с.47). А кто, добавим мы предположительно, ассоциируется в сознании аборигенов с местностью, скажем, Паритилтъя, те и есть Паритилтья-кана (см. выше, с. 171). Это вполне могут быть и люди местной патрилинейной десцентной группы без пришлых жен, и только локализованная часть десцентной группы, и люди местной десцентной группы с женами, и ее люди с женами, детьми и гостями.
Не имея «абстрактных существительных» для обозначения десцентных или резидентных групп или особых названий для таких групп, аборигены обладали иными речевыми средствами, с помощью которых определяли, кто есть кто и для кого. Например, в языке общности алъявваре к местоимениям «не единственного числа» могли добавляться суффиксы, указывающие на то, являются ли люди, о которых говорят или к которым обращаются, родственниками по мужской линии или нет, и в первом случае также — относятся ли они к одному или разным поколениям, да еще к каким именно. Скажем, местоимение двойственного числа, т.е. «вы двое», могло выглядеть так: мубуланда (вы двое, которые не родственники по мужской линии). Или так: мбугалага (вы двое, которые родственники смежных поколений по мужской линии, например, отец и сын). Или так: мбула (вы двое, которые родственники по мужской линии одного поколения, например, брат и сестра — Блэйк, 1994, с.593). Это всего лишь один вариант, а их было множество. Да и так ли нужно людям «абстрактное существительное» для обозначения группы, которая никогда не пребывает в полном составе? Ведь, как мы помним, в среднем лишь около 40% мужчин более или менее постоянно жило на территории своей локальной десцентной группы, т.е. «крепко сидело», а общее количество членов таких групп колебалось от 50-40 до 20-10 или даже менее человек (Петерсон, Лонг, 1986).
Дифференциация статусов у аборигенов Австралии
В традиционных условиях у аборигенов Австралии среди взрослых, принимавших полноценное участие в охоте, собирательстве и общественной жизни, проявлялись заметные различия в статусах. В господствующих представлениях общественного сознания социальная значимость одних людей оценивалась вьппе, чем социальная значимость других. Чем вьппе оценивалась социальная значимость человека, тем более широкое участие он мог принимать в руководстве общественной жизнью, в художественном творчестве, в тотемических культах и тем лучшие возможности он имел для выбора самостоятельной линии поведения.45
Одним из самых ярких внешних индикаторов статусных различий были различия в похоронной обрядности. Чем более тяжелой общественной утратой считалась смерть человека, тем сложнее и продолжительнее были погребальные и поминальные обряды, которыми она отмечалась. Диапазон был весьма широк: от почти лишенного всякой церемониальности закапывания тела до многодневных и многолюдных ритуалов с использованием специально изготовленных церемониальных принадлежностей при первичном захоронении и последующих перезахоронениях, а также многократных пышных поминках.
Групповые различия в статусах были связаны с половозрастным делением общества. Мужчины в целом составляли группу людей с более высоким статусом, женщины — с более низким.
Как правило, прерогативой мужчин было такое важное дело, как заключение соглашений о браках. Исключение представляли лишь отдельные общности Кейп Йорка, Арнемленда и Юго-Восточной Австралии, в которых о замужестве дочерей имели право договариваться матери, но при этом отцы или другие родичи-мужчины могли оказывать на них некоторое давление (Шарп, 1934, с. 427; Макконнел, 1934, с. 341-343; 1939-1940, с. 434-455; Хайэт, 1965. с. 42-43; Хауит, 1904, с. 217, 222). Мальчику или юноше будущую жену находил обычно кто-то из его старших родственников (отец, дед, брат матери и др.), но, став социально взрослым, достигнув статуса "старшего", мужчина мог самостоятельно выбирать себе жен, учитывая, разумеется, общеобязательные нормативные требования. У женщин такие возможности появлялись только в исключительных случаях. Судьбой незамужней женщины любого возраста распоряжались ее родственники-мужчины (отец, братья, дяди). Даже вдовы, достигшие преклонного возраста, родившие нескольких детей, во многих случаях не имели права самостоятельно выбирать себе мужа (Уайт, 1970, с. 21). Дж. Гудейл писала, что если у вдовы тиви умерли отец и братья, то она поступала на попечение старшего сына, и он должен был контролировать ее действия и решать, за кого она выйдет замуж (1971, с. 56). О том же свидетельствовали Харт и Пиллинг (1960, гл. 1). Правда, обычно женщины могли влиять на решения сыновей.
Одним из самых распространенных соглашений о браках было такое, при котором отдельные семьи или родственные группы, отдавая замуж одну из своих женщин, рано или поздно получали в обмен другую для кого-то из своих мужчин.
Повсюду в Австралии были распространены обычаи одалживания женщин и обмена женами на время или навсегда. У мужчин-аборигенов было принято предоставлять своих жен другим мужчинам, чтобы укрепить или завязать с ними дружбу, проявить сочувствие или просто вежливость, возместить нанесенную ранее обиду, получить взамен какие-нибудь услуги или вещи. Например, в Новом Южном Уэльсе классификационные братья, которые были в ссоре и хотели помириться, обменивались на время женами (Хауит, 1904, с. 682). Хауит рассказывает об аборигене курнаи, который отдал на время одну из своих двух жен другу, отправлявшемуся в продолжительное путешествие, сказав при этом: "Бедный парень, он вдовец, а ему предстоит идти долгий путь, и он будет чувствовать себя очень одиноким" (там же, с. 266).
В своем автобиографическом рассказе, записанном X. Тонеманном, Булудья — женщина из общности мунгари — свидетельствовала: "Иногда белый человек приглашает к себе черную женщину и потом дает ей подарок. Как мало он понимает! Женщина ведь принадлежит кому-то из черных мужчин, его долг защищать ее, и любой подарок нужно давать ему, а не ей" (Тонеманн, 1949, с. 64).
Но понятиям аборигенов, честь мужа заключалась в его способности держать жену в повиновении, а долг жены — подчиняться мужу. Когда женщина вступала в близкие отношения с посторонним мужчиной по распоряжению мужа или, по крайней мере, с его ведома, это считалось нормой; если же она встречалась с мужчиной по собственному желанию, и она, и ее избранник подлежали наказанию. Свидетельства наблюдателей дают многочисленные примеры тому.
Австралийский брак несравненно сильнее ограничивал свободу женщин, чем свободу мужчин. По словам аборигена из южного Арнемленда Вайпулданьи (Ф. Робертса), мужчине, который хочет расстаться со своей женой, «достаточно сказать ей: "уходи", и он не женат; женщине же развестись чрезвычайно трудно» (Локвуд, 1971, с. 107). По свидетельству одного из ранних наблюдателей П. Бевериджа, у аборигенов Виктории брак связывал только женщину, мужчина всегда мог прогнать жену (1889, с. 22). Б. Малиновский, сравнив большое количество фактов из различных источников, писал, что супружеские обязательства связывали в первую очередь женщину; однако брак давал мужчине столько преимуществ, что ему, как правило, гораздо выгоднее было всеми средствами удерживать жену или жен при себе, нежели прогонять прочь (1913, с. 63).
Берндты отмечали, что мужчина мог отказаться от жены или оставить ее, не давая при этом никому никаких объяснений. Для женщины же чуть ли не единственная возможность расстаться с мужем — убежать с другим мужчиной (1977, с. 207), но при этом она нередко рисковала жизнью.
Мужчине, по обычаю, принадлежало решающее слово в наиболее важных семейных делах, и в первую очередь в вопросах, связанных с воспитанием детей. Хауит неоднократно приводил высказывания мужчин из разных мест Юго-Восточной Австралии о том, что дети "происходят" от мужчин и "принадлежат" мужчинам: мужчины "отдают" их женам, чтобы те растили детей "для мужчин", кормили их и следили за ними, пока они маленькие (1904, с. 255,263 и др.).
В своих повседневных бытовых делах, связанных с собиранием пищи, уходом за детьми, женщина часто бывала относительно самостоятельной, но если поступки жены или ее намерения противоречили желаниям мужа, она должна была подчиниться его требованиям, даже когда речь шла о том, с кем из родственниц идти собирать пищу, где искать дрова, в каком месте разложить костер или поставить ветровой заслон и т. п.