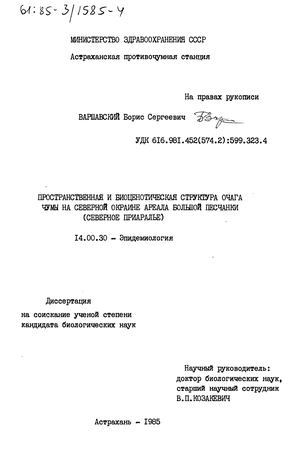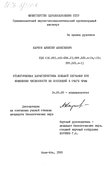Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Материал и методика 7
ГЛАВА II. Физико-географическая и ландшафтно-экологи-ческая характеристика центральной части северного Приаралья 12
ГЛАВА III. Поселения большой песчанки 20
1. Чеганское поселение 24
2. Поселение больших песчанок на Чаграйском плато 37
3. Баржилгинское поселение 49
4. Андарлинское поселение 58
5. Тентяксорское поселение 64
6. Северотугузские поселения 70
7. Сабыржилгинское поселение 77
ГЛАВА IV Особенности проявления чумы 87
ГЛАВА V. Эпизоотологическая роль разжчных групп носителей чумы вблизи северной границы ареала большой песчанки 106
1. Малый суслик 110
2. Желтый суслик 111
3. Мелкие песчанки 111
4. Мышевидные грызуны 114
5. Тушканчики 115
6. Хищники 117
Заключение 126
Выводы 131
Список литературы
- Поселение больших песчанок на Чаграйском плато
- Тентяксорское поселение
- Желтый суслик
- Мышевидные грызуны
Введение к работе
Актуальность проблемы. Северное Приара-лье является частью обширного Среднеазиатского пустынного (равнинного) очага чумы. Изучение закономерностей проявления энзоотии в этом регионе и прилежащих к нему очаговых территориях (Устюрт, Предустюртье, Приаральские Каракумы) уже было проведено С.Н.Варшавским (1965), М.Н.Шиловым (1968), Н.П.Наумовым с соавторами (1972) и др. Естественным продолжением цикла таких работ явилось изучение нами очаговости чумы в районе, названном первично "Столово-останцовый район собственно Северного Приара-лья (северное побережье Аральского моря с прилегающими пространствами)" (Наумов и др., 1957, 1959). Значение отдельных поселений грызунов для укоренения чумы на территории, непосредственно примыкающей к северному побережью Аральского моря и простирающейся на север до границы ареала большой песчанки еще достаточно глубоко выяснено не было. Однако, ежегодное обнаружение возбудителя чумы в различных поселениях большой песчанки, начиная с 1966 г., наряду с интенсивным хозяйственным использованием и дальнейшим освоением района поставило его по эпизоото-логической значимости в один ряд с другими, более детально изученными регионами. Изучение пространственной и биоценотической структур этого участка очага - вблизи северной границы ареала основного носителя - становилось необходимым для решения практических вопросов эпиднадзора. С самого начала исследований стало ясным, что занос возбудителя чумы в этот участок очага с соседних районов исключается. На некоторых участках данной территории он обнаруживался постоянно, на других же отмечались лишь быстротечные эпизоотии чумы. Отсюда следует закономерный вывод об автономности этой части очага в вопросе сохранения эн-
зоотии и важность этой территории в народнохозяйственном плане.
Неравномерность распределения носителей чумы по территории очага (Варшавский, Шилов, 1954, 1955, 1956; Наумов, 1954; Ротшильд, 1968, 1975), а также различная роль животных в проявлении энзоотии (Щучаев, Варшавский, 1952; Наумов и др., 1957, 1959 и др.) вызывают, таким образом, необходимость решения одного из основополагающих вопросов эпизоотологии - вопроса о пространственной и биоценотической структуре очага (или его частей) чумы.
Актуальность этой проблемы связана также с географическим и экономическим положением обследуемой территории, ecь, с северо-запада на юго-восток, проходит одна из основных магистралей, связывающая Среднюю Азию с центральными областями страны, -Западно-Казахстанская железная дорога. Параллельно ей в 160 км восточнее пролегает шоссейная дорога такого же трансреспубликан-ского значения. С юго-запада на северо-восток территорию пересекает магистральный газопровод Е|ухара-Урал. Весь исследуемый район интенсивно используется под отгонное животноводство. Здесь же проходит трасса одного из возможных вариантов канала для переброски вод сибирских рек в бассейн Аральского моря.
Цель работы. Проведение эпизоотологического районирования территории, выяснение функционального значения ее отдельных частей в жизни очага. Получение теоретического обоснования целесообразности и необходимости проведения тех или иных мероприятий по эпиднадзору при чуме.
Задачи исследования. I. Показать территориальную приуроченность микроочагов различной стойкости. 2. Выявить возможные пути распространения эпизоотии на изучаемой территории. 3. Определить места постоянного и временного
пребывания возбудителя. 4. Выяснить роль различных групп носителей в развитии эпизоотической обстановки в разные фазы активности очага вблизи границы ареала основного носителя. 5. Показать возможность применения внешних признаков пребывания возбудителя в поселениях носителей для оценки их эпизоотического состояния и составления прогноза эпизоотологической ситуации.
Научная новизна работы заключается в том, что для этой территории впервые: а) выяснена роль конкретных поселений основного носителя - большой песчанки в поддержании энзоотии ; б) показана возможная роль других носителей в обострении протекающих или возникновении новых эпизоотии чумы вблизи северной границы ареала большой песчанки; в) определены некоторые внешние признаки проявления чумы в поселениях песчанки и сусликов ; г) предложены параметры для прогнозирования развития эпизоотического процесса в поселениях большой песчанки в Северном Приаралье.
Практическая ценность. Полученные материалы использованы при паспортизации территории и написании паспорта Северо-Приаральского автономного очага, а также составлении "Методических рекомендаций и шкалы для выявления эпизоотии чумы по комплексу внешних признаков состояния поселений грызунов (Саратов, 1975) и "Методических указаний по картографированию поселений грызунов в природных очагах чумы" (Саратов, 1979).
Таким образом, практическая ценность работы заключается в том, что положения, разработанные в исследовании,и выявленные при этом закономерности находили и находят повседневное применение при проведении жмплекса санитарно-профилактических противочумных мероприятий в Северо-Приаральском автономном очаге чумы.
Работа выполнялась автором самостоятельно.
Основные материалы диссертации были доложены на научно-практических советах Араломорской (1968-1976) и Астраханской (1978-1982) противочумных станций, на УІ Всесоюзной зоогеографической конференции (Кишинев, 1975), Всесоюзной научной конференции работников противочумных учреждений (Новороссийск, 1978) и Всесоюзной конференции по эпидемиологии, клинике, диагностике и профилактике антропонозных и зоонозных инфекций (Астрахань, 1982).
Публикации. По теме диссертации опубликовано II работ.
Объем работы. Диссертация изложена на 160 страницах машинописи и состоит из введения, 5 глав, заключения и выводов. В работе имеется 9 таблиц и 16 рисунков. Список цитированной литературы включает 218 работ, из них - 7 иностранных авторов.
Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность и признательность научному руководителю - доктору биологических наук, старшему научному сотруднику В.П.Козакевичу, а также доктору биологических наук, старшему научному сотруднику С.Н.Варшавскому, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику М.Н.Шилову за постоянные советы и консультации при написании диссертации. Приношу благодарность руководству Всесоюзного научно-исследовательского противочумного института "Микроб" и Астраханской противочумной станции за содействие в написании диссертации, руководству Араломорской противочумной станции и Челкарского противочумного отделения за предоставленную возможность сбора материала. Искренне признателен товарищам по работе, принимавшим участие в обсуждении полученных материалов и частичной их обработке: В.К.Гарбузову, И.Ж.Жубаназарову, Л.А.Бурдело-ву, Р.Н.Варшавской.
Поселение больших песчанок на Чаграйском плато
Чаграйское плато (территория между долиной Чеган и песками Большие Барсуки, включая западный шлейф последних) заселено песчанками неравномерно. Группировки колоний (некоторые из них нельзя считать самостоятельными поселениями) приурочены к долинам (балкам), присоровым депрессиям и, в меньшей степени, бортам блюдцеобразных понижений. На плакорных равнинах норы больших песчанок практически отсутствуют. Здесь колонии этих зверьков встречаются лишь на участках с антропогенным изменением рельефа и растительного покрова: в окрестностях кладбищ, зимовок, колодцев и т.п. Такая же картина распределения песчанок характерна и для шлейфа песков. В этих условиях особое значение приобретают элеманты рельефа линейного характера антропогенного происхождения (насыпи, дороги), которые являются превосходными "экологическими желобами". Они могут способствовать развитию непосредственных и стабильных связей между отдельными поселениями и группировками колоний, разобщенными между собой до возникновения этих линейных образований. Большинство поселений больших песчанок на Чаграйском плато и западном шлейфе песков, таким образом, обособлены друг от друга. Распределению нор этого грызуна в самих поселениях также свойственна неравномерность. Ленточные поселения вдоль балок состоят из разорванных цепочек колоний. Сгущения последних приурочены к оптимальным местам обитания обрывистым берегам, зарослям саксаула, кладюи-щам, местам слияния балок, пересечению дорог и т.п. Иначе говоря, такие сплошные поселения вдоль балок как в долине Чеган или вдоль кромки песков как в Малых Барсуках здесь отсутствуют. В островных поселениях также имеются довольно значительные участки, незаселенные или слабо заселенные зверьками, особенно в период невысокого уровня численности. Плотность колоний в различных частях ленточных поселений колеблется от І до 3 на I га. В островных же поселениях этот показатель в период депрессии составлял 0,5, а после подъема численности возрос местами до 2-3 колоний на I га.
В северных участках территории островные диффузные поселения большой песчанки не очень стойки, очевидно ввиду близкого расположения к границе ареала вида. В годы депрессии численности значительная часть колоний почти полностью исчезает, а с ними и сами поселения, или площадь последних сильно уменьшается. При этом, крупные поселения разбиваются на ряд отдельных скоплений колоний. В благоприятные годы площадь, заселенная песчанками, увеличивается и происходит слияние не только разоб щенных групп колоний внутри одного поселения, но и нескольких ранее совершенно изолированных поселений. Так, в 1976 г. на некоторых смежных участках Чаграйского плато и песков Большие Барсуки произошло образование единых поселений песчанок.
Большинство колоний в поселениях этих грызунов на Чаграй-ском плато принадлежит к молодым возрастным группам. Колонии старших возрастов отчетливо преобладают в общей массе только в периоды депрессий и на весьма локальных, далеко отстоящих друг от друга, участках. В таких местах сосредоточивается в указанный период основная масса песчанок. С наступлением благоприятных условий из этих мест происходит расселение зверьков в окружающее пространство, с образованием массы новых или восстановлением почти совершенно исчезнувших колоний. При этом, как уже указывалось, некоторые поселения соединяются между собой. В связях отдельных участков плато, заселенных песчанками, огромное значение в последнее время получила насыпь газопровода Бухара-Урал, проходящая с юга на север западнее Больших Барсуков. Именно трасса газопровода сыграла, очевидно, не последнюю роль, с одной стороны, в процессе восстановления численности в крупных островных поселениях больших песчанок на Чаграйском плато, а с другой - в проникновении сюда возбудителя чумы из южной части Больших Барсуков. Западный шлейф песков не может стабильно выполнять подобную функцию, так как в периоды депрессий большинство колоний здесь исчезает и поселения разбиваются на отдельные, лишенные связи между собой, участки.
Тентяксорское поселение
Поселение расположено в северной части западного шлейфа песков Малые Барсуки. С запада оно ограничивается берегом солончака Тентяксор, с востока - резко поднимающимися грядами песков. В оптимальные годы южная часть поселения смыкается с Андарлинским и Чубаржилгинским, северная - с Северотугузскими поселениями. С некоторыми разрозненными, мелкими поселениями больших песчанок, расположенными на территории между песками Большие и Малые Барсуки,иногда прослеживается связь по редкой и прерывистой цепочке колоний, приуроченных к балке Кусай (рис. 10).
Распределение колоний в Тентяксорском поселении мозаично. В периоды депрессий численности большой песчанки в некоторых, совершенно изолированных друг от друга, участках поселения (Актам, Жудурук, Басбек) сохраняется по 10-20 обитаемых колоний. Во время подъемов численности эти участки сливаются между собой, колонии песчанок обнаруживаются практически не только во всех микропонижениях, но и на возвышенных участках. Прилежащая с востока к поселению западная кромка малых Барсуков обычно заселена большой песчанкой слабо. По 2-5 колоний отмечается вблизи некоторых зимовок скотоводов. Связи между этими группами колоний, как правило, отсутствуют. Глубинные части песков большой песчанкой не заселены. Изредка, в благоприятные годы между зимовками устанавливается связь по редкой цепочке возникающих в этот период колоний, обычно вдоль автомобильных дорог. В начальный период наших наблюдений (1967 г.) на 22-километровом астомобильном маршруте вдоль кромки песков удалось обнаружить лишь 8 колоний, две из которых имели следы обитания больших песчанок. Все норы были приурочены к окрестностям зимовок. В начале 1970 г. на этом же маршруте било отмечено 27 колоний песчанок. Обитаемость их составила 29%.
В центральной и западной частях поселения колонии большой песчанки более стойки. Большинство из них "среднего" - 53% и "молодого" (40%) возрастов. Плотность нор здесь колеблется в течение ряда лет от 2 до 3 на I га. Обитаемость в Тентяксорском поселении изменяется в пределах от 30-40% весной до 50-70% осенью. Количество песчанок обитающих в жилых колониях в период наблюдений ни разу не превышало 1,5 зверьков весной и 4 осенью (в среднем по поселению). Уровень численности больших песчанок на отдельных участках поселения (Актам, %дурук, Басбек) довольно стабилен. Периферии свойственна значительная динамика как самих колоний, так и их обитаемости. В результате этого незначительные по площади центральные участки поселения зачастую находятся в полной изоляции от соседних в периоды1 низкого уровня численности на периферии. Депрессивное состояние численности, свойственное большинству поселений Северного Приаралья в 1964 г. (Варшавский, Шилов, 1973), сохранялось в поселении недолго. Уже к осени 1966 г. численное/гь в Тентяксорском поселении полностью восстановилась (рис. II). Следующее значительное снижение численности имело место в 1972 г., когда к весне здесь сохрани лось всего 20% обитаемых колоний. Естественная депрессия чиє» ленности была усугублена истребительными мероприятиями летом 1972 г., в результате чего период с низким уровнем обитаемости продлился до 1977 г. Только осенью этого года численность пес чанок возросла до обычных показателей (55% обитаемости колоний).
Мелкие песчанки. Численность стабильно низка « до 1% попадания. Только в 1966 г. попадаемость этой группы носителей составила 2,5%. В видовом отношении в вылове доминировала краснохвостая песчанка, за время исследования добыто по 6 луденных песчанок 71, гребенщиковых 42, краенохвостых « 114. При учетных работах наиболее часто попадается полуденная пес чанка. Преобладание в вылове краенохвостых песчанок объясняется их большей привязанностью к колониям большой песчанки.
Мышевидные грызуны. В поселении обитают домовые мыши и серые хомячки. Последние абсолютно преобладают как в вылове, так и при проведении учетных работ. Численность мышевидных грызунов держится на низком уровне (до 1% попадав ния). Наибольшая попадаемость отмечена в 1970 г. - Х,1%.
Желтый суслик
В Северном Приаралье ряд особенностей экологии малых сусликов, таких как отсутствие непрерывных поселений на значительных территориях, низкий уровень численности, слабый прирост популяции ввиду высокой смертности молодняка, сжатые сроки расселения молодняка, низкая численность блох, особенно специфических видов (Варшавский, 1959; Варшавский, Крылова, 1962; Варшавский,1965) оказываются неблагоприятными для проявления и широкого распространения чумной инфекции в поселениях этих носителей.
Как уже указывалось выше, малый суслик на изучаемой территории часто образует смешанные с большой песчанкой поселения. Эпи-зоотологическое значение суслика на различных участках неодинаково. Так, в районе железнодорожной станции іугуз в 1971 г. отмечали лишь вовлечение этого грызуна в эпизоотию чумы, протекавшую среди больших песчанок. В Чеганском поселении такая картина наблюдалась в 1967 и 1968 гг., о чем свидетельствуют находки се-ропозитивных зверьков. В 1973 г. эпизоотия протекала одновременно как в поселениях большой песчанки, так и в самостоятельных поселениях малого суслика (Варшавский, 1977). Таким образом, суслики в упомянутых местах выполняли,скорее всего, роль дополнительного "горючего материала".
Однако, при возникновении благоприятных эпизоотических условий этот носитель может играть и другую роль. Так, в 1976 г. на Чаграйском плато под влиянием необычных погодных условий период расселения молодых малых сусликов, наиболее опасный в эпизоото логии чумы среди этих зверьков (Гайский, 1926 ; Калабухов, 1929, 1929-а; Калабухов и Раевский, 1934, 1936; Тинкер и Калабухов, 1934; Таманский, 1935), совпал с выходом на поверхность молодняка большой песчанки. Следствием этого явилось возникновение разлитой эпизоотии чумы на Чаграйском плато. Малый суслик оказался здесь не только дополнительным "горючим материалом", но и связующим звеном между отдельными разрозненными поселениями большой песчанки на Чаграйском плато и, кроме того, вероятно, "катализатором" эпизоотического процесса, поскольку в эпизоотию в этот период включилось наиболее восприимчивое к чуме поголовье носителей - молодые зверьки.
2. Желтый суслик
Такие особенности экологии желтого суслика как совместное обитание с большой песчанкой, высокая чувствительность к возбудителю чумы, особенно молодых зверьков, позволили К.Т.Крыловой и Е.С.Шиловой (1959, 1970) сделать вывод о значительной роли желтого суслика в эпизоотологии чумы в Северном Приаралье. Однако современный характер распространения этого грызуна на изучаемой территории (Гарбузов, 1969; Гарбузов, Варшавский, 1977) не свидетельствует о какой-либо значимой роли его в эпизоотологии чумы здесь, даже в тех поселениях, где он изредка встречается (Гарбузов, Варшавский, 1977).
3. Мелкие песчанки
Значение мелких песчанок в энзоотии чумы в Среднеазиатском пустынном очаге чумы подчеркивалось различными исследователями (Наумов и др., 1957, 1959, 1972; Петров и др., 1959; Петров и Шмутер, 1958; Микулин и др., 1959; Федоров и др., 1959; Ша рапкова и др., 1959; Быков, 1965, 1968; Хрусцелевский, 1965; Марин и др., 1968 ; Быков и др., 1969; Лавровский и Варшавский, 1970 ; Сержанов и др., 1971; Хрусцелевский, Бибикова, 1971; Нурмаганбетов, 1981 и др.). Полуденной песчанке отводилась при этом роль, главным образом, участника эпизоотии чумы среди больших песчанок. За краснохвостой песчанкой, особенно в Туркмении и на Мангышлаке, признавалась возможность сохранения возбудителя, что имеет место в Закавказье (Эйгелис, 1973). Основным условием при этом выдвигалась необходимость высокой численности этих песчанок (Леви, I960; Солдаткин и іуценчик, 1971), что случалось сравнительно редко. В Северном Приаралье увеличение численности мелких песчанок может повлиять на активизацию эпизоотического процесса, "выявляя" наличие возбудителя и помогая широкому рассеиванию его (Варшавский, 1965; Шилова, 1959). Роль гребенщиковой песчанки в эпизоотологии чумы в изучаемом регионе никем специально не обсуждалась.
Данные наблюдений последних лет свидетельствуют, что в Северном Приаралье мелким песчанкам принадлежит роль, которую можно охарактеризовать как "катализация эпизоотического процесса" (Варшавский и др., 1982). В связи с этим, повышение численности этих грызунов, по нашему мнению, может привести к обострению эпизоотической обстановки (Бурделов, Варшавский, 1980). Нами неоднократно отмечалось, что выявлению эпизоотии чумы среди основных носителей предшествовало (или сопровождалось) резкое повышение численности мелких песчанок.
Мышевидные грызуны
Поэтому, видимое отсутствие или малое количество зараженных второстепенных носителей, на основании чего обычно и принижается их роль в эпизоотологии чумы, свидетельствует все же не о "второстепенном" положении этих носителей в поддержании энзоотии, а скорее об отсутствии к ним достаточного внимания в процессе эпизоотологического обследования (Фенюк, 1944; Фенюк, 1948; Шмутер, 1961 ; Федоров и Ралль, I960; Ралль, 1965 и др.). Естественно, что выявление возможной роли второстепенных носителей в эпизоотологии чумы проявляется в не одинаковой степени в разные годы и, по-видимому, стоит в определенной связи с общей климатической обстановкой отдельных лет. Мы имеем в виду определенные подъемы численности этих зверьков, связанные с обилием в природе естественных кормов. Подобные всплески численности очень часто возникают накануне активизации эпизоотического процесса, а также в период последующего развития его (Фенюк и др., 1959; Федоров и др., 1959; Варшавский и Варшавская в печати и др.). У разных видов второстепенных носителей эти особенности проявляются не одинаково. Особенно выраженными они оказываются в группе мышевидных грызунов, мелких песчанок, возможно - и тушканчиков.
Следует иметь в виду также и такой фактор, как повышение вирулентности возбудителя, при пассировании его через организм остроболеющих видов грызунов (Клодницкий, 1926 ; Коробкова, 1939; Тинкер и др., 1957; Алиев, 1966; Малинина, 1968; Иннокентьева, 1969 и др.), что приводит к увеличению числа зараженных зверьков в очаге.
Наконец, по нашему мнению, нельзя исключать и чисто механической, или транспортной, роли второстепенных носителей, в первую очередь таких, как хищники, в рассеивании чумы в пространстве в связи с особенностями экологии этих животных (Бром и др., 1948 ; Микулин, 1952 ; Бурделов, 1979 ; Щепотьев и др., 1979; Варшавский и др., 1982 и др.). Все сказанное позволяет сделать вывод о весомой роли второстепенных носителей в поддержании энзоотии чумы на конкретной территории - Северо-Приаральского автономного очага - и выполнении ими функции своеобразного катализатора или пускового механизма эпизоотических событий.
Выделяя при эпизоотологическом районировании участки постоянного нахождения возбудителя и обширные территории его временного пребывания, мы получаем возможность дифференцированного подхода к обследованию очаговой территории.
Подобный подход к различным участкам заключается в постоянном надзоре за интенсивностью эпизоотического процесса в микроочагах. При этом на остальной территории проводится минимальный объем учетных работ, позволяющих судить лишь об уровне численности основного и второстепенных носителей и эктопаразитов первого, не подвергая эти территории детальному эпизоотологиче-скому обследованию. Только при появлении признаков возможного обострения эпизоотической ситуации следует осуществлять тщательное обследование соответствующих участков территории.
Большую помощь в оценке изменения эпизоотической ситуации, своевременном обнаружении ее развития оказывает изучение внешних признаков проявления эпизоотии в поселениях песчанок (Варшавский и др., 1958). Комплекс визуально различимых признаков эпизоотического неблагополучия является наиболее производительным, оперативным приемом направленного поиска эпизоотии (Методические рекомендации..., 1975). Использование этого приема в практике работы противочумных учреждений нашей страны показало полную целесообразность и существенную информативность, при оценке складывающейся эпизоотической ситуации в природе.