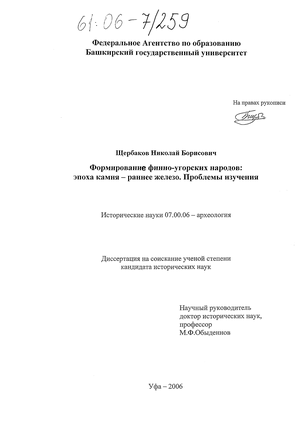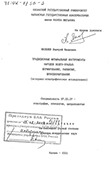Содержание к диссертации
Введение
Глава I. История изучения проблемы происхождения финно-угорских народов С.10-59
1.1. Проблемы происхождения и расселения финно-угорских народов по данным языка С. 10 - 20
1.2. История археологического изучения происхождения предков финно-угорских народов С.20 - 34
1.3. Антропологическая характеристика древнего населения лесной зоны Северо-востока Европы и Волго-Уральского региона С.34 - 59
Глава II. Эпоха камня в ранней истории финно-угорского населения С.60 - 110
П.1. Происхождение и контакты древнего населения лесной зоны Северо-востока Европы С.60 - 76
II.2. Эпоха камня в ранней истории поволжских финнов С.76 - 84
П.З. Керамический период (неолит) в истории древнего населения лесной зоны Северо-востока Европы и Волго-Уралья.. С.84 - 110
Глава III. Формирование финно-угорских народов в эпоху палеометалла и раннего железного века С.111 - 174
III. 1. Этно-культурная обстановка в лесной зоне Северо-востока Европы С.111 - 118
111.2. Эпоха раннего металла на территории Волго-Окского бассейна С.118- 147
111.3. Восточно-финские культуры раннего железного века С.148- 174
Заключение С. 175 - 181
Список использованной литературы
- Проблемы происхождения и расселения финно-угорских народов по данным языка
- История археологического изучения происхождения предков финно-угорских народов
- Происхождение и контакты древнего населения лесной зоны Северо-востока Европы
- Этно-культурная обстановка в лесной зоне Северо-востока Европы
Введение к работе
Финно-угорские народы представляют значительный пласт населения Восточной Европы.
Актуальность темы. Ареал финно-угорской общности охватывает обширную территорию от Фенноскандии на Западе до Урала и Западной Сибири на востоке. Сегодня эта языковая (согласно лингвистическим данным) общность представлена следующими народами -финнами, вепсами, саамами, эстонцами, карелами, марийцами, мордвой, удмуртами, пермяками, коми, венграми, хантами и манси. Известно, что в период с IX до XV вв. таких групп было несколько больше, часть из которых затем влилась в состав русского населения, а часть так и осталась на местах своего первоначального расселения и составила одну из основ генезиса других поволжских (тюркских) народов. Лингвисты, начиная с XIX в., стали объединять финские и угорские народы в финно-угорскую общность, данное положение закрепилось и в отечественной науке, однако данные народы имеют различную этноязыковую и культурную принадлежность, о чем свидетельствуют современные исследования (Кузьминых, Напольских, 1994, с. 144). Это положение приводит к необходимости исследования финских и восточно-финских групп населения, а не всей финно-угорской общности в целом, что и делается в данном исследовании.
Цель исследования заключается в анализе трудов археологов, антропологов и лингвистов, посвященных поиску прародины финских народов, доказательстве общности их происхождения.
Задачи исследования: 1 - сделать подробный анализ исследовательских работ по археологическому и антропологическому материалу памятников, которые относятся к финской общности; 2 - выявить основные отличительные черты сравниваемых групп населения; 3 -очертить географические рамки распространения единой этнокультурной общности, согласно работам различных исследователей; 4 - определить хронологические рамки существования культур, относящихся к данной общности; 5 - осветить вопросы и обобщить взгляды археологов, антропологов и лингвистов на проблемы, связанные с происхождением этих культур.
Территориальные рамки. Исследование охватывает территорию Волго-Уралья и Фенноскандии, где, по мнению подавляющего числа исследователей, и происходило формирование, развитие и распад древней финской и восточно-финской общности.
Хронологические рамки работы охватывают эпоху камня, начиная с мезолита, эпохи бронзы и раннего железа Фенноскандии и Волго-Уральского региона.
Научная новизна работы. Исследование является комплексным изучением ранней истории финно-угорского населения территории Северо-востока Европы и Волго-Уральского региона, с привлечением данных археологии, антропологии и лингвистики. В работе применяется сравнительно-исторический метод, который позволил, опираясь на известные финно-угорские археологические культуры, используя данные археологии, антропологии, этнографии и лингвистики выявить ранние этапы этногенеза древнего населения исследуемой территории. Валшым является вывод о том, что для финно-угорского населения характерно своеобразное запаздывание в использовании типов каменных орудий (наличие архаичных форм), а затем длительное использование микролитов в эпоху раннего металла и бронзы (Гурина, 1961, 1977). В эпоху раннего железа финно-угорские племена, находившиеся на территории Поволжья, Зауралья, Западной Сибири и Северной Европы продолжают активно использовать металлургию бронзы, медленно внедряя железо (Бельтикова, 1994, с.7).
Источники. В настоящей работе использованы материалы, опубликованные в работах археологов, этнографов, антропологов и лингвистов, как отечественных, так и зарубежных, а также материалы коллекций музеев Казани, Ижевска, Перми и других городов региона.
Практическая ценность работы заключается в том, что основные положения диссертации могут быть использованы при подготовке общих и специальных курсов по древней и раннесредневековой истории Волго-Уральского региона и Северо-востока Европы в ВУЗах, а также при написании обобщающих работ.
Апробация итогов исследования прошла на заседаниях кафедры Археологии, древней и средневековой истории Башкирского государственного университета, на международных и: региональных научных конференциях в 1999 - 2005 гг. Результаты исследования нашли отражение в 8 публикациях автора.
Основные защищаемые положения
- основой для сложения прафинно-угорских культур в Европейской части (Прибалтика, Белоруссия, западная часть Волго-Окского междуречья, Украина), можно считать синтез свидерской и аренсбургской культур, особенно заметный в бассейне р. Немана. Сближение культур эпохи мезолита привело к появлению ряда постсвидерских культур - неманской, кундской и бутовской (Жилин, 1998, с.25-29; Сидоров, 1998 б, с.64; Кольцов, 1998 а, с.75-76).
- родственная бутовской культуре иеневская, занимавшая территорию Волго-Окского междуречья, имела генетические связи с усть-камской и камской культурами (Жилин, 1998, с.25-29; Сидоров, 1998 б, с.71; Кольцов, 1998 а, с.7-77; Кравцов, 1998, с.203).
- зона расселения чирковской и чирковско-сейминской культур, была возможно той зоной, на которой складывалась общность поволжских финнов, а также, возможно, и угров лесной зоны
Восточной Европы (Халиков, 1960, с. 9; Збруева, 1961, с. 35; Сальников, 1967, с. 147-241)
приказанская культура могла сформироваться на базе наиболее восточных групп волосовской культурной общности при определенном воздействии более южных прасрубно-абашевских, вернее покровско-абашевских племен. Родственные приказанцам поздняковские племена, судя по материалам Акозинского поселения (Халиков, 1960, с. 28), еще сохраняли определенную близость.
культуры эпохи бронзы, которые могли быть основой для последующего сложения поволжских финнов и угров лесо-таежной зоны, сегодня не могут быть достаточно точно соотнесены с культурами раннего железного века. Его начало на европейском северо-востоке (VIII - VI вв. до н.э.) связывают с поздней стадией лебяжской культуры (по Г.М.Бурову) или типом Ласта (по В.И.Канивцу). Следующий период (VI - III вв. до н.э.) -ананьинский (по Г.М.Бурову) или перныйский (по В.И.Канивцу) (Ашихмина, 1987, с. 57). Также мы должны принять во внимание хронологию, данную А.А.Чижевским, на основании выделения внутри ананьинской историко-культурной области различных этнокультурных вариантов: ананьинская культура шнуровой керамики (VIII - V вв. до н.э.), ананьинская культура гребенчато-шнуровой керамики (VII - VI вв. до н.э.) (Чижевский, 2002, с.16,19).
восточная часть ананьинской общности дифференцировалась на этносы пьяноборского времени, для которых характерно тесное общение за счет концентрации нескольких племенных групп в небольших районах с обширными поименно-луговыми угодьями (Генинг, 1988, с. 59-60). Это привело к уменьшению этноса в целом, но обеспечило более близкое территориальное размещение всех членов новых этносов и постоянное, на уровне обыденной жизни, общение. Эти процессы и послужили основой формирования чегандинской, кара-абызской, гафурийско-убаларской, осинской и гляденовской археологических культур III в. до н.э.- II в. н.э., составивших пьяноборскую культурно-историческую область.
для эпохи камня отмечается практически полное отсутствие антропологического, также как и археологического, материала, который сегодня можно было интерпретировать, как финно-угорский (на основании признаков уралоидности) и как следствие, население, которое в последствии явилось основой для сложения «общего» уральского антропологического субстрата, имело различное самостоятельное происхождение и различные территории образования. Передвигаясь с территории первоначального расселения, уральский тип проникает в Северо-Восточную Европу, вплоть до побережья Фенноскандии, и оказывает довольно значительное влияние не только на антропологический состав населения, но и на его культурные особенности, привнося с собой ряд кремневых изделий из определенных пород кремня, а также их форму. Подобное продвижение на запад вполне можно объяснить распадом прауральской общности, которая, однако, не утеряла сходства вещественного и антропологического комплексов. Однако, существуют заметные дискретные различия между поволжскими и приуральскими финно- и тюркоязычными народами, по сравнению с хантами и манси, что соответствует «отчетливым различиям антропологических вариантов Восточной Европы и уральской расы» (Дерябин, 2001, с.74).
- считая, что ананьинская культура сложилась на основе местных племен Прикамья при участии других племен, пришедших из Зауралья, возможно сделать предположение, что ананьинские племена являются предками удмуртов, коми и угорских племен (Трофимова, 1941, 1954; Балуева, Веселовская, Лебединская, Пестряков, 1988, с. 131).
- по данным лингвистов, финно-угорские языки могли сложиться как самостоятельная ветвь на территории Урала и Сибири (Напольских, Энговатова, 2000, с. 224; Хайду, 1985, с.146-148; Казанцев, 1979, с.61-62).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы, а также приложений, состоящих из карт, рисунков и схем.
Проблемы происхождения и расселения финно-угорских народов по данным языка
Первыми вопрос о происхождении и первоначальном расселении финно-угров подняли лингвисты, приступив к исследованию этих групп населения в XVIII веке. Рассматривая вопрос о происхождении финно-угров, они пытались локализовать прародину финно-угров, используя для этих целей палеолингвистический метод. Данные лингвистики позволяют сегодня реконструировать также и некоторые процессы ранних форм земледелия, связанного с предками финно-угров. Как известно, леса на европейской части России расположены между лесотундрой и лесостепью, простираясь в широтном направлении (Приложение I. Карта 1; Карта 2; Карта 3; Карта 29). Продолжением лесной зоны являются леса Фенноскандии и Центральной Европы на западе, и леса Урала и Западной Сибири на востоке (Краснов, 1971, с.б). Использование с древности территории южной границы лесов под посевы привело к превращению южной границы лесов в лесостепь (Мильков, 1952, с.443; Краснов, 1971, с. 10). Существуют интересные предположения о времени и месте знакомства предков финно-угров с производящей экономикой - использованием в жизни злаковых растений. Согласно точке зрения П.Аристе и ряда других лингвистов, финно-угры могли впервые познакомиться с культурой пшеницы в III - II тыс. до н.э. (Ariste, 1955, р. 193-203), однако, данное предположение пока не подтверждено палеоботаническими данными (Краснов, 1971, с. 15).
В свете приведенных данных, нельзя не отметить и предположение В.Е.Писаревой о характере происхождения земледелия у финно-угорских народов. Она обратила внимание на то, что сорта пшеницы, распространенные от Финляндии до Западной Сибири оказались родственны сортам из южных областей Западной Азии, т.е. финно-угры принесли на занимаемые ими сегодня пространства сорта пшеницы во время их продвижения из Азии (цитата по работе Е.Н.Писаревой «Пшеница в нечерноземной полосе Союза» // Гибель озимых хлебов. - М.-Л., 1929, с.289) (Краснов, 1971, с. 15). С этим предположением перекликается и точка зрения С.П.Толстова и В.Н.Чернецова на вопрос происхождения финно-угров (Толстов, 1948, с.65; Чернецов, 1951, с.24-27). На эту же территории происхождения или начального расселения финно-угорского населения указывают и лингвистические данные анализа названия другого злака -ячменя. П.Аристе указывал, как и в случае с пшеницей, на Азиатское происхождения данной культуры в рационе финно-угров, а само слово «iva» (ячмень) является общим для всех финно-угорских языков и мог появиться у финно-угров в III тыс. до н.э. (Ariste, 1955, р. 19), однако, также, как и в случае с пшеницей, подтверждающих палеоботанических данных пока нет (Краснов, 1971, с.17-18).
Если в отношении общностей финских языков у лингвистов практически нет расхождений во взглядах, то изучение угорских групп вызывает серьезные сложности, так как не только схожесть или отличия в звучании и лексическом составе слов, но и сама этимология весьма затруднительна. Ряд ученых полагает, что ханты в русских источниках XV в. назывались остяками, вначале этот термин применялся по отношению к населению, занимавшему территорию Средней Камы (север Башкирии и юг Пермской области), затем так стали обозначать и более широкие группы населения, т.н. хантыйские группы - иртышские, обские, обдорские, кондинские, кеты.
Этноним «остяк» был видимо тюркского происхождения, где служил для обозначения инородного населения; киргизское "istak"- «башкир», казахское "istak" - «башкир», «сибирский татарин»; вероятно, что "istak" связан с общетюрским корнем "is" - «работа», "istak" - «работник» / «зависимый человек»; однако, можно связать "is" со словом которое переводится как «плодиться», «умножаться» (Напольских, 1997, с.75).
Сложностью в лингвистических исследованиях было то, что первоначально ученые пытались изучать язык и происхождение финно-угров в отрыве от связей последних от окружавших их соседних племен и народов, а это оказалось невозможно, таким образом, лингвисты значительное место в своих исследованиях стали уделять инокультурным влияниям и традициям, которые нашли свое отражение в языке. Пожалуй наибольшее отражение взаимодействия финно-угорских племен с инокультурными группами (после мордвы и славян), нашло вероятнее всего в этнониме «венгр». В.В.Напольских, исследуя этимологию и этноним, пришел к выводу, что он состоит из двух корней, первый из которых собственно угорский, а второй -тюркский (Напольских, 1997, с.63).
В развитии венгерского языка П.Хайду (1985, с. 16) выделил ряд эпох: 1) правенгерская (I тыс. до н.э. - 896 г.н.э.); а) эпоха уральской прародины (I тыс.до н.э. - V в.н.э.); б) эпоха миграций (V в.н.э. - 896 г.н.э.); 2) древневенгерская (от «завоевания родины» - до начала турецкого господства); 3) средневенгерская (XVI - XVIII вв.); 4) нововенгерская (с XIII в.).
История археологического изучения происхождения предков финно-угорских народов
Обозначенные лингвистами проблемы нашли свое отражение и в работах археологов. Основной проблемой финно-угорских древностей является поиск прародины современных финно-угорских народов. Больше всего научных споров вызвала географическая локализация финно-угорской прародины, которой считали Алтай, потом территорию между Балтикой и Уралом, район Волго-Окского междуречья и даже территорию Средней Польши. Основоположник уралистики М.А.Кастрен считал отправной точкой для поисков прародины финно-угров Алтай. В 1860-х гг. финский археолог И.Р.Аспелин пытался найти археологические доказательства гипотезы соотечественника, выводя в районе Алтая и Саян урало-алтайскую бронзовую культуру. Из этой культуры финно-угры выделились в северном и западном направлениях (Castren, 1862). Однако в начале XX в. другой исследователь А.М.Тальгрен доказывал полную несостоятельность данной гипотезы, как с археологической так и с лингвистической точек зрения, утверждая, что уральский бронзовый век никак не мог развиваться из алтайского (Talgren, 1912, р. 82, 1928,р.72-74).
Венгерский исследователь Э.Мольнар в середине XX в. вновь вернулся к гипотезе М.А.Кастрена и И.Р.Аспелина. Он связывал энеолитическую афанасьевскую культуру (середина III - начало II тыс. до н.э.) на территории Саян и бассейна р.Енисей с древними уральцами. Интересна гипотеза шведского исследователя О.Альмгрена, который считал, что уральская прародина распространялась от Прибалтики до Урала и включала в себя весь ареал неолитических культур с гребенчатой орнаментацией, которая может служить отличительной особенностью финно-угорской принадлежности. Подобной точки зрения придерживался и Е.Айлио. Подобные взгляды были призваны окончательно примирить оппонентов и закрыть вопрос о прародине финно-угров, однако, в данной концепции не нашлось ответа на вопрос о пракультуре финно-угров (Приложение I. Карта 28).
Также эту точку зрения поддерживали некоторые финские лингвисты, например, О.Койстинен, П.Равила и Ю.Тойвонен, полагая, что прародину финно-угров необходимо искать в области распространения ямочно-гребенчатой неолитической культуры лесной зоны. Д.Ласло несколько уточнил эту гипотезу, предположив, что истоки уральцев необходимо искать в верхнем палеолите, в Средней Польше, где позже сформировалась свидерская культура - мезолитическая основа ямочно-гребенчатой керамики. А.Эйряпяя вернулся к гипотезе О.Альмгрена и Е.Айлио, по его мнению истоки финно-угров следует искать в культуре Кунда в Прибалтике. Похожих взглядов придерживались К.Ф.Мейнандер и Д.Ласло (Meinander, 1984; Laszlo, 1961). Археологический комплекс Кунды со времени его открытия вызвал появление различных точек зрения на его происхождение, а также на его взаимосвязь с культурой Шигирских торфяников. Р.Индреко полагал, что финно-угры (потомки Кунды) двигались на восток и дойдя до Урала стали создателями археологической культуры Шигира (Indreko, 1964, р. 5). Отечественный исследователь А.Я.Брюсов придерживался противоположных взглядов (Брюсов, 1952, с. 25-41). На сегодняшний день мы можем предположить, что эти две культуры вообще не имели между собой никакой связи, о чем свидетельствуют радиокарбонные датировки, определяющие культуру Кунды эпохой мезолита. К подобной точке зрения склоняется и П.Вереш (Вереш, 1979, с.5-6).
Как уже отмечалось, поиск прародины был и остается одним из основных вопросов финно-угроведения. Еще в 1951 г. В.Н.Чернецов выдвигает гипотезу, о прародине древних угров на территории юга Западной Сибири, и в частности о решающей роли усть-полуйской культуры (V - II вв. до н.э.), считая последнюю отправной точкой для выделения древних венгров, к этой же точке зрения присоединилась и В.И.Мошинская (Чернецов, Мошинская, 1954, с. 54), однако такие исследователи как М.П.Грязнов, Л.Р.Кызласов, М.Ф.Косарев, В.А.Могильников и В.Ф.Генинг не были с ней согласны. А.Барта вообще считал, что предки обских угров и венгров связаны между собой лишь условно и поэтому не представляется возможным говорить об их общей праистории, также как нельзя выводить древних венгров с территории, занятой археологическими культурами Западной Сибири, так как древние венгры никогда не были в засушливых степных районах.
Сходную точку зрения с отечественными историками на проблему поиска предков венгров в эпоху перехода бронзы к железу высказали И.Фодор и И.Эрдели, полагая, что связывать археологические культуры Прикамья поздней бронзы и раннего железа (ананьинскую или пьяноборскую) с древними венграми не представляется возможным. Вероятнее всего, что эти культуры стали основой для развития пермских или волжских финно-угров (Эрдели, 1971, с. 108-112).
Происхождение и контакты древнего населения лесной зоны Северо-востока Европы
Территория Фенноскандии, Прикамья и Уральских гор является основной для исследования культур эпохи камня, которые, вероятно, родственны между собой, и возможно относятся к территории, на которой в последствии формируются финно-угорские народы.
По мнению В.В.Седова Прибалтика была заселена финно-уграми уже в эпоху камня, но это были еще не собственно прибалтийские финны, появление которых маркируется текстильной, а затем и штрихованной керамикой (Седов, 1987, с. 13). При этом нельзя не принимать во внимание изучение процессов адаптации древнего населения. Говоря о культурной адаптации к климатическим условиям Прибалтики, Л.В.Кольцов замечает, что с эпохи мезолита более разнообразной становится техника обработки кости и рога. В то же время перекочевки древнего населения связываются Л.В.Кольцовым с присваивающей формой хозяйства, и как ее следствие с быстрым оскудением ресурсов (Кольцов, 1998, с.21-23). В то же время, мы сталкиваемся с проблемой интерпретации такого термина, как «миграция», наиболее приемлемое определение дает, на наш взгляд, В.В.Сидоров. Он считает, что «миграция» это проникновение в новую среду группы, способной длительно сохранить свою собственную культуру (Сидоров, 1998 б, с.64). В.В.Сидоров, рассматривая вопрос о заселении Прибалтики и Фенноскандии, предполагает первоначальное заселение этих территорий с востока, из Зауралья, связывая первое население с Акуловской традицией Сибири (Сидоров, 1998 б, с.65).
В начале XX в. древнейшее население Финляндии связывалось исследователями с культурой Суомусъярви, которая изучалась А.Эйряпяэ и В.Пухо, и характеризовалась преобладанием уральских черт. Характерными орудиями культуры являлись - примитивный топор, желобчатое долото с выгнутой спинкой, долото с прямым лезвием, обработанные камни с отверстием и ряд других. В чистом виде эта культура локализуется на побережье от Кякисалми до г.Оулу, и существовала, видимо, с VIII по V тыс. до н.э. Датировка по С]4 дала следующие данные: самая ранняя находка -топор (7280 ±210 лет до н.э.), самая поздняя находка датировалась V тыс. до н.э.
Во время позднего палеолита - раннего мезолита (X - VII тыс.до н.э. ), на территории от Одры до Средней Волги, развивалась свидерская культура, которая распространилась затем и до нижнего течения Оки. Самой северной находкой этой культуры явился Оленеостровский могильник на Онежском озере в Карелии (Могильник на Южном Оленьем острове). Основной инвентарь, использовавшийся этой культурой - кремень, который отражал непосредственную связь свидерских памятников с памятниками Средней Руси. На этом основании К.Мейнандер считал возможным говорить не о культуре, а о технологическом комплексе (Мейнандер, 1982, с. 10, 18, 29). Изделия из кости и рога сближают свидерские древности с эстонской культурой Кунда. Краниологические исследования погребенных совершенно ясно показали двукомпонентность в этническом составе населения -европеоидность и монголоидность краниального скелета.
Начиная с VI тыс.до н.э. основную роль в археологических культурах начинает играть ямочно-гребенчатая керамика, ареал распространения которой практически совпадает с территорией распространения финно-угорских народов (Приложение I. Карта 6). В 1930 г. А.Эйрапяэ предлагает следующую классификацию (хронологию) гребенчатой керамики: 1) «Ka I» - ранняя гребенчатая керамика (типа сперрингс); 2) «Ка П»-типичная гребенчатая керамика; 3) «Ка П1»-поздняя гребенчатая керамика.
Ее границы распространялись на побережье Ботнического залива (захватывая Аландские острова), Финский залив, р. Сестре, Ладогу, правый берег реки Свирь и восточный берег Онежского озера (в Финляндии 67 мест находок, в Карелии -106). Сам А.Эйрапяэ в 1955 г. указывал на сходство керамики сперрингс с керамикой Северо-востока, что впоследствии подтвердили работы Д.А.Крайнова, Ю.Н.Урбан,. Н.А.Хотинского и Е.М.Молодцова, культура получила название «верхневолжской», которая затем могла составить базу для льяловской культуры (Крайнов, Хотинский, Урбан, Молодцова, 1973, с. 80 - 84). Рассматривая проблему ямочно-гребенчатой керамики, В.В.Сидоров предполагает, что ямочно-гребенчатая керамика является чуждым явлением в льяловской культуре и должна определяться как моложская ямочно-гребенчатая керамика. Он также выступает против точки зрения М.П.Зимина, который пытался объединить гребенчатую и ямочно-гребенчатую керамику (Сидоров, 1998 а, с.247). В то же время, бассейн Мологи и Меты, по мнению В.В.Сидорова, вызывает необходимость в выделении особой культуры - культуры, родственной как льяловской, так и валдайской - культуры редкоямочной керамики начала III тыс. до н.э. (Сидоров, 1998 а, с.247, 251, 256-258).
Этно-культурная обстановка в лесной зоне Северо-востока Европы
Восточноприбалтийская культура шнуровой керамики не исчезла бесследно и не была полностью поглощена местным населением, она явилась одним из компонентов сложения культуры бронзы, выявленной на территории Лубанской низины (Лозе, 1979, с. 120). Эта культура, возникшая на основе сложного процесса взаимодействия культуры шнуровой керамики и поздненеолитической культуры местного происхождения, впитала в себя черты, характерные и для соседних культур, в частности фатьяновской. что подтверждается наличием некоторой общности в орнаментальных мотивах керамики этих двух синхронных культур (Приложение I. Карта 11; Карта 36).
На рубеже III и II тысячелетий и в первой четверти II тыс. до н. э. на территории Восточной Прибалтики появляется культура шнуровой керамики и ладьевидных топоров. Довольно быстрое, почти одновременное распространение этой культуры прослежено в Литве, Латвии, Эстонии и юго-западной Финляндии. Памятники культуры шнуровой керамики и ладьевидных топоров в Восточной Прибалтике изучены неодинаково. Основными источниками информации по данной культуре являются поселения, могильники и случайные находки. К настоящему времени на территории Прибалтики известно около 39 могильников, в которых обнаружено 70 погребений. В Литве и Латвии могильники известны главным образом вдоль морского побережья, а в Эстонии они распространены по всей территории и даже на островах (Саарема и Муху). Лучше всего изучены эстонские грунтовые могильники, среди которых наиболее интересными являются Арду, Сопе, Купила и поздний могильник Кивисааре. Обычно могильники располагаются на песчаных холмах вблизи водоемов и естественных пастбищ, но чаще встречаются на морском побережье, на островах и в районах речных пойм. Число погребений в могильниках небольшое от одного до пяти и редко до 10 погребений. Наибольшую известность получили поселения Швянтойи на северо-западе Литвы и Нида на Куршской косе. На остальной территории большая часть находок этой культуры сосредоточена на неолитических памятниках в смешении с поздненеолитическими культурными остатками. Наряду с этим на всей территории Восточной Прибалтики часто встречаются случайные находки каменных сверленых топоров-молотков, клиновидных топоров и других вещей данной культуры.
Для культуры шнуровой керамики характерны глиняные сосуды, которые по форме напоминают кубки, имеют эсовидный профиль, отогнутый наружу венчик и уплощенное дно. Орнамент, как правило, зональный, покрывает верхнюю часть сосуда. Он или нарезной или шнуровой. Встречаются одиночные неглубокие вдавлення в виде поясков, окаймляющих узор. Для керамики прибалтийской культуры ладьевидных топоров наиболее характерным является елочный узор. Подобная керамика, что характерно, не имела подразделения на поселенческую и погребальную, и соответственно встречалась повсеместно (Янитс, 1959, с. 325-357). Изредка встречаются обломки сосудов амфорной формы.
Поселения с чистым комплексом культуры шнуровой керамики расположены на юго-западе Восточной Прибалтики (Швянтойи). Эти памятники имеют богатый инвентарь, состоящий из кремневых, сланцевых и деревянных изделий: это кремневые треугольные наконечники стрел, ножи и проколки. Украшения изготовлялись из янтаря (трапециевидные пластинчатые подвески, цилиндрические пронизки, шаровидные и пуговицеобразные бусины). Керамика поселений Швянтойи представлена кубками с S-видной профилировкой, кубкообразными горшками, горшками с валиками, воронковидными сосудами, мисками округлой и продолговатой формы и амфорами с ушками на плечиках. Кубки имели несколько видов и подразделяются по различию формы. На территории Восточной Литвы поселения и могильники принадлежат к локальному варианту восточноприбалтийской культуры ладьевидных топоров и шнуровой керамики, получившей название жуцевской культуры (висло-неманской или приморской). Ладьевидные топоры этой культуры, преимущественно из случайных находок, представлены европейским типом «А» (Крайнов, 1972, с. 16). Топоры-молотки классифицируются в четыре основные группы. Топоры первой из них имеют округленное четырехугольное и трапециевидное сечение, несколько опущенное вниз лезвие с хордой на спине, они получили распространение главным образом в Западной Литве до р. Дубиса и среднего течения р. Неман. Топоры с конусовидным обухом, являющиеся более поздним вариантом первого типа топоров, встречаются исключительно на территории северной части Литвы. Вторую группу составляют топоры, близкие топорам фатьяновской культуры (Крайнов, 1972, с. 40). Они распространены преимущественно в западной части Литвы. В третью группу входят балтийские ладьевидные топоры с четырехугольным сечением, с притуплённым обухом и несколько расширенным лезвием. Выделяются два варианта этих топоров, которые отличаются формой обуха (имеются топоры с коротким, сильно суженым обухом и топоры с удлиненным обухом, округленными боковыми гранями и нередко с изогнутым профилем).