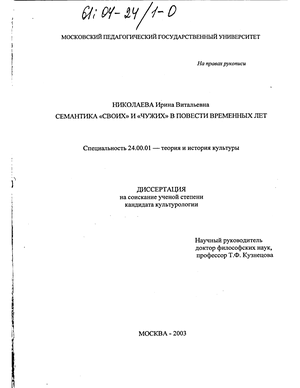Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. «Иные» — «другие» — «чужие» 20
1. «Сыны Измайловы» 21
2. «Моавитяне» и «Амонитяне» Повести временных лет 47
Глава 2. «Свои» и «мы» 61
1. «Мы» и «наши» 62
2 «Не свои» — «иные» — «другие» 78
Заключение 88
Примечания 91
Список использованных источников и литературы 131
Введение к работе
Проблема понимания «другого» в современном гуманитарном знании и
изучения механизмов формирования представлений о «другом» в процессе межкультурных контактов является одной из наиболее актуальных проблем современной культурологии. Изучение истории восприятия и описания «другого» в различных культурах представляет в этом контексте особый интерес. Рассмотрение исторически конкретных форм восприятия соседних народов древнерусским летописцем-христианином в связи с этим имеет тем большую эпистемологическую важность, что помещает проблему «другого» в контекст иной культуры, отстоящей о нас почти на тысячелетие; особую остроту это приобретает в современной геополитической, культурной, религиозной ситуации, что и определяет в целом актуальность темы, избранной нами для диссертационного исследования.
Недаром вопросы восприятия летописцем «околных» этносов все чаще поднимаются в отечественных литературоведческих, исторических и собственно культурологических работах последнего времени, а также в публицистике. Это, прежде всего, исследования, связанные со становлением национального самосознания в Древней Руси (и — косвенно — с переживаемым в настоящее время процессом, так сказать, вторичной этнической самоидентификации народов бывшего СССР), вызывающие оживленные (если не сказать, ожесточенные) споры между «патриотически-настроенными» публицистами, все чаще мимикрирующими под «академические» труды и стремящимися к максимально раннему «выявлению» собственно «русских» — и, естественно, максимально негативной характеристике противостоящих им «инородцев», — и собственно учеными-исследователями, работы которых категорически не устраивают «патриотов».
Характерным примером «патриотической» литературы на интересующую нас тему являются малограмотные, с филологической и исторической точки
зрения, трактаты инженера-гидролога Г.С. Гриневича1. По общей идее они смыкаются, с одной стороны, с «историческими» трудами специалиста по разведению в средней полосе брюквы и свеклы Е.И. Классена . С другой, — примыкают к многочисленным и очень популярным в последнее время в России работам эмигрантов, опиравшихся на мифическую Влесову книгу , и их российских последователей4. К сожалению, в последние годы (по политическим мотивам преимущественно) подобные идеи все чаще проникают в работы профессиональных историков и филологов5. Характерно, что в некоторых случаях подобные труды даже защищаются в качестве докторских диссертаций, т.е. принимаются отечественными профессиональными корпорациями6.
Соответственно, все чаще появляются и работы, диаметрально противоположные по направленности, авторы которых стараются исключить любой намек на «русскость» в истории этносов, населяющих Россию, и становлении их этнического самосознания7.
В то же время, вопросы восприятия «другого» разрабатываются и в рамках строго академической науки. Причем наибольший интерес вызывают именно ранние периоды истории России, на которые пришлись процессы формирования этических сообществ-непосредственных предшественников этносов, населяющих современную Россию8. При этом «в 1980-х — начале 1990-х гг., на пике историографического интереса к проблемам этнического самосознания и "образа другого" были предприняты попытки применить методы, разрабатывавшиеся на материале нового времени, и к средневековой, в том числе древнерусской, литературе»9. Однако несмотря на явные успехи, которые были достигнуты в этой области за последние четверть века, до сих пор многие вопросы остаются неясными. В частности, одной из ключевых проблем, без решения которой невозможно дальнейшее продвижения в обозначенной области исследования, является вопрос о том, насколько современный понятийно-категориальный аппарат, которым пользуются культурологи, этнологи и историки, позволяет адекватно описывать такого рода процессы, происходившие в иное время10.
Все это придает вопросам, которые стоят в центре нашего исследования, особую актуальность.
Вместе с тем, приходится констатировать, что степень научной
разработанности интересующих нас проблем до сих пор остается
недостаточной. Ограниченность представлений о «другом» пространством той
культуры, в которой эти представления рождаются, осознана сегодня как
эпистемологическая проблема гуманитарных и социальных дисциплин.
Согласно формулировке, распространившейся в культурологической (особенно,
культурно-антропологической) традиции, «портреты» «другого»,
реконструируемые (а точнее, — конструируемые) исследователями, «говорят больше о наблюдателях, чем о наблюдаемых». И это при том, что целью изучения культуры по существу является как раз познание «другого». Так что, вопреки господствующей общетеоретической установке, чаще всего результаты культурологических исследований являются лишь той или иной формой проекции «я» исследователя на «другого». В рамках традиционной парадигмы мы в большей степени занимаемся самопознанием, нежели изучением «другого».
Эта проблема (в целом, далеко не новая) оказывается одним из центральных вопросов в нарастающей с 1980-х годов критике классической культурной антропологии, как и иных антропологически ориентированных дисциплин (истории ментальностей в частности). В настоящее время уже не вызывает сомнения, что они фиксируют «другого» в его специфических «образах», на создание которых они нацелены. Общей тенденцией этой критики является стремление к отказу от детерминизма — культурного детерминизма в частности.
Основное внимание при этом переносится на историческую изменчивость общества и его внутреннюю неоднородность (на всех уровнях и во всех сферах его деятельности). Отсюда проистекает, с одной стороны, отрицание объясняющей роли понятия «традиция» (столь существенного для «классического» понимания культуры, разработанного культурным
релятивизмом11) — поскольку оно предполагает игнорирование такой изменчивости и разнородности. С другой, наблюдается резкое осуждение «эссенциализма», понимаемого как презумпция некоей коренной «сущности», определяющей специфику культуры12. Это понятие, введенное К. Гирцем в контексте рассмотрения проблем национализма и становления национальных государств, было распространено его последователями на сами подходы к изучению культуры. Существенным элементом этой тенденции — рождающимся из нее и ее усиливающим — оказывается своеобразное «прагматическое» осмысление эпистемологических проблем. Жесткое противопоставление «своих» и «чужих», присущее современному миру, как и основания, на которых это противопоставление ныне осуществляется, переносится в прошлое. В результате формирования «эссенциализированных» образов «себя» и «другого», создаваемых самим процессом определения и отличения «другого» от «себя» («Запад» — «Восток»; «христианский мир» — «мир ислама» и т.п.), они предстают замкнутыми и радикально чуждыми друг другу13. Несмотря на то, что эта точка зрения в последнее время достаточно активно критикуется, большинство исследований продолжает базироваться именно на ней.
Обсуждение перечисленных проблем повлекло за собой в преобладающей исследовательской практике не столько отказ от признания объективного существования разных культур и изучения «другого», сколько изменение точек зрения, с которых «он» рассматривается, — переход от позитивистской объективации к интерпретации «другого», исключающий все формы «эссенциализма».
Другими словами, одно из наиболее перспективных направлений в современной культурологии связано с отказом от признания неизменности культурной специфичности, ассоциирующейся с концепциями культурной исключительности, фундаментализма и расизма14. В связи с этим нарастает интерес к изучению восприятия «другого» в тех культурах, где проблема инаковости как таковая не становилась предметом преднамеренной рефлексии.
Речь идет о таких представлениях о «себе» и «другом», которые сформировались на общем знании и мироощущении, не требующем вербализации, артикуляции и кодификации. При этом, естественно, они нередко оставались несформулированными. Можно сказать, что в значительной степени это — интерес к соотнесению эпистемологических проблем современного исследователя с подобным «стихийным» восприятием «другого». Однако и при таком подходе исследователи самых разных направлений (в том числе, остающиеся в пространстве картины мира, построенной «культурным релятивизмом») подчеркивают, что видение инаковости не является культурно детерминированным. Оно лишь ограничивается культурой. Они, вместе с тем, оказывались подверженными постоянным изменениям и вариациям, вызванными различием групповых и личных интересов, конкретным историческим опытом и политическими обстоятельствами, и трансформировались реальностью взаимных контактов.
Среди таких исследований, несомненно, преобладают те, которые посвящены изучению разных исторических этапов отношения разных культур к «другому», но не к «себе» и «своим». Между тем, культурная обусловленность представлений о «другом» может рассматриваться как определенное исследовательское преимущество при обращении к изучению самой культуры, в рамках которой формируется представление о «другом». Ведь, именно перед лицом «другого» люди наиболее полно осознают и артикулируют протяженность и пределы «своего»: специфичность «своей» культуры, ее пределы, за которыми кончаются «мы» и начинаются «они»1^. В то же время становятся очевиднее степени подвижности, «эластичности» этих границ, их проницаемости или, напротив, жесткости — в зависимости от тех или иных обстоятельств. Именно на такой границе, по-видимому, самопроизвольно и в неявном виде — хотя, как правило, вполне отчетливо — актуализируются наиболее существенные для этой культуры параметры осмысления мира и себя в нем. Именно здесь кристаллизуются базовые категории, понятия и концепты культуры в их взаимосвязи. В свою очередь, сами эти взаимосвязи могут
очерчивать контуры культуры в таких аспектах, которые в других ее проявлениях скрыты или, по меньшей мере, менее доступны вниманию исследователя.
Помимо прочего, это позволяет до определенной степени избежать априорного выбора тех или иных категорий, кажущихся ему референтными для изучаемой культуры, и последовать за собственными приоритетами рассматриваемого общества. Так, в подавляющем большинстве работ, посвященных изучению представлений о «другом», нашедших отображение в Повести временных лет, основное внимание уделяется анализу тех терминов, которые современному исследователю представляются этнонимами1 . Именно в их рамках историки и культурологи пытаются обнаружить «национальный менталитет», с помощью которого устанавливаются значения для определения пропорций между эмоциональным и рациональным уровнем сознания при воспроизводстве этнической группой дуальной (или бинарной) оппозиции: противопоставления «мы» — «они», «свои» — «чужие»17.
Объектом нашего исследования являются летописи, сохранившие текст Повести временных лет и предшествующих ей летописных сводов. Текст Начального свода 1096 г. доступен в Синодальном списке Новгородской I
1 Я
летописи (старший извод, вторая пол. XIII — начало XIV в.) . Текст Повести, возникший на рубеже XI—XII вв. (первая редакция относится обычно к 1113, вторая — к 1116, а третья — к 1118 г.), вобравший и переработавший тексты Древнейшего свода 1036г., свода Никона конца 60-х — начала 70-х гг. XI в., Начального свода, а также ряд зарубежных источников (Хронику Георгия Амартола, «Летописец вскоре» патриарха Никифора, «Сказание о 12 камнях на ризе иерусалимского первосвященника» Епифания Кипрского, «Откровение» Мефодия Патарского, и множество библейских текстов)19, сохранился в Лаврентьевском (1377 г.) и Ипатьевском (начало XV в.) списках. Они и привлекаются в данной работе в первую очередь. Кроме того, в отдельных случаях в качестве источника используется реконструкция текста Повести
временных лет, предложенная Д.С. Лихачевым, в который восстановлены
некоторые ранние чтения, не сохранившиеся в реальных списках .
Учитывая, что в Древней Руси Библия (а также многочисленные апокрифические тексты) выполняла функции основного семантического арсенала, из которого древнерусские книжники черпали образы и фразеологию, с помощью которых они пытались описать происходящее, в качестве вспомогательного источника в данной работе используется текст Библии (в синодальном переводе, а также Геннадиевская 1499 г., первопечатная Острожская 1581 г. и Елизаветинская 1751 г.). Кроме того, привлекаются апокрифические тексты (прежде всего, «Откровение» Мефодия Патарского).
Предметом нашего исследования являются культурные стратегии, стихийно, неосознанно используемые древнерусскими летописцами в процессе описания того, что принято сейчас называть исторической реальностью. Под «культурными стратегиями» мы понимаем механизмы и логику, с помощью которых представления, концепты и категории, присущие культуре, в которой (и которой) живет летописец, выстраиваются в более или менее завершенные образы «себя» и «других», возникающие на страницах летописи. Модели восприятия «своих» («себя») и «чужих» («других», «иных»), а также конструирования представлений о «своих» и «других» в этих отношениях, рассматриваются в контексте тех взаимосвязанных культурных категорий, которые актуализируются в процессе этого восприятия.
Степень научной разработанности проблемы до сих пор остается недостаточной. В отечественной науке основы ее решения были заложены работами Б.Ф. Поршнева . Одним из магистральных направлений ее исследований, ведущихся в этом направлении в последние годы стало изучение так называемой языковой картины мира различных культурных сообществ. Представления о единстве языка и мышления (В. фон Гумбольдт, Э. Сепир, А. Соломоник, Б. Уорф и др.24) получили воплощение в работах лингвистов, которые рассматривают язык как источник реконструкции такой «картины мира»25. В несколько меньшей степени это направление нашло отражение в
исследованиях, авторы которых исследователи, обращали внимание преимущественно не столько на «языковую картину мира», сколько на выявление «закономерностей лексической системы» . К этим исследователям примыкают работы культурологов, историков и литературоведов, изучающих категории культуры на основе семантического анализа текстов и отдельных языковых концептов27. Особый интерес для нас представляют работы такого рода, специально посвященные изучению самоидентификации социальных групп, а также представлений о «чужих» сообществах . Категория «чужих» не
„29 ,.
раз становилась предметом рассмотрения зарубежных исследователей . В том числе, множество специальных работ посвящено определению смысла этнонимов, встречающихся в исторических источниках и связанных с проблемой восприятия одними народами других30.
Методология исследования. При этом мы исходим из того, что представления о «своих» и «других», зафиксированные в Повести временных лет, являются целостным проявлением некоего «этнографического» набора имплицитных и изменчивых, образов «себя» и «другого», существующего в специфической картине мира и определяемого рядом исторических, политических и идеологических обстоятельствами, в которых они сформировались и существуют. В связи с этим вектор исследования направлен на то, чтобы сквозь эти представления обнаружить актуализируемые в них специфические черты формирующей их культуры. При этом, исследование направлено не только и не столько на обнаружение содержательных аспектов отличения летописцами «себя» от всех прочих (например, таких формальных признаков идентичности, как вера, язык, родство и т.п.), сколько на выявление самих стратегий, логики соотнесения «себя» и «их». Нас будет интересовать не то, в каких конкретных образах «не мы» представляются (и противопоставляются) летописным «нам», а на то, каким образом понятия о «себе» и «прочих» конструируются летописцами.
Известные методологические основания для подобного исследования дают выводы, к которым пришел Н.И. Толстой, изучавший вопросы
этнического самосознания создателей Повести временных лет. Ввиду особой важности этих положений, приведем их целиком: «этническое самосознание Нестора Летописца следует рассматривать как довольно сложную и цельную систему, состоящую из иерархически упорядоченных компонентов. Каждый компонент в отдельности обнаруживается в биографии автора "Повести временных лет". Автор был христианином, и этим определялся весь его жизненный подвиг, славянином, полянином, так как Киево-Печерский монастырь был духовным центром полян и Русской земли. Русская земля была его страной, государством, а киевские князья были его князьями. Изъятие из этой системы-лестницы хотя бы одного компонента нарушило бы общую картину и значительно изменило бы ее. У Нестора Летописца было религиозное сознание (христианское), общеплеменное (славянское), частноплеменное (полянское) и сознание государственное (причастность к Русской земле). Среднеплеменное сознание его — русское — еще созревало и не занимало ключевой, доминирующей позиции.
Таким образом, для характеристики славянского самосознания IX — XII вв. можно предложить условную парадигму или сетку-модель со следующими компонентами-показателями:
Религиозный показатель: христианин — язычник;
Общеплеменной показатель: славянин — не славянин;
Среднеплеменной показатель: лях — не лях;
Частноплеменной показатель: мазовшанин — не мазовшанин;
Государственный показатель: поляк — не поляк.
Парадигма эта гетерогенная, так как гомогенны только племенные показатели (обще-, средне- и частноплеменные), а религиозный и государственный показатели являются как бы привнесенными, дополнительными к родовому древу. Они — как бы небо и земля для этого древа, если подобная метафора допустима и удачна. Поэтому государственный показатель—не низший, а как бы привнесенный извне. В процессе исторического развития тот или иной показатель (или даже два и более показателя) становится доминантным, и эта
смена доминант и их взаимного соположения характерна для истории и развития национального самосознания каждого славянского народа. В эпоху Нестора Летописца среднеплеменной показатель (русин) для его народа лишь вырисовывался, формировался; впоследствии он занимал доминирующее положение. Можно предположить, что со времен Нестора Летописца и до наших дней общеплеменной показатель (славяне) никогда не был доминирующим, всегда был сопутствующим или даже в отдельных славянских регионах отсутствовал. Однако, если вспомнить о польском сарматизме XVI века, хорватском иллиризме того же XVI века и южнославянском иллиризме XIX века, такое утверждение может оказаться сомнительным»31.
Несмотря на то, что некоторые из элементов предложенной «сетки» являются спорными, представление об «этническом» сознании летописца как цельной и сложной системе может быть взято за основу — как рабочая гипотеза — при анализе представлений о «своих» и «чужих» на материале, который и послужил основой для вывода Н.И. Толстого.
Принято считать, что универсальным принципом формирования понятий о «себе» и о «другом» является явное или скрытое сравнение — противоположение «себя» и «другого», вне которого оба понятия вообще не могут сложиться. Нет «я» без «другого» (ср. мысль о формировании представлений о «них» как основе формирования представления о «нас» в процитированном фрагменте из исследования Б.Ф. Поршнева). Восходя к трудам Ж. Лакана (но преобразуя в себе и влияние других мыслителей весьма разных направлений — достаточно упомянуть Ж. Бодрияра и М. Бахтина), эта точка зрения превратилась в презумпцию, в «общее место», когда названный принцип, не подвергаясь специальному рассмотрению, ad hoc переносится из сферы психологии и современного европейского (по своим общим ориентациям) мыслительного пространства в область межкультурных контактов вне зависимости от культуры, реагирующей на эти контакты, уровня, на котором они происходят, и их исторического контекста (парадоксально, но
внимание к исторической изменчивости не включило в себя допущения об изменчивости самого этого принципа).
Рассматривая культурные стратегии конструирования «своих» и «других» в летописных текстах, я хотела бы выяснить, не оказывается ли фундаментальная противоположенность между «мы» и «они» по-иному осознанной в этой сфере изучаемой культуры, по-иному ею опосредованной, следующей иной логике их соотнесения, чем прямое сравнение, — и, тем самым, иной логике формирования самих понятий «мы» и «они» в области понимания «другого». Это позволит поставить вопрос и о пределах осознания инаковости в изучаемой культуре. Такой подход лежит в иной плоскости, нежели предложенная Ц. Тодоровым «типология отношения к другому», в которой он различает три взаимонезависимых «плана»: 1) аксиологический, определяемый отношением «любить»; 2) праксиологический, основывающийся на отношении «подчинять» и 3) эпистемический, базирующийся на том, чтобы «знать» . Эта типология разработана в пространстве современного европейского восприятия «другого», рассматриваемого как отношения власти и присвоения. При моем подходе эти планы оказываются взаимоувязанными.
Учитывая изменения, произошедшие в последнее время в подходах к изучению иных культур, хотелось бы в то же время наметить связующее пространство, которое, оставляя возможность для разнородности взглядов и исторической изменчивости отношения к «своим» и «чужим», и не детерминируя все без исключения сферы и уровни общественной жизни, придает этому разнообразию некоторое культурное единство. Основой для этого могут послужить дискуссии между А.Я. Гуревичем, Л.М. Баткиныи и А.Л. Юргановым33, а также труды Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского34.
Особый интерес представляет дискуссия, которая развернулась вокруг методики выявления «чужих» категорий культуры. В свое время, после выхода в свет знаменитого труда А.Я. Гуревича «Категории средневековой культуры» , Л.М. Баткин обратил внимание на «источник», «откуда А.Я. взял сам набор "категорий", посредством которых он организовал материал, очертил
средневековую "картину мира"». По его мнению, эта «сетка координат слишком общих, внеисторических, вездесущих. И очень... наших. Несмотря на самоочевидную фундаментальность или именно благодаря ей, современный историк находи эти понятия в готовом виде в собственной голове — и накладывает извне на чужую культуру». Вместо такого подхода Л.М. Баткин предлагал «искать ключевые слова-понятия внутри умственного состава изучаемой культуры» 36. Впрочем, А.Я. Гуревич не скрывал и не отрицал, что «выбор именно таких тем для изучения на средневековом материале был в конечном счете в немалой мере навязан... определенным взглядом на общество, к которому я принадлежу». В то же время, подчеркивал он, «категории культуры, которые были выбраны для характеристики средневековья, по своей сути фундаментальны и всеобщи, и о них можно вопрошать любую культуру». «Мало этого, — добавлял А.Я. Гуревич, ссылаясь в частности на речи немецкого проповедника XIII в. Бертольда, — со временем я имел возможность убедиться, что выбор аспектов средневековой культуры в "Категориях" далеко не случаен, ибо находит свое соответствие в самосознании изучаемой эпохи. ...То, что я наметил для изучения те самые темы, которые семью столетиями ранее вычленил для проповеди немецкий францисканец, на мой взгляд, служит доказательством правильности сделанного мною выбора, хотя выбор этот, как уже подчеркнуто выше, в немалой мере был подсказан состоянием современного общества» .
Сравнительно недавно в этот спор вмешался А.Л. Юрганов, который попытался «вывести» категории русской средневековой культуры («символические самоосновы» «самосознания и смыслополагания человека в обществе») «ниоткуда, кроме как из себя»38. Такой подход подкупает своей объективностью. Однако он же ставит ряд вопросов, без предварительного ответа на которые подобное исследование вряд ли возможно. Прежде всего, автор не прояснил, по каким критериям выделяется период, в пределах которого осуществляется поиск ключевых слов? В зависимости от границ и продолжительности периода, очевидно, будет меняться набор базовых «орудий
самосознания», подлежащих изучению. Во-вторых, встает проблема критериев
выделения самих слов-понятий. Даже составление тотального частотного
словаря для всех сохранившихся письменных памятников, видимо, не может
решить этой проблемы. Неясно, каков уровень репрезентативности уцелевших
текстов для культуры своего времени. К тому же, наиболее существенные
понятия подчас не «озвучиваются» современниками, прямо или косвенно
табуируются обществом как раз в силу своей социальной значимости. В-
третьих, перед исследователем все равно встает задача «перевода» этих
понятий на свой, актуальный язык, перекодировки ключевых слов. Без этого
ученый рискует настолько глубоко «включиться» в материал, что восприятие
читателями такого исследования станет столь же проблематичным, как и
прочтение исходных текстов. Именно поэтому на практике эта попытка
обернулась сведением «средневековых» категорий культуры к актуальному
понятийно-категориальному аппарату современных историко-
культурологических исследований. Показательно в этом отношении, что, несмотря на стремление автора оперировать «родными» для русского средневековья категориями, сам он вынужден определить проблематику, скажем, второй главы своего труда («"Благословить" или "пожаловать"») следующим образом: «Как, при каких обстоятельствах сложились отношения власти и собственности?»*9.
Понимание культуры, которое сложилось в современной отечественной культурологии, ориентируется, пожалуй, более на герменевтику, нежели на антропологию, и концентрирует внимание на исследовании текстов, циркулирующих внутри изучаемого общества, а не на исследовательских интервью. Обращаясь к рассмотрению не только (и даже не столько) системы понятий, характеризирующих «своих» и «чужих» или «других», но и самих процедур формирования их значения, попытаемся увидеть культурную специфику (но не исключительность) как способ полагания смысла 40. С этой целью в работе сопоставляются концептуально различные формы репрезентации «своих» и «чужих» в Повести временных лет, обнаруживающие,
судя по всему, общую для них логику — особую, т.н. абсолютизирующую, модель конструирования «своих» и «чужих». Такой подход позволяет перейти от изучения статичного «образа другого» к самой динамике понимания «другого», вместе с тем видя эту динамику не только как внешнюю изменчивость отношений, но как само движение мысли в ходе их выработки.
Вместе с тем, реконструируемая «абсолютизирующая модель» конструирования летописцем «другого» понимается мною как существенная характеристика одной из сфер изучаемой культуры в ее исторической специфике. При таком подходе выявление этой специфики направлено, прежде всего, на решение проблем понимания его нами и не служит превращению «другого» в «присваиваемого» нами «чужого» (что характерно для подавляющего большинства работ, затрагивающих представления о «своих» и «чужих»).
Именно поэтому в своем исследовании я, с одной стороны, основывалась на тех понятиях, которые нашли воплощение в «терминах», которыми пользовались сами летописцы, а с другой, — искала пути верифицируемого понимания и адекватного описания этих понятий в категориях современной истории, этнологии, религиоведения и, естественно, культурологии.
При этом комплексно использовались различные методы исследования.
Прежде всего, на базе тотального текстологического анализа сохранившихся списков летописей выявлялись все фрагменты текстов, содержащих «этническую» информацию. Контент-анализ этих фрагментов позволяет выявить не только наиболее широко используемые «этнические» «термины» летописца, но и определить их лексико-семантические поля, используя методику Л.М. Брагиной41, а также элементы лингвистической герменевтики, разработанной A.M. Камчатновым42. При этом учитывалась специфика используемого в исследовании материала. В частности, как известно, методика Брагиной создавалась и апробировалась на основе анализа гуманистических трактатов по этике — с их схоластически четкой терминологией и строгой организацией мысли. Камчатнов же работал с
древнерусским переводом Нового Завета, отличающийся определенной
устойчивостью не только содержания и смысла, но и языка. Язык же
древнерусских летописей отличается принципиальной
«нетерминологичностью»43, что заставляет вносить определенные коррективы в используемые нами методики.
Кроме того, мы используем отдельные подходы и приемы, которые на лингвистическом материале апробированы А. Вежбицкой, изучающей культурные концепты на основании анализа ключевых слов и проводящей кросскультурные исследования через посредство лексики и прагматики . При этом мы не касаемся вопроса о возможности разработки универсального метаязыка, с помощью которого можно описать любой из рассматриваемых концептов. В то же время невозможно не отметить определенной близости подходов А. Вежбицкой и Л.М. Брагиной.
Каждый из привлекаемых текстов исследуется в следующих аспектах. Прежде всего, это рассмотрение анализируемого произведения с точки зрения его центонно-парафразной структуры, которое имеет целью выявить его составляющие элементы: традиционные мотивы-топосы, явные и скрытые цитаты (устойчивые формулы), приемы композиции и т.п. На этой основе выясняется их значение, смысл используемых образов, придаваемый им внутри культуры, а не презумпциями исследователя. Во-вторых, это анализ каждого из текстов в его целостности, который направлен на выявление характера и степени переосмысления этих значений в контексте рассматриваемых в летописи проблем, а также концептуальных ассоциаций с предшествующей интеллектуальной традицией. В совокупности это позволяет исследовать дискурсивные стратегии, определяющие строение каждого из анализируемых текстов, и именно на этой основе выявить логику соотнесения в них понятий «мы» («наши») и «они» («иные», «другие», «чужие») и определить содержание этих понятий. Такие дискурсивные стратегии достаточно отчетливо проявляются в летописных статьях, что и определяет их важность как источников.
Тем самым, применяемые методы анализа сочетают историко-культурное рассмотрение каждого из текстов как аргументированной идейной концепции и литературоведческие приемы, которые, однако, призваны служить не собственно литературоведческим задачам (скажем, оценке понимания художественности или поэтики текстов как таковой), а выявлению понятийных конфигураций, определяющих смысл изучаемых представлений. Сопоставление результатов анализа каждого из текстов позволит, с одной стороны, обнаружить суть различий в концепциях отношения к «своим» и «чужим», предлагаемых в них, с другой — выявить степень общности внутренней логики этих концепций.
Целью данной работы является выявления смысла противопоставления «своих» и «чужих» в Повести временных лет. В частности, предстоит выяснить, насколько нынешние представления о «национальном самосознании» древнерусских летописцев адекватны тем представлениям, которые традиционно соотносятся с ними.
Для достижения этой цели предстоит решить ряд задач: 1) проанализировать «внешние» критерии разделения племен и народов, о которых идет речь в летописи, на «своих» и «чужих»; 2) рассмотреть основные группы тех «этносов», которые летописец рассматривает как «чужих»; 3) выяснить, кто являлись «своими» для создателей Повести временных лет и, наконец, 4) установить, можно ли выделить группы людей, которые для летописцев были «иными» или «другими» — не вполне «чужими», но и не «своими».
Научная новизна работы определяется:
избранным подходом к изучению представлений о себе и о «другом» (изучается не статический «образ-мы» или «образ другого», а динамика их «конструирования» как способ полагания смысла);
недостаточной изученностью представлений человека Древней Руси о соседних племенах и народах за пределами собственно политических и этнических аспектов;
практической неизученностью логики отношений жителей Древней Руси друг к другу и к окружающим народам;
новой интерпретацией избранных в качестве источников текстов на основе описанного подхода.
Научно-практическая значимость. Данное исследование позволит релятивизировать научные представления о способах восприятия «своих» и «чужих», сложившиеся на базе традиционного изучения летописных текстов, и может стимулировать подобную постановку вопроса в дальнейшем, в частности разработку новых интерпретаций истории как внутренних, так и международных отношений Древней Руси. Полученные результаты могут найти практическое применение в учебных курсах по истории культуры Древней Руси, истории православия, в спецкурсах по культурологическим проблемам восприятия «другого», а также в разработке стратегий изучения исторических источников по истории Древней Руси.
В соответствии с целью и задачами работы, исследование состоит из введения, двух глав и заключения, а также списка использованных источников и литературы.
«Сыны Измайловы»
Прежде всего, обратимся к анализу семантики «этнических» указаний Повести временных лет, которые могут расцениваться как описания «чужих» (или, в более мягкой форме, «других» и «иных»).
Всего в Повести встречается 94 «этнонима», упоминающихся около 785 раз: агаряне, амазоне, амонитяне, анъгляне, берендеичи, болгаре (в том числе, дунайские, чернии и волжские), бужане, варязи, велыняне, венъдици, весь, волохи, врахманеи, вятичи, галичане, гилии, гляди, греци, гъте, древляне, дреговичи, дулебы, евреи, еюптяне, жидове, зарубе, зимегола, измаилътяне, израиль, касогы, козаре, корлязи, корсъ, кривичи, ктириане, кумани, латыне, либъ, литва, лутичи, ляхове, мадимьяне, мазовшане, меря, моавитяне, морава, моръдва, мурома, нарци, норова, немци, обре, огаряны, пермь, печенези, печера, половци, полочане, поляне (русские и польские), поморяне, пруси, радимичи, римляне, самоядъ, свей, серебь, сирии, скуфы, Великая Скуфь, словене (в том числе, новгородские), срацини, северяне, теверьци, торкы, тортмени, угра, угры, уличи, урмане, фрягове, халдеи, хвалисы, хорутане, храваты, хровате белии, храваты, чеси, чюдь (в том числе, заволочская), черемиси, ямь, ясы и, наконец, ятвяги.
Поскольку многие из них единичны и не дают достаточных оснований, чтобы сделать заключение об отношении к ним летописца, для исследования были отобраны только те, которые имеют достаточно выраженную (прямо или косвенно) аксиологическую окраску. К числу таких упоминаний относятся, прежде всего, те кочевые народы, которые характеризуются как «сыны Измайловы» (или «безбожные сыны Измайловы»: торкмены, печенеги, торки и половцы), а также некие болгары и хвалисы, которые получают под пером летописца специфические образные характеристики, сравниваясь, соответственно, с «моавитянами» и «амонитянами».
Итак, попытаемся уточнить, что имеет в виду летописец, характеризуя каждый из этих «этносов». 1. «Сыны Измайловы» Прежде всего, проанализируем упоминания и характеристики, которые летописец дает «сынам Измайловым». В Повести временных лет они упоминаются четырежды, в следующих случаях:
Сам образ Измаильтян восходит к Ветхому Завету. В Книге Бытия под этим именем упоминается «великий народ» — потомки Измаила50, 12 сыновей которого стали князьями народа или племен Измаильских (или Аравийских)51. Согласно Библии, сыновья Измаила первоначально жили к востоку от Египта, по направлению к Ассирии. Впоследствии они расселились по более обширной территории. Измаильтяне неоднократно упоминаются в Св. Писании. В
Вставл. из И пат. сп. частности, именно Измаильтяне — которые в данном случае называются также купцами Мадиамскими52 или Мадианитянами 53— купили Иосифа Прекрасного у его братьев и перепродали его в Египет. Согласно Корану, из рода Измаила происходил пророк Мухаммед. Православная традиция считает, что в свое время Измаильтяне впали в глубокое идолопоклонство, что роднит их с библейскими же Аммонитянами, Моавитянами и Едомлянами (ср.: четвертый из приведенных выше фрагментов Повести с упоминанием Измаильтян). Считается, что, даже принимая ислам, иудаизм или христианство, Измаильтяне продолжают сохранять множество языческих обрядов и обычаев.
Однако образ летописных Измаильтян не восходит непосредственно к библейским текстам. Он опирается, судя по прямой летописной отсылке, на «Откровение» Мефодия Патарского.
В статье 6604 (1096) года в рассказе о нашествии половцев и нападении их на Киево-Печерский монастырь, между двумя последними из приведенным нами выше фрагментами с упоминаниями Измаильтян, содержится следующее уточнение: «Мефодии же свидетельствуете о нихъ, яко 8 колНЫъ проыкгли суть, ЄГДА ИСЄЧЄ Гедеонъ, ДА 8 их1 ЕЄЖА в пустыню, А 4 исЪче»54. В целом же летописное рассуждение о восточных народах («ТоркменАХ», «Торклх», «Пеменеглх», «ПОЛОВЦАХ», «ХВАЛИСАХ» и «БолгАрлх»), — одно из многочисленных «темных мест» Повести временных лет, которое я бы хотела прояснить.
«Мы» и «наши»
Теперь рассмотрим вопрос о том, как летописец воспринимал себя, «своих» и другие «народы», которые он, если и не считал «своими», то, во всяком случае, не воспринимал их как «чужих», а лишь как «иных» или (в более жесткой форме) как «других».
Проанализируем, прежде всего, фрагменты Повести временных лет с «открытыми» определениями «мы» и «наши». По словам И.В. Ведюшкиной, «в медиевистике анализ употребления местоимений "мы" и "наш" западноевропейскими средневековыми хронистами — прием достаточно традиционный. В русистике же он, в силу ряда обстоятельств, естественным образом сужающих возможную сферу его применения, не получил широкого распространения»159. В то же время за последнее время в отечественной историографии появился ряд работ, посвященных анализу проявлений «чувства-Мы» в раннем летописании160. Косвенно на эту проблему выходит и вопрос о самоидентификации летописца как жителя некоей Руской или Русъскои земли, а также определение «своих» как руских или русьских и тому подобных дефиниций161. Наконец, заметное место в разработке указанной проблемы занимают работы, в которых анализируются упоминания «не вполне своих народов» . По определению А.С. Демина, «можно полагать, что в "Повести временных лет", особенно в первой ее половине, летописец начала XII в. смотрел на мир прошлого как на мир, полный достопримечательностей и загадок и почти совершенно не "чужой", хотя и со множеством "не своих" этносов. Летописец выражал деятельное, не чувствующее преград, оптимистическое мироощущение и, в сущности, продожал жить настроениями XI в. Горькое же деление народов на "своих" и "чужих" возникло совсем недавно и касалось только современности сначала у составителя "Начального свода", а вскоре и у Нестора». И далее: «У Козьмы [Пражского, в отличие от Нестора Летописца,] преобладала острота ощущения чуждости соседних этносов, а переходы между "своими" и "чужими", градации "нашего" и "не своего" в "Чешкой хронике", в отличие от "Повести временных лет", почти не были выражены. Психологически, наверно, позволительно проводить аналогию между ментальностью средневековых славянских авторов-современников и душевной позицией родственников разных возрастов в составе одной большой семьи. Нестор и Козьма Пражский кажутся как бы двоюродными братьями, но первый еще сохранил детскую или отроческую гармоничность и ласковость мировосприятия, а второй уже приобрел юношескую резкость взглядов»163. Такой вывод, в частности, основывался на таком критерии, как способность разгадывать представителями того или иного летописного «этноса» загадки, которые загадываются «своими» персонажами164.
«Мы» и «наши» Слово «лш» упоминается в Повести временных лет всего 197 раз165, а притяжательное местоимение «НАШЬ» («НАШИ») — 120166. В подавляющем большинстве случаев это — «прямая» речь, которую летописец вкладывает в уста своих персонажей, либо текст вставных документов (по словам И.В. Ведюшкиной, «все термины самоидентификации в составе тех фрагментов летописного текста, которые самим летописцем оформлены как «чужая речь» — прямая речь персонажей, цитаты со ссылками на источники, «вставные» тексты документов (договоры с греками) и т. п.»). Такие упоминания требуют особого подхода и специфической методики обработки. Все подобные случаи из рассмотрения нами исключались, поскольку они не могут служить в качестве непосредственного «этнического» (или какого-либо другого) определителя. Мысль же И.В. Ведюшкиной о том, что эта группа терминов самоидентификации может нести существенную информацию по поводу интересующих нас вопросов, но требует разработки особых «способов интерпретации», которые «каждый раз должны быть оговорены»167, представляется вполне основательной. Однако ни сама исследовательница, ни кто-либо из ее коллег, занимающихся интересующей нас проблемой, пока не смог предложить таких методов. Некоторое исключение, на наш взгляд, представляет методика анализа текстов, построенных по центонно-парафразному принципу168. Возможности и перспективы использования такого подхода для рассмотрения проблемы «своих» и «чужих» в летописных текстах будут рассмотрены нами на конкретных примерах. Однако надежных, верифицируемых методов, дающих результаты, не вызывающие серьезных сомнений, мы пока предложить не можем.
В тех же редких случаях, когда местоимение первого лица явно исходит от самого летописца, его содержание явно не носит «патриотического» оттенка, — вопреки утверждению Д.С. Лихачева о «всепроникающем патриотизме» русских летописей169.
«Не свои» — «иные» — «другие»
Перейдем теперь к анализу внешне нейтральных слов, обычно выпадающих из сферы внимания исследователей, занимающихся проблемами древнерусского «этнического самосознания», но имеющих, как оказалось, непосредственное отношение к теме нашего исследования. Речь идет о словах «люди», «людьє», «чєловєки» и связанных с ними лексемы «племя» и «язык».
Дифференциация значений подобной «терминологии» и нюансировка их смыслов возможна лишь при наличии текстов, для которых не только значения, но и смыслы достаточно ясны. Это должны быть «открытые», «прозрачные» тексты211. Оптимальными в этом отношении (по крайней мере, для древнерусских и западноевропейских средневековых источников) представляются Священное Писание и другие сакральные тексты, являющиеся семантическим арсеналом образов и сюжетов, лексики и фразеологии едва ли не для всей средневековой литературы. Мало того, именно Священное Писание, выполняющее одни и те же функции во всем христианском мире, и имеющее один и тот же базовый канонический текст (за исключением тех библейских книг, каноничность которых оспаривается в соперничающих христианских конфессиях), как будто нарочно приспособлено для того, чтобы проводить компаративные исследования. Следует, однако, учитывать, что не все библейские книги имели одинаковое распространение и были одинаково «популярны». Конечно, желательно начинать анализ с наиболее распространенных текстов. Одним из них, несомненно, является широко использовавшаяся и использующаяся до нашего времени Псалтирь: по подсчетам И.Е. Евсеева, сохранилось до 4 тысяч ее славянских списков XI— XVIII вв.212 Правда, при такой обширной рукописной традиции можно было бы предполагать значительный диапазон варьирования текста (скажем, синонимических замен одних слов другими). Это тем более вероятно, что, как отмечала одна из самых авторитетных специалистов в области изучения древнерусских сакральных текстов, Л.П. Жуковская, разночтения между богослужебными и «четьими» библейскими книгами в славянских переводах были «велики, многочисленны и разнообразны» . Однако, как показали недавние исследования А.А. Алексеева, именно текст Псалтири оказывается наиболее стабильным из всех славянских текстов Священного Писания214. Показательно, что в Геннадиевской Библии 1499 г. Псалтирь представлена в наиболее раннем кирилло-мефодиевском переводе .
В этой связи интересно проследить, какие лексические соответствия дает Псалтирь Геннадиевской Библии современным этническим терминам, зафиксированным в синодальном переводе Библии.
В современном переводе Псалтири чаще всего употребляется слово «народ» (150 упоминаний ). Кроме того, в качестве «этнических» обозначений здесь используются слова: «племя» (16 упоминаний217, из них 14 — в одном стихе со словом «народ»), «иноплеменник» (6 упоминаний218, в том числе 2 — в сочетании со словом «народ»). В качестве условно этнического, видимо, можно также рассматривать слово «язычник» (10 упоминаний219, в том числе дважды по соседству со словом «народ» и один раз со словом «племя»: «племена язычников»220).