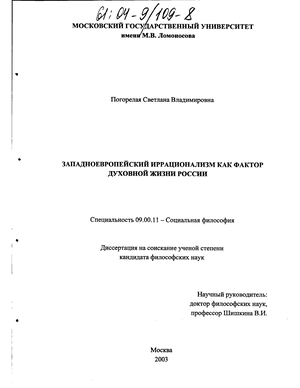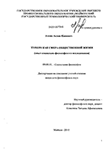Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Модификация идей западноевропейского иррационализма в русской культуре начала XX века с. 10.
1.1. Западноевропейский иррационализм и место в нем Ф. Ницше с.10.
1.2. Фридрих Ницше в русской культуре начала XX столетия с.29.
1.3. Воздействие учения Ницше на теорию и практику русского символизма начала XX века с.56.
Глава 2. Воздействие идей Ницше на творчество композитора-символиста А.Н. Скрябина с.95.
2.1. Ницшеанские черты мировоззрения и мироощущения А.Н. Скрябина. с.95.
2.2. Модификация идей Ф. Ницше в творчестве А.Н. Скрябина с. 139.
Заключение с. 172.
Библиография с. 178.
- Западноевропейский иррационализм и место в нем Ф. Ницше
- Воздействие учения Ницше на теорию и практику русского символизма начала XX века
- Ницшеанские черты мировоззрения и мироощущения А.Н. Скрябина.
Введение к работе
Актуальность темы исследования. С конца 80-х годов XX века возник и усиливается интерес к проблеме «пересечения» культур и их взаимного влияния. Взаимодействие и взаимообогащение культур - универсальный закон, действующий на всем протяжении «сознательного» существования человека. В «рубежные», переломные эпохи, обычно сопряженные с расшатыванием общественных устоев, со сменой духовных ориентиров, с «переоценкой ценностей», взаимодействие различных культур, различных типов ментальносте осуществляется наиболее активно. Зачастую процесс освоения и усвоения «чужого» духовного опыта протекает параллельно с поисками «национальной идентичности»; познавая другие культуры, обогащают собственную культуру и знание о ней.
Ярким примером подобного пересечения путей европейской и отечественной мысли является трансформация в русской культуре начала XX века духовного опыта западноевропейского иррационализма. Как известно, тенденция к обузданию «чрезмерных притязаний» рационализма существовала со времен античности и проявляла себя неоднократно. Периодически она находила воплощение в более или менее законченных учениях, выдвигавших на первый план «вне-разумные» познавательные способности человека -интуицию, инстинкт, непосредственное созерцание, веру (как особый вид нерационального познания), откровение, озарение, воображение, особым образом истолкованные «чувства». Чаще всего подобные учения появлялись именно в переходные, «кризисные» эпохи, в противовес сциентизму и рационализму предшествующих временных периодов. К таким эпохам относятся и эпоха романтизма, по отношению к которой можно говорить об окончательном оформлении иррационализма как миросозерцания, о кристаллизации его в качестве целого философского направления, и рубеж ХІХ-ХХ веков, когда иррационализм набирает все больший размах и, наконец, наше время, как и другие переломные эпохи характеризующееся активизацией иррационалистической тенденции и повышенным интересом к
инонациональным культурам. В связи с этим возникает необходимость углубленного анализа иррационализма, как самого общего источника иррационалистических тенденций в различных сферах духовной жизни современного общества, как важной составляющей современного искусства и культуры.
Для России символом философского иррационализма была и остается философия Фридриха Ницше. Понять характер «переломных» моментов в отечественной культуре, не исследуя проблему воздействия на русскую культуру Серебряного века его учения, не представляется возможным. В начале XX столетия идеи немецкого мыслителя приобрели большую популярность в России. Некоторые культурные, религиозные, общественно-политические движения испытали тогда самое непосредственное их воздействие. Имя Ницше стало «своим» для богостроителей, представителей аналитической школы языка, экзистенциалистов и психоаналитиков, деятелей модерна и постмодернистов. Через ницшеанский период творчества прошло немало известных литераторов, музыкантов, деятелей театра.1 Исследователи говорят даже об «особом, связанном с осмыслением духовного наследия Ницше, пласте отечественной культуры», охватывающем последнюю декаду XIX столетия и полтора десятилетия между началом XX века и Первой мировой войной.
В настоящее время после значительного перерыва, объясняемого причинами идеологического характера, сочинения Ницше вновь стали достоянием широкой читающей публики и предметом изучения специалистов. Однако в обществе в достаточной мере сохраняется неприязненное отношение к мыслителю, как к «имморалисту», волюнтаристу и сокрушителю идеалов, которое мешает по достоинству оценить его значение, как философа культуры, тонкого знатока и теоретика искусства, оказавшего существенное влияние на характер исканий деятелей Серебряного века, наконец, как мыслителя, чьи идеи дали мощный импульс движению русского религиозного ренессанса начала XX
1 Идеи мыслителя нашли отражение в творчестве B.C. Соловьева, В. Розанова, Вяч. Иванова,
А. Белого, А. Блока, Н. Бердяева, Л. Шестова, 3. Гиппиус, Д. Мережковского, Вс. Мейерхольда,
М. Горького, А.Н. Скрябина и других выдающихся деятелей культуры этого времени.
2 Синеокая Ю.В. Философия Ф. Ницше в России (конец XIX - начало XX веков). - M., 1996, с. 3.
века. В связи с этим необходим объективный анализ наследия Ницше и определение роли его идей в формировании культурных процессов последнего столетия, имеющих огромное значение для современной эпохи и продолжение в ней.
Степень разработанности проблемы. Тема воздействия европейского иррационализма на русскую философскую мысль остается пока сравнительно малоизученной в отечественной науке. Проблема философского иррационализма как такового, вопрос о соотношении рационального и иррационального в философии представлены в работах Н.С. Автономовой, П.С. Гуревича, Ю.Н. Давыдова, Т.Ю. Жихаревой, И.Т. Касавина, В.Н. Катасонова, П.В. Копнина, В.А. Лекторского, Н.С. Мудрагей, Т.И. Ойзермана,3 В.Н. Поруса, М.А. Розова, О.В. Суворова, B.C. Швырева, Д.А. Яковлева. Специфике иррационализма отдельных представителей западноевропейской и русской философии посвящены труды О. Д. Волкогоновой, П.П. Гайденко, А.В. Гулыги, Т. А. Кузьминой, А.Г. Кутлунина, А.Ф. Лосева, М.А Малышева, А.А. Лавровой, В.М. Мазурова, С.Ф. Одуева, Я.А. Слинина, Е.Н. Трубецкого, Л. Шестова, СИ. Шитова и других авторов. Наконец, проблема бытования различных иррационалистических западноевропейских идей и учений на русской почве, тема взаимодействия европейской и отечественной культур освещается в работах С.Н. Артановского, А. А. Гозенпуда, Р.Ю. Данилевского, В.В. Десятова, В.К. Кантора, И.В. Кондакова, Ю.В. Корж, М.Ю. Кореневой, М. Михайлова, Н.В. Мотрошиловой, В.М. Паперного, В.Р. Рыбкина, Ю.В. Синеокой, A.M. Эткинда.
Среди посвященных проблеме соотношения рационального и иррационального работ зарубежных авторов следует выделить исследования Ж. Деррида, Б. Рассела, Э. Фромма, М. Фуко, К. Хюбнера, К.Г. Юнга, К. Ясперса.
3 В советское время создавалось очень мало трудов, посвященных феномену философского иррационализма, исключение составляют работы Ю.Н. Давыдова, А. Карапетяна, П. Кроссера, Т.И. Ойзермана и др., в которых иррационализм традиционно рассматривался как «болезнь Запада», результат накопившихся в системе капиталистического общества противоречий.
Однако, насколько известно, не существует сколько-нибудь полного исследования, проецирующего основные иррационалистические идеи европейской философии на духовную культуру России начала XX столетия. Практически не исследованной остается также проблема влияния западноевропейского иррационализма (в том числе, идей Ф. Ницше4) на формирование одного из наиболее ярких явлений культурной жизни XX века, а именно - на теорию и практику русского символизма. Данное исследование призвано хотя бы отчасти восполнить этот пробел.
Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью исследования является анализ трансформации иррационалистических идей западноевропейской философии в отечественной культуре (на примере философской мысли и искусства начала XX века).
Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи исследования:
проанализировать генезис философского иррационализма, его основные «мыслительные структуры»; выявить общие и особенные черты иррационализма XVIII - начала XIX веков и более «зрелого» - конца XIX века, в качестве «философии жизни» и других иррационалистических учений оказавшего наиболее существенное влияние на отечественную философскую мысль, искусство, культуру последнего столетия;
выявить связь иррационалистической тенденции европейской и русской философии с различными формами социальной нестабильности, с кризисными явлениями общественной жизни;
- определить причины популярности, востребованности философии
Ницше в среде отечественной художественной интеллигенции на рубеже XIX-
XX веков; реконструировать духовный облик «русского», «символистского»
Ницше, проанализировав различные интерпретации воззрений немецкого
философа выдающимися мыслителями Серебряного века; очертить круг
4 Хотя в отечественной и западной литературе тема рецепции идей Ницше в русской культуре получила достаточно широкое освещение - см. № 9, 50-51, 74, 80, 141, 142, 148, 155-156, 188, 213, 216, 258, 274, 287, 333, 348,350-351, 364-365,371, 374, 376-378, 381 и др. в списке литературы.
ницшевских идеи, явившихся «источником и составной частью» символизма как литературной школы и миропонимания;
- на примере творчества Вяч. Иванова, А. Белого, А.Н. Скрябина показать
характер взаимодействия рационального и иррационального элементов в
русской художественной культуре;
- на примере творчества А.Н. Скрябина проследить трансформацию
философских (иррационалистических, в первую очередь, ницшевских) идей в
художественные образы, создаваемые композитором-философом.
Теоретико-методологическая база исследования. Методологической основой работы являются принцип социально-культурной обусловленности, принцип историзма, принцип системности. При разработке теоретико-методологической базы исследования автор опирался на фундаментальные исследования в области методологии науки и теории познания, социальной философии, теории культуры, эстетики (работы В.В. Иванова, М.С. Кагана, В.А. Лекторского, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, В.М. Межуева, Л.А. Микешиной, Э.А. Орловой, B.C. Швырева), философские труды по проблеме иррационализма. Исследование базируется на методе сравнительного анализа различных мировоззренческих ориентации. При постановке и решении основной проблемы диссертации в силу ее междисциплинарного статуса были использованы некоторые методологические принципы, характерные для эстетико-философского, сравнительно-исторического, контекстуального, текстологического методов исследования.
Научная новизна исследования:
в данной работе выявляется происхождение ряда иррационалистических идей западноевропейской философии и их трансформация в более поздних учениях; впервые рассматривается преемственная связь «ранний немецкий романтизм - философия жизни (Ницше) - русский символизм»;
указываются социальные причины «востребованности» учения Ницше в России в начале XX века;
очерчивается обширный круг явлений отечественной культуры, связанный с бытованием на русской почве идей Ф. Ницше; анализируется сложная, многоуровневая связь представителей отечественного символизма с учением немецкого философа; выявляются философские идеи Ницше, оказавшие наиболее сильное и долговременное влияние на развитие отечественной культуры XX века;
рассматриваются характерные формы воздействия идей Ницше на художественную культуру начала века в целом и на творчество отдельных художников (на примере А.Н. Скрябина);
подробно анализируются ницшеанские черты мировоззрения А.Н. Скрябина, выделяется целый ряд существенных моментов духовного «сродства» этих двух художников, не отраженных в исследованиях других авторов.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Усиление иррационалистических тенденций в отечественной
философии на рубеже XIX-XX веков является частью общего процесса
становления европейского иррационализма как философского направления,
набирающего все больший размах по мере приближения к XX веку.
Европейские иррационалистические учения (в том числе, философия Ф.
Ницше) оказали существенное влияние на характер русского
философствования и во многом определили пути развития отечественной
культуры. Востребованность учения Ницше в среде профессиональных
философов и среди художественной интеллигенции объясняется тем, что его
философия явилась как нельзя более отвечающей социальному и культурному
«запросу» времени, созвучной определяющим умонастроениям этой
переломной эпохи.
2. Творчество немецкого мыслителя оказало воздействие на становление
отечественного символизма, как литературной школы и миропонимания;
«артистическая метафизика» философа-художника определила направление
творческой деятельности многих представителей русского символизма.
Наиболее перспективными идеями философа для отечественного символизма начала XX века стали следующие:
а) идея принципиальной неповторимости, уникальности каждого
отдельного человека;5
б) идея развития человечества до качественно иного (сверх)уровня;
в) учение Ницше о дионисийском начале (из которого берет свое начало
символистское учение о стихийности и об иррациональном методе
проникновения в сущность вещей);
г) требование «переоценки всех ценностей».
3 Символистская идея мистерии, концепция синтеза искусств, представление о религиозном происхождении искусства, о его воспитующеи функции, в той или иной мере обусловлены влиянием Ницше. В обосновании общесимволистской идеи теургии6, в обосновании идеала абсолютного всеединства, антиномий «индивидуальное-соборное», «плотское-духовное», «рациональное-иррациональное», положения Ницше имели важное значение наряду с соловьевскими.
4. Проведенный анализ духовно-умственного и собственно музыкального творчества А.Н. Скрябина позволяет сделать вывод о влиянии философии Ницше на мировоззрение композитора; следствием увлечения композитора-философа творчеством философа-музыканта стали: моноидейность творчества Скрябина (определяемая мистериальной его направленностью и наличием у композитора универсального сверхобраза - экстаза); идея всеискусства (контрапунктирования искусств), идея преобразования жизни средствами искусства; индивидуализм, интуитивизм, эстетизм; «аристократический радикализм» как общая направленность философии Скрябина; пафос «борьбы и преодоления», темы воли, самоутверждения в его творчестве.
5 При этом уникальность понимается не как наличная данность, а как цель усилий личности, цель работы
человека над собой.
6 Преображения и просветления жизни с помощью божественной энергии Символа.
7 Возникновение символистской идеи мистерии связано с увлечением ницшевским «Происхождением трагедии
из духа музыки»; скрябинский сверхобраз также явно имеет ницшеанские истоки.
8 Подробнее см. гл. 2.2 данной работы.
Практическая и теоретическая значимость работы. Полученные результаты диссертационного исследования показывают перспективность целостного, системного подхода к изучению отечественной культуры, а также результативность анализа происходящих в ней духовных процессов в широком контексте общеевропейской культуры. Такой анализ помогает лучше понять сущность и значение ряда явлений отечественной культуры и одновременно позволяет по-новому взглянуть на многие аспекты творчества Ницше, что в принципе невозможно при изоляционистском подходе к изучению культур. Работа может стать основой для разработок новых комплексных, органичных подходов в области изучения русской культуры и взаимосвязи культур. Фактические материалы и выводы могут быть использованы в научных изысканиях и в процессе преподавания философских и культуроведческих дисциплин.
Апробация результатов работы. Основные идеи и выводы исследования излагались на Межвузовской научно-практической конференции «Взаимоотношение государства, науки и религии» (Владимир, 2000г.), Всероссийской научно-практической конференции «Запад и Восток: традиции, взаимодействия и новации» (Владимир, 1995г.), III Международной научной конференции «Запад и Восток: традиции, взаимодействие, новации» (Владимир, 2000г.), межрегиональной научно-практической конференции «Россия в XXI веке» (Владимир, 2001г.). По материалам выступлений изданы публикации.
Структура диссертации. Структура исследования определяется актуальностью и степенью разработанности проблематики, целью и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
Западноевропейский иррационализм и место в нем Ф. Ницше
Как известно, в широком смысле под иррационализмом понимают философские учения, ограничивающие, принижающие или отрицающие роль разума в познании, выдвигающие на первый план иные виды познавательных способностей человека - интуицию, инстинкт, непосредственное созерцание, веру (как особый вид нерационального познания), откровение, озарение, воображение, особым образом истолкованные «чувства». По аналогии с мистицизмом, который нередко рассматривается в литературе как еретическое отклонение от ортодоксальной христианской религиозности, неизменно полагающей разум важнейшим атрибутом Бога и считающей «трезвение» обязательным требованием подлинного благочестия,9 иррационализм можно понимать как некий род «ереси» в рамках западноевропейской философии, которая, начиная с греческой античности и вплоть до начала XX века, характеризовалась явным преобладанием рационалистической убежденности в том, что бытие имеет разумную основу. По мере секуляризации западного сознания, углублявшейся в процессе капиталистической «модернизации» Запада, иррационализм принимает на себя многие функции мистицизма: он становится формой светских «ересей», направленных против тех или иных основополагающих принципов западноевропейской культуры и культурной традиции, - мыслительных, нравственных, эстетических. В этом заключается одна из «общесоциологических» причин укрепления позиций иррационализма в XVIII веке и постепенной кристаллизации его в XIX столетии в качестве целого философского направления, которое набирает все больший размах по мере приближения к веку двадцатому, в котором увлечение иррационализмом достигает своего апогея.
Исторически первая форма иррационализма, скептицизм, представляет собой реакцию на многочисленные учения о рациональном познании мира, выдвигаемые античной философией. Британская энциклопедия выделяет также дионисийскую (инстинктивную) тенденцию в рационалистической культуре Древней Греции, как один их наиболее ранних примеров иррационализма. В средневековой схоластике иррационализм является философской основой мистицизма (концепции Бернарда Клервосского, И. Экхарта) - в пику рационализму античности, схоласты утверждают невозможность рационального познания Бога, но возможность его мистического созерцания. Начиная с Нового времени, иррационалистическая тенденция в полной мере проявляет себя в ряде концепций и школ, возникших как реакция на рационализм эпохи Просвещения, на позитивистский культ научного знания.10
В зависимости от того, реакцией на какую именно из форм рационализма они являются, иррационалистические учения можно условно разделить на несколько групп: 1) иррационализм как реакция на просветительский рационализм; 2) иррационализм как реакция на гегелевский рационализм и панлогизм; 3) иррационализм как реакция на естественнонаучный рационализм; 4) иррационализм как реакция на совокупность всех эти форм рационализма, вместе взятых.11
Предпосылки будущего иррационализма прослеживаются уже в учениях И. Канта и И.Г. Фихте, хотя ни то ни другое, разумеется, не являются иррационалистическими.
Одним из первых историков философии, поставивших вопрос об иррационалистическом течении в западноевропейской философии, был В. Виндельбанд. Он связывает возникновение иррационализма и его усиливающееся влияние с тем, что рационализм как способ познания не оправдал своих претензий на познание глубинных основ бытия. Иррационализм является своеобразной формой реакции на эту несостоятельность притязаний крупнейших рациональных систем немецкой идеалистической философии на «полное, без остатка растворение действительности в разуме». Не случайно в основу «альтернативных» рационализму учений кладется именно то, что «ускользает от рационалистического познания, представляется недоступным разложению на понятия и является несоизмеримым для разумного познания», - тот самый «остаток, перед которым терпит поражение познание из разума». В этом смысле иррационализм является «вторичным» образованием по отношению к рационализму, возникающим за счет гипертрофии того, что в каждой последовательной рационалистической системе выглядит как ее «предельное понятие».13 В зависимости от этих «предельных понятий» находятся соответствующие разновидности иррационализма.
К числу таких «предельных понятий» Виндельбанд относит, например, «вещь в себе» кантовской философии, превратившуюся впоследствии в один из отправных пунктов иррационалистических устремлений.14 У Фихте таким «предельным понятием» оказывается беспричинный, а потому и непостижимый «факт деятельности абсолютного «я», образующий «непроницаемую для рационального сознания основу всей действительности»;15 методом постижения этой последней мировой основы становится «интеллектуальная интуиция». Гегель, попытавшийся устранить это предельное понятие интеллектуальной интуиции, пришел к аналогичному «предельному понятию» в рамках своей системы.
Воздействие учения Ницше на теорию и практику русского символизма начала XX века
Как уже говорилось, одна из причин такого быстрого освоения и усвоения идей Ницше на русской почве заключается в близости философа романтической традиции, глубоко пережитой в России, ставшей родной для русской культуры.
Философия Ницше складывается в эпоху усиления наметившейся в XVIII веке и углубленной романтиками иррационалистической тенденции в европейской философии. Среди источников философии жизни Ницше традиционно называются ранний немецкий романтизм, натурфилософские воззрения Гете, иррационализм и волюнтаризм Шопенгауэра, теория музыкальной драмы позднего романтика Вагнера.133 Кульминационное положение Ницше в ряду романтических авторов объясняется своеобразным «максимализмом» философа; основные черты стиля, намеченные его романтическими предшественниками, доводятся у немецкого мыслителя до своего логического предела.
Но та же, в сущности, «укорененность» в романтической традиции отличает и творчество многих представителей отечественного модерна, в первую очередь - символистов. Несмотря на ряд различий во взглядах и пристрастиях отдельных представителей символизма, их объединяет общность мировосприятия, которое по своей сути («духу») не слишком отличается от мировосприятия ранних немецких романтиков и (нео-) романтиков других стран.134 Известно, что сами символисты признавали свою преемственную связь с немецкими романтиками, подчеркивая, что романтизм был ими воспринят опосредованно - через призму философии Ницше. Отмежевываясь от французских влияний, практически отрицая воздействие на русский символизм одноименного явления французской культуры, с которым его якобы объединяет только общее - греческое - название, А. Белый прямо говорит о родстве отечественного символизма с другим литературным направлением (и «школой жизни») - с немецким романтизмом. С ним русский символизм связан гораздо более тесно, хотя и «через medium Ницше», - пишет Белый, обозначая срединное положение немецкого философа между романтиками и символистами.
Следует подчеркнуть, что целый ряд идей, как то: идея синтеза искусств, идея главенства музыки среди прочих «форм искусства», представление о художнике, как о «высшем существе», причастном к тайному знанию и выступающем в роли «посредника», приобщающего к сокровенному всех «взыскующих духа», одушевление, сенсуализация познания и идеализация чувств, - действительно был услышан символистами именно от Ницше, минуя романтический первоисточник. По-видимому, превалирующее влияние немецкого «гения пафоса» объясняется, кроме всего прочего, стилевой близостью сочинений Ницше символистским: образность литературного языка мыслителя, зашифрованность (символическая форма), неисчерпаемая многозначность его мыслей и напряженно-суггестивный тон высказывания действительно приближают творчество Ницше к символистскому идеалу и позволяют в полной мере проявиться «сплачивающей природе символа».135
Попытаемся выявить «романтические» черты философии Ницше и проследить их трансформацию в творчестве отечественных символистов «второй волны».
1) Индивидуализм. Антропоцентризм. Принадлежащая романтикам идея человеческой уникальности, неповторимости, свободы оригинального развития таланта, неуничтожимости индивидуального начала в художнике, достигает у Ницше своего апогея. Действительный смысл человеческой жизни, смысл работы человека над самим собой (как в масштабах жизненного пути каждого отдельного человека, так и в масштабах «длительного отрезка существования рода человеческого») видится немецкому мыслителю в приближении сверхчеловеческого идеала «суверенного индивида, равного лишь самому себе», то есть в выработке автономного сверхнравственного (сверх)человеческого типа (ибо «автономность» и «нравственность», по Ницше, исключают друг друга) - «человека собственной независимой длительной воли, смеющей обещать», с «сознанием собственной мощи и свободы, чувством совершенства человека вообще», с собственным мерилом ценностей, с гордой осведомленностью об «исключительной привилегии ответственности», -антихриста и антинигилиста, «победителя Бога и Ничто».
Уже у романтиков человеческая сущность в ее идеальном варианте (всесторонне одаренный человек-творец, художник, гений) наделяется атрибутами божественности. У Ницше на место «старого Бога» ставится Сверхчеловек.
Из ницшевского учения о личности русский символизм заимствует, в основном, тезисы мыслителя о всестороннем развитии индивидуальностей, о самостоятельности в выборе путей, о настойчивом утверждении своей свободной «воли» (мировоззренческой, эстетической позиции, ценностных установок и т.д.). Одним из самых популярных в символистской среде становится следующий отрывок из «Заратустры»: «Плохо воздает учителю тот, кто навек остается только учеником. .. .Теперь заклинаю я вас меня потерять, а себя найти». Большое влияние на становление символизма как мироощущения оказал принципиальный активизм Ницше, выражающийся в остром чувстве своей причастности ко всему происходящему. При этом ницшевская проповедь брутального индивидуализма никогда не принималась символистами всерьез. Во многом символистская интерпретация Ницше объясняется тем, что он влиял на русскую культуру наряду с Соловьевым и даже отчасти «через Соловьева». Ницшевский образ Сверхчеловека, индивидуалистически преодолевающего нынешний мир и нынешних людей, идеал сильной личности, одержимой волей к власти, трактуется символистами в духе «всечеловека»138 B.C. Соловьева, как некая «соборная личность», стремящаяся к бесконечному совершенству.
Ницшеанские черты мировоззрения и мироощущения А.Н. Скрябина
Влияние творчества Ницше на теорию и практику отечественного символизма не ограничивается одной только сферой широко понимаемой «литературы». Однако, поскольку музыканты, скажем, приобщались к символизму главным образом через сюжеты, поэтические тексты, литературные программы и комментарии своих произведений, то «литературное» влияние можно считать основным.
Хотя воздействием символизма в разной степени отмечено творчество таких композиторов, как А. Александров, С. Василенко, М. Гнесин, Н. Мясковский, С. Рахманинов, В. Ребиков, А. Станчинский, Н. Черепнин, русские композиторы, в большинстве своем, соприкоснулись с символизмом косвенно и локально, в основном, на уровне стилизаторских тенденций, использования символистских стихов в романсовой лирике, обостренного интереса к истории (культурному прошлому, старине), к Востоку, общим для русской культуры начала века. Тем более показательно приобщение к Ницше единственного «законченного» символиста от музыки - крупнейшего русского композитора конца XIX - начала XX века А.Н. Скрябина.231 Выявлению этого весьма важного, на наш взгляд, влияния, затрагивающего многие аспекты творчества композитора, собственно, и посвящена II глава данной работы.
Как это нередко бывает, среди обилия литературы о Скрябине, в том числе и трудов, специально посвященных философии композитора, одна из самых очевидных и непосредственных связей долгое время оставалась в тени. Ситуация действительно парадоксальная: не найдется, наверное, ни одной книги о Скрябине, где не упоминалось бы имени Ницше, и не нашлось, однако, ни одного исследования, которое содержало бы более или менее подробный анализ «чревной» связи философии Скрябина с учением немецкого философа. Но, по-видимому, такое сильное и долговременное увлечение русского композитора творчеством Ницше вызвано не только актуальностью его философии, или тем более, «дерзкой модой», но и наличием определенных внутренних соответствий в мировоззрении и мирочувствии этих двух художников, в самом характере творческой одаренности музыканта, всю жизнь ощущавшего в себе задатки философа, и философа, которому «только совершенно случайные причины помешали сделаться музыкантом», для которого «жизнь без музыки ...просто кошмар, беспокойство, изгнание».234 А объединяет их действительно многое. Попробуем отметить кажущиеся наиболее многозначительными моменты.
Первое, что обычно отмечают исследователи творческого наследия Ницше - это автобиографичность его произведений и поразительный дар мыслителя «жить в возвышенном как дома».235 К.А. Свасьян называет Ницше «неким генерал-басом всех нафантазированных им сочинений» и считает, что тщетно было бы пытаться излагать его философию на стандартный манер, реконструируя то, что обычно называется методом: метод Ницше равнозначен буквальной греческой семантике слова (метод есть путь) и, значит, самой жизни немецкого мыслителя. Протоиерей И. Слободской указывает на субъективность ницшевской философии как на наиболее характеристическую ее черту. «Ницше... не бесстрастный мыслитель, а философ-поэт; он не просто логизирует, он горит и перегорает в темном пламени своей философии, он живет ею, страдает и радуется. Его философия представляет из себя повесть о пережитом, отзвуки внутренних борений, душевной драмы и трагедии, это -его автобиография», - пишет Слободской. «Я всегда писал свои книги всем телом и жизнью; мне не известно, что такое чисто духовные проблемы», -утверждает сам Ницше.
Философ отождествляет свою судьбу с творчеством, жизненные события связывает с динамикой развития стиля, с трансформацией, а подчас, деформацией языка от произведения к произведению. «Я не понимаю, -говорится в одном из последних писем Ницше, - зачем мне было так ускорять трагическую катастрофу моей жизни, которая началась с Ее се». .
«Жить в царстве мысли»: именно такое выражение употребляет Б.Ф. Шлецер, характеризуя особенности внутреннего мира А.Н. Скрябина. Как утверждает биограф, в противоположность большинству философов-специалистов, которые отдают мышлению лишь определенную часть своего времени, в другие часы пребывая всецело на земной плоскости, в Скрябине, казалось, никогда не прерывался процесс мышления; в нем всегда шла какая-то напряженная внутренняя работа.239 «Метафизическая страсть» владела композитором-философом до конца жизни.
А.Н. Скрябину, как и Ф. Ницше, свойственны ярко выраженный субъективизм творчества, романтический автобиографизм. Жизнь и творчество для композитора-символиста неразделимы. Скрябин прямо говорит, что «он -только то, что он создает». К самой жизни композитор относится как к Творческому Акту (точнее, как к ряду Актов художника-творца);240 к ней применимо символистское слово «жизнетворчество». Как и в случае Ницше, реальные жизненные события (правда, скорее внутреннего, духовного, имманентного сознанию композитора содержания) нередко накладывают отпечаток на творчество Скрябина. Например, формирование скрябинской идеи Великой Мистерии связано, по-видимому, с постепенным осознанием композитором необычайной магической, миропреобразующей силы искусства, с отождествлением Искусства с собственным творчеством, а себя - с художником-Творцом (позднее - Богом), с пониманием своего мессианского предназначения, своей чуть ли не главенствующей роли в мировом процессе. Это сознание сопровождалось (и подкреплялось) восторженным отношением к творчеству композитора в кругах московской художественной интеллигенции и необычайным взлетом популярности композитора среди авангардистски настроенной молодежи.