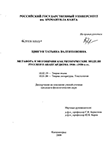Введение к работе
Актуальность темы. Исследование метаязыковой рефлексии с позиций «поэтической филологии» на настоящий момент велось достаточно спорадично и поэтому лишено необходимых теоретических обобщений. Имеющиеся теоретические разработки и описания «персональных» метаязыковых концепций русских авангардистов не дают достаточного представления о месте метатекстов «поэтической филологии» (и ее авангардистского варианта в частности) среди других метаязыковых феноменов, об их устойчивых формальных и содержательных показателях. Следует особо подчеркнуть, что методология описания литературного метатекста с точки зрения метаязыковой рефлексии не разработана до сих пор.
Цель исследования — осуществить комплексный анализ метаязыковой рефлексии в «поэтической филологии» авангардизма через выяснение положения литературного метатекста в системе других метатекстов (прежде всего в контексте теоретической лингвистики) и особенностей организации его дискурсивных стратегий. Для достижения указанной цели в исследовании решаются следующие задачи:
– разработать методику комплексного концептуально-дискурсного анализа текстов «поэтической филологии»;
– определить круг лингвистических проблем, которые затрагиваются в метатекстах русского авангардизма, и сопоставить его с соответствующими научными лингвистическими теориями; обозначить возможные влияния научной мысли на становление авангардистской метатекстуальности и гипотетические влияния обратного порядка;
– проанализировать речевые процессы, обеспечивающие синтетичность метатекстов «поэтической филологии» на уровне дискурса, описать взаимодействие в метатекстуальном дискурсе научного и поэтического субдискурсов;
– установить, как метаязыковая рефлексия отражается на уровне «грамматики дискурса» и какие грамматические стратегии поэтического письма используются в метатексте для вербализации метаязыковых установок.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования определяется установкой на системное описание метаязыковой рефлексии в авангардистских текстах, с тем чтобы через анализ содержательной составляющей метатекста, с одной стороны, и его дискурсивных стратегий, с другой, охарактеризовать лингвистическую феноменологию «поэтической филологии» как особой формы метаязыковой рефлексии. В работе впервые устанавливаются связи между метаязыковой рефлексией и регулярными грамматико-синтаксическими стратегиями поэтического письма.
Практическая значимость исследования. Предложенные в работе наблюдения и выводы могут быть использованы при разработке курсов по истории, теории и методологии языкознания, стилистике, анализу дискурса, лингвистике текста, лингвопоэтике, семиотике, а также могут быть учтены при комментированном издании произведений русских авангардистов.
Теоретико-методологическая база исследования. Специфика рассматриваемого материала диктует необходимость междисциплинарного подхода к его анализу. В связи с этим теоретические и методологические предпосылки исследования объединяют ключевые положения, сформулированные в работах по теории метаязыковой рефлексии (Р.О. Якобсон, А. Вежбицка, Н.Д. Арутюнова, В.Б. Кашкин, Н.К. Рябцева, И.Т. Вепрева и др.), теории дискурса (Е.С. Кубрякова, В.И. Карасик, Н.К. Рябцева, В.Е. Чернявская и др.), семиотике и поэтике метатекста (Т.В. Цивьян, Д. Ораич Толич, Е. Фарыно, Я.И. Гин и др.), лингвистике и семиотике художественного текста (Р.О. Якобсон, Ю.М. Лотман, В.А. Лукин, Н.А. Фатеева, Л.В. Зубова, И.И. Ковтунова, и др.), грамматике русского языка (В.В. Виноградов, Г.А. Золотова, Е.В. Падучева, В.А. Успенский и др.), истории и художественной практике русского литературного авангардизма (В.Ф. Марков, В.П. Григорьев, С.Е. Бирюков, Т.Л. Никольская, Т.В. Цвигун, В.В. Фещенко, Н.С. Сироткин, Дж. Янечек, Р. Грюбель, В. Вестстейн и др.), истории и методологии научных школ (О. Ханзен-Леве, В. Эрлих, Н.А. Слюсарева, А. Дмитриев, Я. Левченко и др.).
В работе использовались следующие методы исследования: гипотетико-индуктивный метод и метод экстраполяции — при установлении концептуальных пересечений «поэтической филологии» и теоретической лингвистики; методы прагмасемантического и дискурсного анализа — при описании дискурсивных стратегий научной и литературной метатекстуальности; структурно-, контекстуально- и грамматико-семантический методы, метод трансформационного анализа — при характеристике грамматических стратегий «поэтической филологии».
Апробация результатов исследования. Основные положения работы были изложены в докладах, прочитанных на научных конференциях профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, аспирантов и студентов КГУ (Калининград, 1997, 1999), аспирантов и преподавателей СПбГУ (Санкт-Петербург, 2001), Летней школе молодого филолога и Летней молодежной конференции по филологии (Калининград, 2000, 2001), Международной конференции молодых ученых «Русская литература ХХ века: Итоги столетия» (Санкт-Петербург, 2001), Международных научных конференциях «Марина Цветаева и современники (Творческие связи, поэтика, переводы)» (Москва, 2000), «Языкознание XXI века: итоги и перспективы» (Калининград, 2001), «Художественный текст: Восприятие. Анализ. Интерпретация» (Вильнюс, 2002), «Идеологии и риторики русской литературы от классицизма до постмодернизма» (Санкт-Петербург, 2002), «Славянский мир и литература» (Калининград, 2002), «Семантико-дискурсивные исследования языка: эксплицитность / имплицитность выражения смыслов» (Калининград, 2005), «"Доски судьбы" и вокруг: Эвристика и эстетика» (Москва, 2006), «Поэтика и лингвистика (К 100-летию со дня рождения Р.Р. Гельгардта)» (Тверь, 2006), «Русская литература перелома XIX и ХХ веков» (Гданьск, 2006), Международном научном семинаре «Современная методология исследования художественного произведения: Итоги и перспективы» (Калининград, 2007).
Положения, выносимые на защиту
1. Метатексты «поэтической филологии», составляя специфическое поле метаязыковой рефлексии внутри литературы, обладают устойчивым набором дистинктивных признаков, позволяющих рассматривать их как особый тип текста. В характере транслирования метаязыковой рефлексии «поэтическая филология» как вариант «наивной лингвистики» образует систему со-противопоставлений по отношению к научной метатекстуальности.
2. Декодирование основных метаязыковых концептов «поэтической филологии» авангардизма, их «перевод» на язык науки требует установления не прямых текстуальных, но типологических соответствий / расхождений между «поэтической филологией» и академической лингвистикой.
3. В литературных метатекстах русского авангардизма 1910—20-х гг. нашла обоснование оригинальная языковая концепция, которая в своих ключевых моментах отразила искания лингвистики ХХ века. «Альтернативная лингвистика» авангардизма вступает в резонанс не только с «ближним» контекстом — идеями русской формальной школы, — но и с контекстом «дальним», который составляют лингвосемиотика Ф. де Соссюра и позднейшие теории структурализма и лингвистической поэтики.
4. Дистанцируясь от монодискурсивности научной метаязыковой рефлексии, «поэтическая филология» избирает своей стратегией полидискурсивность — смешение и взаимоналожение элементов институционального научного и персонального поэтического дискурсов. Полидискурсивность «поэтической филологии» призвана представить авторскую позицию как претендующую на научную объективность (тем самым повышая статусную роль литературного метатекста) и одновременно реализовать общую установку на поэтическую «игру в научность».
5. Для выражения метаязыковой рефлексии литературный метатекст актуализирует свою «грамматическую партитуру». Номинативное и инфинитивное письмо используются в «поэтической филологии» как «грамматические знаки» выражения метаязыковых установок — дескриптивности и прескриптивности; сама грамматика текста становится для авангардистов одним из средств «говорения языка о языке».
Структура и краткое содержание работы
Диссертационное сочинение состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. Объем диссертации — 196 страниц.
Во Введении очерчивается общее проблемное поле работы, устанавливаются типологические характеристики объекта и предмета исследования, обосновывается актуальность и новизна исследования, формулируются цель и задачи диссертации, устанавливаются методы анализа материала.
Глава 1 «Альтернативная лингвистика» русского авангардизма посвящена установлению и описанию основных точек концептуального пересечения авангардистских литературных метатекстов с исканиями теоретической лингвистики ХХ века. В данной части работы разграничиваются «ближний» и «дальний» контексты метаязыковых построений русских авангардистов.
В параграфе 1.1. Вопросы теории поэтического языка в авангардистских метатекстах предложен анализ преимущественно «ближнего» контекста авангардистской метаязыковой рефлексии, в качестве которого рассматриваются лингвопоэтические теории русской формальной школы. В п. 1.1.1. Авангардистская метатекстуальность: интеллектуальный фон подчеркивается, что авангардизм начиная с ранней стадии (кубофутуризм) и вплоть до начала 1930-х гг. (ОБЭРИУ) развивался в постоянном взаимодействии с формализмом — как на уровне личных знакомств, так и в плоскости интеллектуального взаимообмена. Комплексный взгляд на авангардистские метатексты показывает, что авангардизм разрабатывает оригинальную теорию языка, в некоторых позициях не только повторяющую, но и упреждающую поиски академической лингвистики. В первую очередь это касается обращения авангардистов к проблеме поэтического языка — основные теоретические концепты авангардистской «альтернативной теории поэтического языка» рассматриваются в нижеследующих пунктах исследования.
1.1.2. Форма / звук / буква (кубофутуризм). Исходным тезисом для «альтернативно-лингвистических» теорий кубофутуризма стало переосмысление дихотомии «форма — содержание». «Поэтическое» понимается в кубофутуризме преимущественно как «звуковая»/«буквенная» (как правило, вне различения терминов «звук» и «буква») конструкция, в которой доминантой выступает план выражения, ср.: «Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике» («Садок Судей II (Предисловие)»), «Разгадка слова — в букве <…> Значение каждой буквы — своеобразное, непреложное. Каждая буква — уже Имя. (Н. Кульбин. «Что есть слово (II-я декларация слова как такового)») и др. Уже на ранней стадии теоретизирования авангардизм создает предпосылки для последующей формулировки представления о мотивированной связи плана выражения (звука/буквы) и плана содержания (идеи, концепта, семантического комплекса). Это касается установления связей «звукобуквы» с иносемиотическими означаемыми ('время', 'пространство', 'краска', 'звук', 'запах' — «Садок Судей II», цвет — Кульбин, Хлебников), а также введения в план содержания поэтического знака такого компонента, как почерк/типографика.
Для раннего формализма проблема звука как основы поэтической формы оказалась перспективной для функционально-типологического разграничения категорий «практический язык» и «поэтический язык». Таковы, в частности, размышления Л.П. Якубинского о противопоставлении практического и поэтического языка с точки зрения функциональной телеологии звука, соображения В.Б. Шкловского о том, что «слова подбираются в стихотворении не по смыслу и не по ритму, а по звуку», теория «звуковых повторов» О.М. Брика и др. И кубофутуризм, и ранний формализм (по наблюдениям Оге А. Ханзен-Леве) формулируют редукционистскую концепцию поэтического языка: вопросы морфемики, грамматики, синтаксиса, поэтической семантики очерчиваются в работах этого периода лишь тезисно.
1.1.3. «Фактура», «сдвиг» (А. Крученых). Концептуализация сущности поэтической формы в 1920-х гг. была развита Крученых в теориях «фактуры» и «сдвига». Если рассматривать эти теории как два аспекта одного явления — организации поэтической формы, — возникают основания соотнести метатексты Крученых с теоретическими поисками Ю.Н. Тынянова.
В работе «Проблема стихотворного языка» (1924) Тынянов рассматривает поэтическую форму как динамическую конструкцию, в которой «динамика формы есть <…> непрерывное выдвигание конструктивного фактора и деформации факторов подчиненных». Динамическая форма реализуется в т.н. «конструктивном принципе» — доминанте, которая оказывает деформирующее воздействие на материал и связывается Тыняновым с понятием ритма. Тыняновская теория «единства и тесноты стихового ряда» в целом подразумевает, что ритм, будучи конструктивным фактором, напрямую влияет на семантику поэтического слова: попадая в ритмическую группу, слово «лексически деформируется» и приобретает «колеблющиеся значения», «семасиологизируется».
Близким пониманием динамического характера поэтической формы отмечен трактат Крученых «Фактура слова» (1922). Различая структуру слова / стиха (как «его составные части») и фактуру — «расположение этих частей <…> делание слова, конструкция, наслоение, накопление», Крученых акцентирует внимание на том, что «усиление» звука в стихе есть процесс синтагматический, результат организации стиховых элементов. Фактура есть материал, подвергнутый деформации на разных уровнях стиховой конструкции — «звуковом», «слоговом», «ритмическом», «смысловом» и др. В свою очередь, динамику фактуры обеспечивает сдвиг: «Сдвиговой прием оживляет конструкцию стиха, динамизирует слова!» Стих (resp. поэтический язык), по Крученых, есть «фактура» — соподчинение элементов различных уровней, опирающееся на динамизирующий конструктивный принцип «сдвига».
1.1.4. «Закон поэтической речи» (И. Терентьев). В трактате И. Терентьева «17 ерундовых орудий» (1918) предложено оригинальное видение поэтического языка («Антиномии звука и мысли в поэзии не существует: слово означает то, что оно звучит»), которое в лингвистической перспективе соотносимо, например, с концепцией паронимической аттракции в формулировках школы лингвистической поэтики (В.П. Григорьев и др.).
Терентьев формулирует «закон поэтической речи»: «Слова похожие по звуку имеют в поэзии похожий смысл», параллельно заявляя о том, что «может быть открыт словарь не только рифмующихся, но всех вообще слов, которые встречаются у поэта». Терентьев косвенно приходит к мысли о парадигматическом характере контекстуальной взаимообусловленности слов в поэтическом языке: связь слов по принципу звукового сходства необязательно предполагает их реальное наличие в синтагматическом ряду и может восстанавливаться на основе фонетических ассоциаций. Постановка проблемы «семасиологизации» поэтического слова средствами контекста в научных теориях почти современна Терентьеву; однако контекстуальная обусловленность слова в поэтическом языке мыслится исследователями (Б.А. Лариным, Ю.Н. Тыняновым и др.) в иной плоскости: контекст понимается исключительно как синтагматическое образование, без учета его «далеких» парадигматических связей.
Идеи Терентьева об ассоциативной/парадигматической природе контекста обнаруживают концептуальное родство с более поздними теоретическими построениями — их можно сопоставить с механизмом «поэтической функции», о котором говорит Р.О. Якобсон. В размышлениях о специфике поэтической функции («Лингвистика и поэтика», 1960) Якобсон обнаруживает едва ли не буквальное совпадение с терентьевским «законом поэтической речи»: «Слова, сходные по звучанию, сближаются и по значению». Трактат Терентьева, таким образом, демонстрирует не только возможность помещения авангардистских теорий в ближайшую синхронию — формалистский контекст, но и допустимость их диахронного прочтения в перспективе позднейших структуралистских концепций.
1.1.5. «Внутреннее склонение» (В. Хлебников). Теория «внутреннего склонения слов», сформулированная в статье «Учитель и ученик. О словах, городах и народах» (1912), — один из малоисследованных аспектов хлебниковской концепции языка. По Хлебникову, фонемы в основах близких по звучанию слов способны передавать такую грамматическую категорию, как падеж, со всем комплексом связанных с ним значений — ср., напр.: «бобр и бабр, означая безобидного грызуна и страшного хищника и образованные винительным и родительным падежами общей основы "бо", самым строением своим описывают, что бобра следует преследовать <…> а бабра следует бояться». В падежах Хлебников выделяет прежде всего их пространственное значение: «родительный падеж отвечает на вопрос "откуда", а винительный и дательный на вопрос "куда" и "где"»; ср. с этой точки зрения наблюдения Якобсона о пространственной семантике падежей. Языковым материалом для «склонения» «слов-родичей» выступает некоторая гипотетическая единица — «общая основа»/«простейшее тело»/«простое слово», — единица, сохранившаяся в языке, по его представлениям, в предлогах.
В качестве одного из гипотетических источников, повлиявших на хлебниковскую концепцию «внутреннего склонения», в работе рассматривается диалог Платона «Кратил». Аллюзии на «Кратил» прослеживаются как в используемых Хлебниковым примерах, обнаруживающихся у Платона (квазиэтимологическая пара «бог / бег»), так и в методе исследования и интерпретации языковых фактов. Представление, лежащее в основе платоновских «этимологий» и хлебниковских «склонений», едино: это взгляд на слово/имя как на прямое выражение сущности (идеи), постичь которую возможно лишь при достаточно свободной интерпретации слова как звукоряда.
Наблюдения Хлебникова о «простейших телах»/«простых словах» языка показывают, что, анализируя факты языка в синхронном срезе, автор мыслил «внутреннее склонение» как категорию диахроническую, рассматривая в этом ключе неродственные слова современного языка как различные падежные формы гипотетически восстанавливаемых праязыковых основ. В этом ракурсе весьма близкой к хлебниковским построениям видится лингвистическая концепция А.А. Потебни. Известное концептуальное родство кроется уже в названии теории, косвенно отсылающем к потебнианской концепции «внутренней формы» слова: «внутренняя форма есть <…> центр образа, один из его признаков, преобладающий над всеми остальными» — для Хлебникова «общая основа» и ее последующее «склонение» есть концептуальная доминанта, задающая для образованных из нее слов некоторый необходимый набор определенных признаков. Другая проводимая в работе аналогия касается хлебниковского понятия «общая основа/простейшее тело/простое слово» и интерпретации Потебней категории корня в этимологическом ключе.
Первый параграф первой главы завершается анализом метаязыковых высказываний, содержащихся в статьях и записных книжках М. Цветаевой — поэта, чье творчество относится исследователями к маргиналиям авангардистской парадигмы (п. 1.1.6. М. Цветаева и альтернативная теория поэтического языка). Наблюдения Цветаевой о соотношении звука и смысла в поэтическом языке и о неконвенциональности поэтического слова, вступающие в резонанс с тезисами кубофутуристов, дают основания утверждать, что круг явлений, объединенных в работе понятием «альтернативная теория поэтического языка», демонстрирует единство общих тенденций, свойственных метаязыковой рефлексии литературы первой трети ХХ века: центральные теоретические концепты здесь стремятся выйти за рамки отдельных литературных течений и в этом смысле могут быть определены как своего рода универсалии.
Параграф 1.2. «Заумь», «сдвиг» и лингвистика Ф. де Соссюра посвящен описанию одного из фрагментов «дальнего» контекста авангардистских метаязыковых рефлексий — точек пересечения русского авангардизма с лингвосемиотическим проектом Ф. де Соссюра. Лингвосемиотика Соссюра применительно к авангардистской «альтернативной лингвистике» на настоящий момент остается «отвергнутым потенциалом», хотя именно соссюровская позиция обнаруживает морфологическую смежность с авангардизмом, особенно с учетом радикального «лингвоцентризма» последнего. Соотнесение метатекстов русского авангардизма с лингвистикой Соссюра особенно интересно тем, что непосредственное (и даже опосредованное) знакомство авангардистов с ее положениями, по-видимому, исключено: введение основных соссюровских постулатов в обиход русской лингвистики приходится на 1918 (в Москве) и 1923 (в Петрограде) годы, при том что авангардизм обнаруживает вполне последовательное интуитивное «восхождение к Соссюру» в ряде положений «альтернативной лингвистики» уже начиная с 1913 г.
В п. 1.2.1. Заумь: «язык» или «речь»? предложен анализ авангардистской теории «зауми»/«заумного языка» sub specie соссюровской оппозиции «язык — речь». Анализ авангардистских метатекстов позволяет вскрыть наличие в теории заумного языка двух устойчивых линий, которые обозначены в работе как «линия Хлебникова» (Хлебников, Туфанов) и «линия Крученых» (Крученых, Терентьев).
В «линии Хлебникова» заумный язык интерпретируется как ментальное образование, имеющее коллективный/надындивидуальный характер; благодаря этому оказывается возможным приписать заумному языку социальную функцию: «Заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединять людей». Следствием подобного подхода оказывается представление о нерелевантности оппозиции «заумный язык — разумный язык»: данные модусы языка не противопоставляются, а выводимы друг из друга. Соотношение между «заумным» и «разумным» языками исходит из того, что: а) «разумный» язык (РЯ) есть потенциальная основа для построения «заумного» языка (ЗЯ) — на его базе происходит (ре)конструкция элементов ЗЯ; б) эксплицированная таким образом структурная модель ЗЯ, представляющая собой своего рода «вытяжку» из РЯ, в итоге позволяет продуцировать новый — уже «сверх-разумный» — язык, которому приписывается возможность обеспечения «абсолютной», в т.ч. наднациональной, коммуникации («звездный язык»).
Построение ЗЯ на основе РЯ предполагает установление некоторого закрытого количества семантических универсалий, обладающих неконвенциональной связью со своими означающими; этот не всегда артикулированный авторами тезис реконструируется в исследовании на основании методов работы Хлебникова и Туфанова с языковым материалом. Отношение к ЗЯ как к конечному набору минимальных инвариантных языковых единиц позволяет усмотреть преимущественную ориентацию этой линии в теории зауми на продуцирование словаря/тезауруса заумного языка.
«Линия Крученых» ориентирована на обоснование в качестве области функционирования зауми сферы индивидуального/поэтического (творчества), за счет чего ее ведущим свойством становится акционность (заумь мыслится как ситуативно обусловленное речевое действие), что позволяет Крученых интерпретировать заумь как , в отличие от хлебниковского понимания ЗЯ как . Для Крученых и Терентьева заумь, хотя по преимуществу и является сферой индивидуально-поэтической деятельности, допускает постоянное расширение своего функционального поля — от заумной поэзии через «акустические упражнения» актера и педагогику вплоть до конкретно-социального и даже «всемирного» бытования. В период «41» и в середине 1920-х гг. Крученых тяготеет к осмыслению зауми как полифункционального феномена, который может быть применен к разным стилям речи.
Видение зауми как речи (деятельности), а не языка (системы), обусловливает интерес Крученых и Терентьева к ее деформирующему характеру — актуализации «наобумного», алогичного, ошибочного и т.п. Понимая заумь как «первоначальную (исторически и индивидуально) форму поэзии», которая «пробуждает и дает свободу творческой фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным», Крученых тем самым квалифицирует заумный язык как принципиально открытую систему, актуализирующуюся только в момент своего непосредственного порождения/функционирования и имеющую вследствие этого исходно нерегламентированный характер.
Сопоставление двух линий в теории заумного языка дает возможность свести воедино различные свойства зауми, устанавливающие для данного феномена бинарные характеристики: а) заумь понимается как закрытая (по Хлебникову) и открытая (по Крученых) система; б) она предполагает существование как индивидуальных, так и надындивидуальных форм; в) заумь обладает «словарем/тезаурусом» (который моделируется Хлебниковым) и некоторыми общими принципами «реализации» этого «словаря» (концепция зауми как «голосовых упражнений» у Крученых и Терентьева); г) (ре)конструкция зауми как словаря позволяет вынести за рамки вопрос о ее функциональной специфике (Хлебников) — концептуализация ее как деятельности открывает возможности для характеристики зауми как полифункционального явления, которое проецируется в разные стили речи (Крученых); д) представленная за счет указанных выше признаков как знаковая система, заумь обнаруживает различимость собственных знаков (характеристики гласных и согласных у Хлебникова), которые, в свою очередь, неконвенциональны как элементы системы (Хлебников, Туфанов), но обнаруживают конвенциональность на уровне реализации (Крученых, Терентьев).
Отмеченные свойства позволяют представить «линию Хлебникова» как «теорию языка», а «линию Крученых» — как «теорию речи». Перед нами, таким образом, своего рода эскиз описания лингвистического факта как единства статической системы и ее динамической реализации, что доказывается в работе путем сопоставления положений авангардистских метатекстов с рядом ключевых тезисов Соссюра, касающихся трактовки языка и речи. Вместе с тем кардинальное расхождение русского авангардизма с соссюровской лингвистикой прослеживается в том, что теоретики зауми не противопоставляют язык и речь (как это делает Соссюр), но буквально изолируют их друг от друга, парадоксально создавая «язык без речи» (в случае Хлебникова и Туфанова) и «речь без языка» (в случае Крученых и Терентьева).
В п. 1.2.2. Сдвиг — линейность означающего — лингвистическая ценность рассматриваются другие пункты лингвистической программы Соссюра, которые вне его влияния подвергаются осмыслению в метатекстах авангардизма, хотя и не получают столь детальной разработки, — это «второй принцип знака» («линейный характер означающего») и учение о языковой ценности (значимости).
Абсолютизация линейности знака — одна из сильных авангардистских тенденций, задающая концептуальный фон для ряда «альтернативно-лингвистических» теорий раннего и зрелого авангардизма (кубофутуризм, постфутуризм «41», конструктивизм). Такова ставшая базовой не только для авангардизма, но и для филологической парадигмы теория «сдвига» Крученых, опирающаяся на презумпцию линейного характера означающего.
Вербальный знак рассматривается Крученых в аспекте фонетико-акустической протяженности и интересует его способностью к образованию нерасчлененных «звуковых пятен» — сдвиг мыслится как «слияние нескольких лексических (орфографических) слов в одно фонетическое (звуковое) слово». «Сдвиговой» взгляд на означающее позволяет легализовать потенциальную подвижность, перераспределяемость границ языкового знака в поэтическом языке, причем в пределах «классического» художественного дискурса гипертрофия линейности означающего приводит лишь к акустической ошибке, тогда как в авангардистском дискурсе подобное явление становится одним из вариантов реализации заумного знака. Видение сущности заумного языкового знака, осуществляющее переход от означающих к означаемым (это отражается в примерах, которыми оперирует Крученых), позволяет связать теорию «сдвига» с развитием соссюровских идей Шарлем Балли, распространившим действие принципа линейности с означающих на означаемые.
Другая точка соприкосновения (слабо артикулированная Крученых, но выводимая из его рассуждений в целом) связана с соссюровским определением языковой единицы через категорию ценности (значимости, valeur). При сдвиге акустическая протяженность преодолевает сопротивление знака и выходит за его границы, сдвиг линейных означающих обнаруживается и в плане семантики, порождая новые означаемые — но вследствие этого утрачивается сама возможность идентифицировать знак относительно другого знака. Сопутствующая сдвигу пересегментация речевого потока создает условия для разрушения системы значимостей как межзнаковых различий — семиотического явления, которое определяется в работе как девалоризация. «Сдвиговой» язык в проекте Крученых стремится к созданию такой семиотической рядности, где знак сливается с другим знаком, а потому не способен обладать устойчивыми дистинктивными признаками и вступать в отношения значимости (ценности). Таким образом, в отношении принципа линейности означающего Крученых сближается с Соссюром, тогда как при проецировании на теорию «сдвига» «принципа дифференциации» и категории ценности Крученых и Соссюр оказываются скорее оппонентами.
Глава 2 Дискурсивные стратегии «поэтической филологии» посвящена обоснованию сугубо специфических черт метаязыковой рефлексии, эксплицируемой литературными метатекстами. Для «поэтической филологии» характерно стремление к демаркации границ между «литературностью» и «научностью» на уровне дискурсивных практик, в чем отражается коммуникативно-семиотическая пограничность литературного метатекста: это одновременно и научный (точнее, квазинаучный), и художественный текст, результат совпадения интеллектуально-эвристических и эстетических интенций. Дискурс литературного метатекста балансирует между стратегиями поэтического языка и научного метаязыка, склоняясь либо в одну, либо в другую сторону, либо же задействуя их в равной степени.
В параграфе 2.1. «Наука как прием»: к описанию механизмов авангардистского метатекстуального дискурса дается анализ средств, используя которые «поэтическая филология» преодолевает монодискурсивность научного метатекста в пользу полидискурсивности метатекста литературного, снимает дистанцию между институциональным научным и персональным поэтическим дискурсами. Формула «наука как прием» реализуется в авангардистском стремлении использовать интенции и дискурсивные стратегии науки в качестве средства метаязыковой игры — игры в «научность», игры с наукой/критикой, с реципиентом, с самим объектом метаописания и др. В параграфе рассмотрены две дискурсивные модели, в разной степени маркирующие авангардистский метатекстуальный дискурс.
2.1.1. Модель А: деформация институционального дискурса науки. В авангардистских трактатах и статьях «точкой отсчета» выступает институциональный дискурс науки, который на уровне конкретного текста (или массива текстов) деформируется под влиянием персонального дискурса поэзии. В работе рассматривается, как конститутивные показатели институционального дискурса науки испытывают на себе деформирующее действие со стороны персонального дискурса, на примере авангардистского переосмысления принципов работы с терминологией и научным вариантом интертекстуальности.
(1) Система терминологии. Метаязыковая рефлексия на данном уровне реализуется в авангардистских теоретических статьях и трактатах через: а) заимствование терминологии из научного метаязыка (общефилологических терминов типа «язык», «слово», «знак», «буква», «звук», «значение» и т.п. или элементов «персональных» терминосистем — ср. использование терминов И.А. Бодуэна де Куртене «кинема» и «акусма» в работе Туфанова «К зауми»); б) создание собственной системы категорий, в т.ч. освоение терминологии других видов искусства (в частности, живописи — ср. «фактура» у Д. Бурлюка и Крученых) или изобретение термина по аналогии с уже существующим научным (ср. «внутреннее склонение слов» у Хлебникова / «внутренняя форма слова» у Потебни и т.п.).
Продуктивным средством вербализации метаязыковой рефлексии в авангардистских метатекстах становится метафора (шире — поэтический образ), выступающая в качестве функционального субститута термина: «заумный язык» / «заумь» (Хлебников, Крученых, Туфанов, Терентьев), «луч» (Хлебников, Туфанов), «семя слова» (Хлебников, Липавский) и др. На примере анализа «терминоида» «сдвиг» (Крученых) в работе доказывается, что авангардистские метафоры-«терминоиды» обладают иллокутивной двойственностью: в когнитивном аспекте они маркируют особый тип познания, необходимым требованием которого является преодоление рациональных форм мышления в пользу внелогичного «расширенного смотрения» (М. Матюшин), и в то же время они реализуют эстетическую функцию, наделяя литературный метатекст статусом художественного текста. Поэтому дискурсивная стратегия «метафора как термин» не столько тождественна метафорическому мышлению в науке (как средству когнитивного «упорядочения» объекта), сколько, скорее, оппозиционна ему.
(2) Интертекстуальность. В теоретических трактатах авангардистов наблюдается спорадическое включение в текст атрибутированных (более или менее в соответствии с принципами научной цитации) фрагментов чужих научных исследований, использование именных, фоновых или адресных ссылок на научные претексты, вплоть до автоссылок. На этом фоне характерен повышенный интерес авангардизма к «плагиатической интертекстуальности» — использованию «чужого слова» без указания его авторства, а иногда даже без маркировки интертекстуального заимствования как такового; эта стратегия, кодифицированная Терентьевым в «17 ерундовых орудиях», активно используется Крученых (напр., в трактате «500 новых острот и каламбуров Пушкина») и Туфановым (в статье «Метрика, ритмика и инструментализация народных частушек», отчасти — в трактате «К зауми»). Специфическим вариантом интертекстуальности в авангардистских метатекстах является кросстекстуальность — включение в трактат множественно пересекающихся и повторяющихся фрагментов разных текстов: чужих или собственных метатекстов, поэтических текстов и т.п. Кросстекстуальность снимает границы между «своим» и «чужим» словом; на примере «диалога» трактатов Крученых («Сдвигология русского стиха») и Терентьева («17 ерундовых орудий») в работе показывается, как теоретический постулат искажается либо развивается и в результате теряет свое авторство, превращаясь в одно из «общих мест» метаязыковых рефлексий авангардизма.
Сосуществование в авангардистских метатекстах эксплицированной (ссылочной) и плагиатической (в т.ч. кросстекстуальной) интертекстуальности квалифицируется в исследовании как особый дискурсивный прием: если первый тип интертекста призван повышать институциональный статус авангардистского трактата и таким образом «сдвигать» его в сторону научного дискурса, то второй тип свидетельствует об иллокутивной установке на творческую игру с читателем («узнать / не узнать цитату»), обнаруживая родство скорее с литературным творчеством, нежели с научной интертекстуальностью.
2.1.2. Модель В: импликация метаязыкового концепта в поэтическом дискурсе. Специфический вариант полидискурсивности прослеживается в такой жанровой форме, как «научная поэзия» (художественные тексты, делающие естественный язык областью референтов). В «научной поэзии» метатекстуальность может открыто инкорпорироваться в саму структуру поэтического дискурса, обеспечивая семиотический сдвиг: поэтический язык как вторичная моделирующая система приобретает способность надстраиваться уже не только над естественным языком, но и над метаязыком. В итоге метаязык, сам по себе принадлежащий области вторичных систем, становится языком-объектом, входя в общую парадигму образных средств художественного текста, — «литературное» и «металитературное» статусно уравниваются. Такая дискурсивная стратегия описывается в работе на примере стихотворений Д. Бурлюка «Звуки на а…» и Хлебникова «Слово о Эль», применительно к которым постулируется эксплицитный характер метаязыковой рефлексии: сам поэт выступает в тексте как интерпретатор теоретического концепта ('звука', 'буквы'), предлагая читателю уже готовый, сформулированный квазитеоретический постулат.
В иных формах «научной поэзии» художественный дискурс актуализирует черты иконического знака: стоящий за текстом теоретический концепт-означаемое растворяется в нем и подлежит репрезентированию только данным текстом как целостным означающим. Такой вариант «научной поэзии» подробно рассматривается в работе на примере поэтического сборника В. Шершеневича «Лошадь как лошадь».
Сигнал метатекстуальной направленности сборника — система внутренних заглавий, построенных по модели научной формулировки: «Принцип развернутой аналогии», «Ритмическая образность», «Принцип параллелизма тем», «Принцип поэтической грамматики» и т.п.; в ряде случаев подобная «квазиформулировка» переводится в игровую плоскость благодаря включению «инородных» элементов («Дуатематизм плюс улыбнуться», «Принцип мещанской концепции», «Содержание плюс горечь» и др.). Озаглавленность — строго обязательное требование самой формы «научной поэзии»: теоретический концепт вводится Шершеневичем через заглавие, в то время как поэтический текст выступает по отношению к нему как развернутая иллюстрация, демонстрирование введенного заглавием фрагмента метаязыковой рефлексии.
В пределах стихотворения формируется реверсивность семиотического отношения «заглавие — текст»: если узуально заглавие выступает как означающее текста, то у Шершеневича представленный в заглавии теоретический концепт делает означаемым само заглавие, а соотносящийся с ним поэтический текст — означающим. Так, в стихотворении «Принцип развернутой аналогии» метаязыковой концепт 'аналогия' задействует для своей реализации основные средства «компаративного арсенала» русского языка — сравнительные синтаксические конструкции с «как», «словно» и «будто», приложения со сравнительным значением, грамматические средства (родительный и творительный сравнения) и др.; в «Принципе поэтической грамматики» и «Небоскребе образов минус спряженье» для реализации концепта 'аграмматизм' поэтом используется богатая «метаграмматическая» игра синтаксическими конструкциями, допускающими множественные структурные интерпретации, категориями инфинитивности и номинативности и др. Размывание дискурсивных границ поэтического и метатекстуального в итоге приводит к переорганизации самой коммуникативной структуры: метатекстуальность в «Лошади…» — это прерогатива уже не автора, а читателя, который поставлен перед необходимостью самостоятельно обнаружить «следы» заявленного заглавием теоретического концепта в структуре поэтического дискурса и на основании этого (ре)конструировать авторскую концепцию поэтического языка.
Обращение в параграфе 2.2. Грамматика литературного метатекста: номинативное и инфинитивное письмо к грамматическим средствам оформления метаязыковой рефлексии в авангардистских метатекстах продиктовано тем, что, подобно любому художественному тексту как продукту «языка в его эстетической функции» (Р.О. Якобсон), литературный метатекст способен использовать для выражения своих интенций элементы естественноязыковой грамматики, подвергая их эстетически значимым трансформациям. Данная часть работы открывается анализом некоторых фрагментов из статьи В. Маяковского «Как делать стихи?», в результате которого выводятся две устойчивые грамматические стратегии литературного метатекста — номинативное и инфинитивное письмо (далее НП и ИП).
2.2.1. «Определение поэзии»: номинативное письмо. Поскольку феномен НП до настоящего времени не получил в лингвистической поэтике необходимо полного описания, в работе уточняется смысловое поле данного термина; в частности, предлагается дополнить узкое понимание НП (как использование синтаксических структур модели N1) включением в него т.н. биноминативных (Е.В. Падучева, В.А. Успенский) предложений модели N1 cop N1/5.
Авангардистская поэтическая метатекстуальность в случаях использования биноминативных предложений движется в сторону метатекстуальности научной, а именно такой составляющей ее дискурса, как определение термина через дескрипцию. При построении поэтического метатекста по модели «А есть [дескрипция]» дискурс принимает форму фиксированной синтаксической конструкции: это предикация, где «подлежащим» становится некоторый метаязыковой концепт ('слово', 'звук', 'буква' или др.), а «сказуемое» — само развертывание поэтического дискурса, — в свою очередь, служит интерпретации этого концепта. Синтаксическое сказуемое в таких случаях тяготеет к номинативности — подобно тому, как это происходит в случае дескриптивного раскрытия объема понятия/термина в научном дискурсе; благодаря этому НП может быть интерпретировано как грамматический знак установки поэтического метатекста на дескриптивность.
Стихотворение Д. Бурлюка «Звуки на а…» представляет собой один из ранних опытов введения НП в поэтический метатекст. Дискурсивное развитие текста — развернутого бессоюзного сложного предложения — связано с переходом от предикативных единиц модели N1 cop Adj1/5 (стихи 1—2: «Звуки на а широки и просторны…») к модели N1 cop N1/5 (стихи 3—5: «Звуки на у, как пустая труба…»). Конструкции первой модели по структуре можно соотнести с предложениями характеризации по признаку, конструкции второй модели — с предложениями классифицирующими. Однако подобие структурных моделей здесь вступает в противоречие с референциальными валентностями слов, занимающих позиции субъекта и предиката: если узуально для предложений характеризации по признаку свойственны конкретная референция субъекта, а предикат называет единичный признак, а в классифицирующих предложениях субъект и предикат обладают понятийной референцией, то в поэтическом метатексте Бурлюка субъект во всех предикативных единицах (кроме последней) имеет понятийную референцию — как в предложениях классифицирующих, в то время как предикат либо вводит признак (1—2, как в предложениях характеризации по признаку), либо стремится к предметной референции (3—5). Такая референциальная структура предложения показывает, что первичной в тексте выступает не научно-дескриптивная (под которую текст «маскируется»), а поэтическая логика, в нормах которой абстрактное понятие (метаязыковой концепт 'звук') не может быть описано иначе, кроме как через предметный мир.
Стихотворение В. Хлебникова «Слово о Эль» с синтаксической и смысловой точек зрения неявно делится на две неравные части, в которых метаязыковая рефлексия поэта реализуется разными грамматико-синтаксическими средствами. Для первой части текста (1—65) регулярной синтаксической структурой выступает сложная синтаксическая конструкция «придаточная часть со значением времени/условия + главная часть (субъектно-предикатная группа мы говорили) + биноминативная предикативная единица (это/то + N1), присоединяемая на основе бессоюзной связи»; в данном фрагменте текста метаязыковая семантика биноминативных предложений ослаблена. Вторая часть стихотворения (66—73) отмечена сменой синтаксической конструкции — использованием биноминативного предложения, в котором позицию подлежащего занимает метаязыковой концепт 'Эль' (= 'буква'? 'звук'?), а позицию сказуемого — его «поэтические дескрипции»: «Эль — это легкие Лели <…> Эль — это луч весовой…». Сложная метаязыковая игра Хлебникова рассматривается в аспектах референции предложений, метрической и фонетической организации стиха, а также через сопоставление стихотворения с хлебниковской статьей «Художники мира!»; делается вывод о том, что в «Слове о Эль» НП Хлебникова последовательно движется от образности к понятийности, от «поэтических дескрипций» к имитации дескрипции научной. В результате смены трехсложников верлибром, перехода от аллитераций к их отсутствию, от частных аудиальных аналогий к универсализирующим визуальным символам, а главное, благодаря наделению предиката биноминативного предложения понятийной референцией поэт достигает не только структурного, но и логико-синтаксического подобия классифицирующим предложениям научного дискурса.
В стихотворении Б. Пастернака «Определение поэзии» НП абсолютизируется до такой степени, что из биноминативной конструкции N1 cop N1/5 «подлежащее»-объект дескрипции практически уходит, сохраняясь лишь в теме текста — заглавии (Определение поэзии). В тексте фактически сливаются субтекстовая и метатекстовая функции заглавия: Определение поэзии — это одновременно и метатекст, и субтекст, который семантически и синтаксически соотносится с подлежащим. Развернутой дескрипцией, определением «поэзии» в таком случае становится уже сам текст («Это — круто налившийся свист, / Это — щелканье сдавленных льдинок…»), выступающий как «сказуемое»-рема при синтаксическом подлежащем, выраженном дейксисом это. В виде биноминативной структуры здесь можно представить уже не отдельные предложения поэтического текста, а его самого в единстве с заглавием: в структурной схеме N1 cop N1/5 позицию первого номинатива займет заглавие, второго — текст, а местоимение это утратит дейктическую функцию, редуцировавшись до формальной связки: {Поэзия} (N1) это (cop) {круто налившийся свист + щелканье сдавленных льдинок + … + вселенная — место глухое} (N1/5).
2.2.2. «Как делать стихи?»: инфинитивное письмо. Цель данного пункта — ввести в «топический арсенал» (А.К. Жолковский) ИП такую устойчивую стратегию, как использование инфинитивности в качестве знака «прескриптивной» ориентации дискурса. В работе доказывается, что в поэтическом метатексте ИП позволяет автору через сложно организованную игру грамматическими категориями выстраивать художественный текст как поле пересечения собственных метаязыковых рефлексий и особой коммуникации с читателем, постоянно изменяющейся в своем фокусе.
В стихотворении «Февраль. Достать чернил и плакать!..» метонимическое художественное мышление Пастернака (Р.О. Якобсон) требует воспринимать в качестве семантического центра стихотворения мотив 'письма', реализующийся в первой же строке метонимией чернила. В семантической цепи достать чернил и плакать — писать навзрыд — достать пролетку — перенестись — слагаются стихи навзрыд (ср. также: плакать писать навзрыд слагаются [стихи] навзрыд / достать чернил достать пролетку перенестись) развертываются метаязыковые концепты текста: 'создание стихотворения изоморфно перемещению в пространстве' и 'создание стихов есть рыдание поэта'. Номинативный зачин стихотворения («Февраль.») «отрицается» инфинитивностью: «Достать чернил и плакать! / Писать о феврале навзрыд»; такое сближение-отрицание обнажает грамматическую взаимообратимость и одновременно противопоставленность номинатива и инфинитива как инвариантных форм соответствующих частеречных парадигм. Более того, инфинитивный ряд связывает воедино февраль, чернила, пролетку и стихи: достать чернил оказывается действием, равноценным действиям достать пролетку и перенестись туда, где ливень, а плакать становится метафорой действия писать о феврале.
Создавая стихотворение о том, как создается стихотворение, Пастернак оперирует инфинитивными рядами, однозначное прочтение которых в плане модальности и субъектной организации невозможно. «Достать чернил и плакать!» допускает интерпретацию в оптативе, однако постановка восклицательного знака фактически уравнивает его с предложением волюнтивным; достать чернил и плакать, писать о феврале навзрыд, достать пролетку, перенестись туда, где ливень — действия, которые в контексте одинаково присваиваются адресантом как желаемые и предписывается адресату как требуемые к исполнению. Допуская подобного рода модальные и субъектные переключения, текст суммирует свою семантику приблизительно следующим образом: 'о том, как хотелось бы писать, как пишется и как длжно писать'. Стихотворение балансирует между этими смыслами, объединяя в одном лексико-грамматическом пространстве поэтическую рефлексию о мире, авторефлексию о творчестве и предписание-прескрипцию «другому».
В трактате И. Терентьева «17 ерундовых орудий» ИП широко используется во второй, поэтической части книги, назначение которой — «регистрировать» постфутуристские стратегии текстопорождения. Прагматика терентьевского ИП определяется требованиями жанра: поскольку «Орудия…» представляют собой «учебник» для поэта-заумника, инфинитивность используется здесь как более двусмысленный, но одновременно более категоричный вариант императивного дискурса, напоминающий о дискурсе рецепта. В отличие от пастернаковского ИП, динамизирующего модальные и субъектные внутритекстовые отношения, волюнтивная семантика инфинитива у Терентьева прозрачна — отчасти в грамматическом, но в большей степени в тематическом плане. Для того чтобы расставить модальные акценты необходимым образом, Терентьев прибегает к использованию грамматического императива: «идитЕ учиТься / вОт УпраЖнения:», — однако смысл этих «упражнений» становится понятным только при их проецировании на изложенную в первой части книги систему теоретических тезисов.
То обстоятельство, что в трактате инфинитивны стихотворения, а не теоретические выкладки, не случайно для терентьевской концепции метатекстуальности: у Терентьева теория не иллюстрируется практикой, а лишь задает некоторые ключевые постулаты восприятия, с опорой на которые выводится художественная концепция — однако не столько из теоретических размышлений поэта, сколько непосредственно из заумных стихотворений-«орудий». Поэтому немаловажно, что наиболее принципиальные для своей концепции постулаты Терентьев реализует именно в тех «орудиях»-рецептах, которые отмечены присутствием ИП (Орудие I, IV орУдие, пяТое орудиЕ, шеСТое оруДиЕ и особенно двеНадцатое). Если пастернаковское ИП принуждает поэтические смыслы балансировать между оптативным и волюнтивным регистрами, то у Терентьева модальность инфинитивного ряда, напротив, однозначно прочитывается как волюнтивная, а его коммуникативная установка целиком обращена к адресату.
В Заключении обобщены результаты исследования.
1. Метаязыковая рефлексия авангардизма — явление неоднородное как по дискурсивным или жанровым формам репрезентации, так и по охвату тех теоретических проблем, к которым обращаются авангардисты. «Поэтическая филология» способна реализовать себя не только через «специализированные» формы литературных метатекстов (манифест, декларация, теоретический трактат и т.п.), но и напрямую через поэтическое творчество. Метаязыковая компонента может в равной степени обнаруживаться как в «специализированном», так и в «неспециализированном» метатексте, причем в обоих вариантах для декодирования метаязыковых концептов литературного метатекста, их «перевода» на научный метаязык требуется установление не прямых текстуальных, но типологических соответствий / расхождений между «поэтической филологией» и академической лингвистикой.
2. Как вариант «наивной» лингвистики «поэтическая филология» русского авангардизма на концептуальном уровне обнаруживает близость к метаязыковым построениям лингвистической науки. Для характеристики общих принципов «поэтической филологии» исключительно важно то обстоятельство, что «альтернативная лингвистика» авангардизма не ограничивается ожидаемыми и легко объяснимыми концептуальными корреляциями с «ближним» контекстом — научными теориями, в непосредственной пространственно-временной связке с которыми она существует, — но обнаруживает точки пересечения с дальним контекстом — с предшествующей, последующей или синхронной, но заведомо неизвестной авангардистам, научными традициями.
К случаям первого типа можно отнести единый в базовых постулатах взгляд на поэтический язык у авангардистов и представителей русской формальной школы, в т.ч. концептуализацию поэтического языка через установление его оппозиции коммуникативному («практическому») языку. Авангардизм, так же как и формализм, в своем стадиальном развитии постепенно движется от простейших положений о роли звука в поэзии к уточнению вопроса о механизмах поэтической семантики. Такой концептуальный поворот позволяет рассматривать авангардистские представления о поэтическом языке не только в контексте формализма (особенно позднего), но и в перспективе теоретических положений структурализма и лингвистической поэтики.
Вторую тенденцию иллюстрируют теории зауми и сдвига, которые при «переводе» на научный метаязык обнаруживают концептуальные совпадения с лингвосемиотическим проектом Ф. де Соссюра. Предложенный в работе взгляд на авангардистские концепции позволил не только уточнить самое суть противопоставления двух теорий зауми («линия Хлебникова» и «линия Крученых»), но и показать, что в своем взаимопересечении они оказываются близки формирующимся в этот период основам лингвосемиотики и допускают возведение к соссюровской оппозиции «язык — речь». В свою очередь, разработанная Крученых теория сдвига вступает в систему со-противопоставлений с соссюровскими постулатами о линейности означающего и лингвистической ценности.
Обращение к метаязыковым высказываниям М. Цветаевой показывает, что теоретические концепты «поэтической филологии» не замкнуты в индивидуальных художественных системах, но стремятся к универсальности. Авангардизм приближается к разработке ключевых для современной ему лингвистики постулатов и в этом смысле демонстрирует, как «поэтическая филология» и академическая лингвистика вступают в резонанс, формируя общий интеллектуальный контекст эпохи.
3. Если анализ концептуальной составляющей авангардистских метатекстов позволяет показать прозрачность границы, отделяющей «поэтическую филологию» от строгой лингвистики, то рассмотрение дискурсивной организации литературного метатекста, напротив, вскрывает принципиальную межпарадигматичность описанного феномена. Дистанцируясь от монодискурсивности научной метаязыковой рефлексии, «поэтическая филология» избирает своей стратегией полидискурсивность — смешение и взаимоналожение элементов институционального научного и персонального поэтического дискурсов.
Исходно пребывая на периферии художественного типа мышления, авангардистская метатекстуальность деформирует институциональный дискурс науки поэтическими средствами, что позволяет авангардизму реализовать через один текст принципиально различающиеся прагматические установки — усиление статусного авторитета метатекста, «игру в научность», эстетическую или метаязыковую игру с читателем и т.п. Особого рода полидискурсивность присуща т.н. «научной поэзии», где смешение научного и поэтического субдискурсов достигается путем импликации метаязыкового концепта в поэтический текст. В этом случае текст предельно актуализирует черты иконического знака: стоящий за стихотворением теоретический концепт-означаемое вербально растворяется в нем и подлежит репрезентированию только данным текстом как целостным означающим.
Таким образом, межпарадигматичность «поэтической филологии» может быть понята как существование литературного метатекста в пространстве между дискурсами науки и поэзии, дискурсами, которые утрачивают самостоятельность и редуцируются до субдискурсов единого синтетического дискурса авангардистского метатекста.
4. Предложенный в исследовании анализ «грамматической партитуры» метатекстуального дискурса с точки зрения двух типовых поэтических стратегий — инфинитивного и номинативного письма — показывает, что метаязыковые установки поэта могут оказывать непосредственное влияние на грамматико-синтаксический строй текста. Элементы номинативного письма, преимущественно реализующиеся в использовании биноминативных предложений, в поэтическом метатексте способны «напоминать» о дескриптивных построениях научного дискурса. В широкой смысловой перспективе номинативное письмо призвано иконически фиксировать представление поэта о языке (resp. творчестве) как о «вещности», . В свою очередь, инфинитивное письмо объединяет в своем семантико-функциональном ореоле такие разнородные аспекты, как поэтическая по своей природе игра модально-субъектными смыслами, «прескриптивность» (метатекст как «рецепт творчества»), наконец, видение языка как «деятельности», . Инфинитивное письмо используется как сигнал обращенности метаязыковой рефлексии одновременно и на адресата (читателя), и на адресанта (автора), как лаконичное средство оформить лингвистические интуиции поэта в соответствии с общей установкой поэтического языка на многозначность и предрасположенность к множественности интерпретаций.
В Заключении также намечаются дальнейшие перспективы исследования: расширение сферы анализируемого материала метатекстами отдельных поэтов или литературных направлений, поиск и интерпретация иных научных контекстов с целью установления возможных точек пересечения науки и литературы; анализ глубинных дискурсивных, семиотических и др. механизмов литературной метатекстуальности, исследование типов письма, которые использует «поэтическая филология».