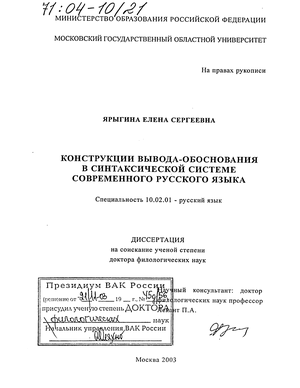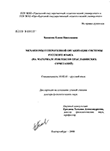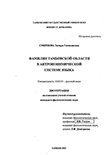Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Теоретические основы исследования конструкций вывода-обоснования 59
1. О понятии конструкция в синтаксисе 62
2. Конструкции вывода-обоснования как объект исследования и проблема разграничения собственно-причинных и
несобственно-причинных отношений 66
3. Проблема семантической интерпретации конструкций вывода-обоснования и интенциональные глаголы. .97
4. Субъективное в семантике высказывания: модус и модальность 123
5. Синтаксис текста и проблема точки зрения 145
Выводы 163
ГЛАВА II. Общая характеристика конструкций вывода-обоснования 166
1. Дифференциальные признаки конструкций вывода-обоснования 167
2. Семантическая классификация конструкций вывода-обоснования 206
3. Средства выражения модуса в конструкциях вывода-обоснования 226
Выводы 254
ГЛАВА III. Типология конструкций вывода-обоснования. . .259
1 . Конструкции вывода-обоснования в системе бессоюзного сложного предложения 260
2. Конструкции вывода-обоснования в системе сложноподчиненного предложения 314
3. Конструкции вывода-обоснования как композиционный прием организации текста 339
Выводы 368
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 373
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 379
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 380
БИБЛИОГРАФИЯ 384
- О понятии конструкция в синтаксисе
- Дифференциальные признаки конструкций вывода-обоснования
- . Конструкции вывода-обоснования в системе бессоюзного сложного предложения
Введение к работе
Активное развитие научной мысли во многом обусловлено тем, что вопросы, неоднократно обсуждавшиеся в науке, вновь встают перед учеными, требуя своего решения с привлечением новейших исследовательских данных и современного научного инструментария. В центре интересов языковедов и на современном этапе развития лингвистики остаются «вечные» проблемы соотношения языка и речи, языкового сознания носителя языка -автора высказывания; предметом оживленных дискуссий является воздействие языка на сознание и, в частности, речевоздействующий потенциал языковой системы [Баранов, 1990]. Вообще говоря, изучение языка не может происходить без моделирования речемыслительной деятельности. Речевоздействующий потенциал языковой системы проявляется в том, что посредством ЯЗЫКОВЫХ конструкций говорящая личность формирует значения, способные репрезентировать определенные структуры знания, относящиеся к коммуникативной ситуации в целом и к самому субъекту речи. В процессе общения происходит передача знаний от одного коммуникативного партнера другому, результатом которой является модификация структуры знания не только у адресата, но и у самого говорящего: его модель мира обогащается знанием о том, что некоторая информация сообщена адресату. Следовательно, «суть категории речевого воздействия заключается в таком коммуникативном использовании языковых выражений, при котором в модель мира носителя языка вводятся новые знания и модифицируются уже имеющиеся, то есть происходит процесс онтологизации знания» [Баранов, 1990: 12].
В рамках обозначенной проблемной сферы обнаруживается предмет рассмотрения настоящей диссертации - конструкции вывода-обоснования, представляющие собой воплощенную языковыми средствами структуру знания и отражающие познавательную деятелность человека. В конструкциях вывода-обоснования получает проявление и логическая форма -умозаключение. И это понятно: любые познанные человеком отношения обязательно находят отражение в языковой структуре. В частности, для дедуктивного умозаключения структурой служит причинно-следственная конструкция, которую мы называем конструкцией вывода-обоснования (КВО). Кроме того, КВО воплощает определенное речевое действие, связанное с понятием цели высказывания; следовательно, в этом речевом действии проявляется стратегия говорящего. Стратегия речевых актов, обусловленная целями говорящего, изучалась теорией речевых актов. Тем самым конструкции вывода-обоснования — это междисциплинарная область исследования, находящаяся на пересечении интересов не только разных лингвистических дисциплин, но и разных гуманитарных наук. Именно поэтому собственно лингвистическую интерпретацию КВО представляется необходимым предварить логико-философским обсуждением проблемы причины и причинности. Экскурс в риторику представляет для нас интерес с той точки зрения, что «в недрах» этой филологической дисциплины формировались и развивались языковые средства аргументации. Наконец Введение включает основные категории и понятия, которые будут использованы при синтаксическом анализе конструкций вывода-обоснования.
Основы теории логического анализа языка в Европе были заложены в трудах Аристотеля и стоиков. На протяжении всего многовекового пути развития понятия причины и причинности вызывали неистощимый интерес к себе со стороны исследователей.
«Метафизику» Аристотеля можно назвать «первой философией». Предметом ее было сущее, его атрибуты и высшие принципы, или «причины» бытия. Соответственно онтология Аристотеля основывалась на 1) категориальном анализе сущего, или учении о бытии; 2) каузальном анализе субстанции и 3) учении о возможности и действительности [ФЭС, 1983: 36]. Каузальный анализ Аристотеля ориентирован не на все сущее, а лишь на объективно сущее (т.е. имеющееся в действительности): он определяет «начала», или «причины субстанции». Итак, Аристотель установил 4-е фактора, причины, без которых данного явления быть не могло: 1) формальная (по Аристотелю, форма, или сущность); 2) материальная («то, из чего» - материя, или субстрат); 3) действующая (источник движения, или «творящее» начало) и 4) целевая (цель, или «то, ради чего», или «благо») [Аристотель, 1934: 30-38]. Весь этот комплекс взаимосвязанных причин Аристотель иллюстрировал на процессе создания скульптором статуи: в голове у творца должен сформироваться образ того, что он хочет сотворить (т.е. идеальная форма, существующая в голове деятеля в процессе создания вещи; форма статуи - это формальная причина); для создания скульптуры из мрамора должен быть материал - мрамор (это материальная причина); необходим инструмент, с помощью которого скульптор будет высекать статую (это причина действующая); кроме того, должна быть цель, ради которой скульптор все это делает (это целевая причина). Эти 4-е составляющих послужат стимулом для действий скульптора, в результате которых получится мраморная статуя. Последняя из аристотелевских причин была названа средневековыми учеными конечной причиной, или causa flnalis.
Таким образом, в "Метафизике" типология причинно-следственных отношений основана на классификации причин вещи, т.е. причин, устанавливаемых в процессе познания, а не данных субъекту в непосредственном наблюдении. При этом Аристотель представил широкое понимание: это то, без чего не могла бы существовать (или возникнуть) вещь, или следствие. Но развитие науки откорректировало идею античного философа, сохранив из 4-х предложенных им причин только одну - действующую. По этому поводу М. Бунге говорил, что наука Нового времени отказалась от формальной и целевой («конечной») причин, поскольку они стояли вне сферы эксперимента, «а существование материальных причин считалось само собой разумеющимся» [Бунге М. , 1962: 48].
Другая классификация причин - но уже причин человеческих деяний, поступков - была предложена Аристотелем в «Риторике» [Античные риторики, 1978: 49, 298]. В этой типологии он разделил все поступки людей на 1) непроизвольные и 2) произвольные; непроизвольные поступки совершаются случайно или по необходимости, которая может быть вызвана принуждением или согласовываться с требованием природы. Произвольные поступки в качестве причины могут иметь привычку либо влияние/стремление человека. Эта типология причин позволяет объяснить, куда исчезли формальная и целевая причины вещи: во второй классификации причин поступков они попадают в рубрику произвольного причинения. Следовательно, этимологически значение понятия причина связывалось с «вещью» («причина вещи» - это, по сути, процесс порождения, т.е., буквально, причинение) и с «человеком» как с деятельным началом («причину поступка» можно интерпретировать как мотивировку известного следствия, т.е. причинность). Русский язык сохранил в своей языковой картине мира понимание «действующей причины»: обычно говорят о причинах каких-либо явлений как о факторах, которые «вызывают» или «производят» следствие. А поскольку причина как фактор порождения следствия обычно ассоциировалась с действием человека, то его считали ответственным за свои поступки. Поэтому этимологи рассматривают понятие причины как в греческом, так и в латинском языках по аналогии с идеями уголовного права и справедливого возмездия: причина нарушает некое равновесие и, следовательно, несет ответственность за причиненное изменение в природе [Степанов, 2001: 951] . В русском языке закрепилось такое понимание причины: причинение осмыслялось как «виновность, вина»; этим объясняется, что наряду с термином винительный падеж употреблялся термин винословный.
Сочетание и соответствие онтологического значения причины и онтологического значения следствия, воплощающееся в комбинации двух пропозиций, философы определяют как концепцию причинности. В концепциях причинности, с одной стороны, отражается взаимодействие категорий причины и следствия, а с другой, - учитываются важнейшие онтологические категории: вещь, свойство, событие и состояние. На протяжении многовековой истории развития науки разными исследователями предлагались различные концепции причинности, в которых, как указывает Ю.С. Степанов, отражалась эволюция концепта «Причина» в европейской культуре [Степанов, 2001: 952].
Заслуга обобщения концепций причинности принадлежит Вл. Краевскому [Краевский, 1967], который предложил систематизацию понятий, связанных причинными отношениями: его интересовала онтологическая сущность того, что вообще может быть причиной, и причиной чего может служить, но не внутреннее содержание концепта «Причина». В основе классификации Вл. Краевского лежал дистрибутивный анализ, состоящий в том, что «значение слова описывается в терминах его совместной встречаемости с другими словами» [Степанов, 1995: 64]. Развитие концепций причинности представлено Вл. Краевским следующим образом:
(1) Вещь есть причина вещи (Аристотель);
(2) Вещь есть причина события (Аристотель; Фома Аквинский);
(3) Свойство есть причина события (Галилей; Ньютон);
(4) Свойство есть причина свойства (Гоббс; Локк);
(5) Состояние есть причина состояния (Лаплас; современная физика);
(6) Событие есть причина события (Юм; современная философия).
В результате исследователь приходит к выводу о том, что наиболее частотной и распространенной ипостасью понятия причина является событие как некоторая целостная (не делимая внутри) ситуация, повлекшая за собой другую ситуацию. Наиболее четкое, однако не связанное с языковой системой определение события находим у Г.Х фон Вригта: «...понятие события можно анализировать (определять) с помощью понятия положения дел. Можно сказать, что событие представляет собой пару последовательных положений дел» [фон Вригт, 1986: 50]. Такое понимание причины стало господствующим к середине 60-х гг. XX века. Как отмечает Ю.С.Степанов, «в современной философии (кроме томизма), до работ Г.Х.фон Вригта, концепция событие -событие господствовала почти безраздельно. В рамках этой концепции возникли столь важные для семиотического подхода понятия «носителя (причины, следствия)» и «следа (причины, следствия)» [Степанов, 1995: 66].
Следующим этапом развития представления о причине явился вывод Зено Вендлера о том, что «Причины - это факты, а не события» [Вендлер, 1986: 265, 268, 270, 275], который может служить завершающей концепцией в списке Вл. Краевского: (7) факт есть причина события [Степанов, 2001: 953].
Заслуга 3. Вендлера состоит в том, что понятия факт, событие, причина он связывает с их языковым оформлением, на фоне которого показывает их сходства и отличия. Прежде чем обратиться к существу работы Вендлера, коснемся вопроса о логико-философской природе понятия факт.
Гносеологическую и логико-философскую природу факта безотносительно к проблеме причинности вскрывает в своей книге «Человеческое познание: Его сфера и границы» Б. Рассел. Основное положение Рассела состояло в отрицании того, что имя является языковым символом для факта: «Факты могут быть утверждаемы или отрицаемы, но не могут быть именуемы. (Когда я говорю «факты могут быть именуемы», - это, строго рассуждая, бессмыслица. Не впадая в бессмыслицу, можно сказать только так: «Языковой символ для факта не является именем» [Рассел, 1957: 43]. Природа факта, по Расселу, сенсорна и эмпирична: факты могут быть наблюдаемы, воспринимаемы, ощущаемы: «Факт» в моем понимании этого термина может быть определен только наглядно. Все, что имеется во Вселенной, я называю «фактом». Солнце -факт; переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт. Если я что-нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть факт, и если мое утверждение истинно, то имеется факт, в силу которого оно является истинным, однако этого факта нет, если оно ложно... Факты есть то, что делает утверждения истинными или ложными» [Рассел, 1957: 177]. Понятие «событие» понимается либо как синоним понятия «факт», либо как один из вариантов «факта». Вполне соответствующим «факту» языковым символом является предложение (пропозиция), или атомарное предложение [Степанов, 1995: 46]. Итак, по Б. Расселу, атомами, «кирпичиками» объективного мира являются не «вещи», а «факты», или «события», имеющиеся объективно. Факты являются исходными, а утверждения о фактах (истинные утверждения) - производными, вторичными по отношению к фактам. Наиболее оптимальным языковым выражением «факта» служит атомарное предложение (пропозиция) - минимально представленная «пространственно-временная порция».
Иной подход к факту можно наблюдать в упомянутой выше статье 3. Вендлера «Причинные отношения». Вендлер соединил онтологические истоки причины с анализом ее проявления в языке в виде причинных утверждений. Признавая событие «первичным элементом онтологии причинных отношений» [Вендлер, 1986: 264], исследователь добавляет к ним также категорию факт , при этом в причинно-следственной цепочке факт является первичным, исходным как порождающее, или причина, а событие - вторичным как порожденное, или следствие. Категория причины семантически значительно ближе категории факт, нежели категории событие. Различие между фактом и событием проявляется на языковом уровне: сами эти слова как лексические единицы имеют разную сочетаемость в английском языке и охватывают своим содержанием различные сущности. В частности, под категорию факта попадают идея, мнение, мысль, теория, предложение, ходатайство и т.д. [Вендлер, 1986: 267]. Анализируя языковую дистрибуцию самих лексем факт и событие в английском языке, 3. Вендлер заметил, что она различна. В частности, слово факт в роли дополнения может выступать при глаголах упоминать, отрицать, припоминать, забывать; в роли подлежащего - при глаголах удивлять, возмущать, указывать и при присвязочных прилагательных типа вероятный, возможный, маловероятный. «Представляется, что во всем этом семействе есть нечто пропозициональное», - отмечает Вендлер [Вендлер, 1986: 269]. Слово событие имеет иное окружение: глаголы наблюдать, обозревать, слушать, изображать; происходить, иметь место, начинаться, длиться, заканчиваться; прилагательные быстрый, медленный, внезапный, длительный и т.п., имеющие «перцептуальные и темпоральные признаки» [Вендлер, 1986: 269]. Основное различие между фактами и событиями состоит в способе их представления - факты выражаются полностью номинализованными группами (словосочетаниями), а события -неполностью номинализованными группами (словосочетаниями). Итак, по 3. Вендлеру, «причина» - это «факт», а не «событие», в то время как «следствие» - это «событие». В этом просматривается некоторая несоразмерность, асимметрия между причиной и следствием, которая успешно преодолевается автором приведением лингвистических аргументов. С выводами Вендлера перекликается более поздняя мысль Н.Д. Арутюновой, также обратившейся к интерпретации категории факт . «Представление о том, что факты первичны, а суждения, о них сделанные, вторичны, ошибочно. Суждение структурирует действительность так, чтобы можно было установить, истинно оно или ложно... Факты не существуют безотносительно к суждениям. Существует лишь некий аналог, отвечающий выраженному в суждении концепту. В этом смысле суждение задает факт, а не факт - суждение. Реальность существует независимо от человека, а факт - нет. Человек вычленяет фрагмент действительности, а в нем определенный аспект, концептуализирует его, структурирует по модели суждения (то есть вводит значение истинности), верифицирует, и тогда только он получает факт» [Арутюнова, 1988: 153]. Факт, не являясь онтологической единицей, а относясь к сфере эпистемологии, формируется только в границах суждения (то есть в форме человеческой мысли), оформленного высказыванием. Таким образом, факт может быть обнаружен только будучи констатированным, воплощенным в определенной языковой форме, то есть «лишь там, где имеются группы предложений (высказываний), заведомо относящихся к одной и той же ситуации и являющихся перифразами друг друга» [Степанов, 2001: 956]. А это значит, что факт - категория релятивная по отношению к человеку, формулирующему его, и, значит, по отношению к языку. Следовательно, и причина, обладающая фактуальной сущностью, так же категория релятивизованная. Эта релятивность причины имеет два направления - по отношению к системам наблюдения и эксперимента и по отношению к системе языка. «Нет концепта причины вне данного языка» [Степанов, 1998: 524].
Работая в рамках широко понимаемой аналитической философии, Г.Х. фон Вригт отстаивает принципиальное значение строгих логических, рациональных методов. Внимание фон Вригта привлекают такие динамические логические категории, как, например, категории действия, причинности. Изучая связи между понятиями причины и действия, анализируя мотивы и поступки, философ рассматривает отношения между каузальностью и детерминизмом, свободой и детерминацией. Теория детерминизма, как известно, строится на идее «всеобщей причинной материальной обусловленности природных, общественных и психических явлений», которая предполагает, что «все существующее возникает или уничтожается закономерно, в результате действия определенных причин», как следствие «связи всего», «цепи причин»; «все формы связей вещей, в том числе и причинно- следственные связи, свойственны самой реальности, каждое явление которой имеет свое объективное основание и материальную причину» [ФЭ, 1960: 464]. Решая вопрос о том, «предполагает ли причинность свободу» или, напротив, «причинность угрожает свободе», он пишет: «... утверждение о том, что причинность предполагает свободу представляется мне верным в том смысле, что к идеям причины и следствия мы приходим только через идею достижения результата в наших действиях». И далее: «каузальные связи существуют относительно фрагментов истории мира, которые носят характер закрытых систем (по нашему обозначению). В обнаружении каузальных связей выявляются два аспекта - активный и пассивный. Активный компонент — это приведение систем в движение путем продуцирования их начальных состояний. Пассивный компонент состоит в наблюдении за тем, что происходит внутри систем, насколько это возможно без их разрушения. Научный эксперимент, одно из наиболее изощренных и логически продуманных изобретений ума, представляет собой систематическое соединение этих двух компонентов» [фон Вригт, 1986: 116]. Именно «закрытость системы», в которой проявляются и обнаруживаются причинно-следственные связи, ее замкнутость свидетельствует о том, что причинность не может «угрожать свободе».
Причинность Г.Х. фон Вригт связывает с методами изучения гуманитарных и социальных наук, с принципами построения научной теории. При этом он разграничивает гуманитарные науки, в его терминологии, - герменевтические (науки о человеке), и естественные науки (номотетические, в терминологии фон Вригта, т.е. науки о природе). Стремясь рационально понять область гуманитарных наук и подводя под нее логическую базу, фон Вригт рассматривает две традиции в научном и философском мышлении: галилеевскую, направленную на познание и постижение природы, и аристотелевскую, гуманистическую, ориентированную на человека и на гуманитарную научную сферу. Галилеевская традиция, по Г.Х. фон Вригту, соотносится с каузальным осознанием мира и названа «каузальным объяснением»; аристотелевская ассоциируется с «телеологическим пониманием». Понимая безапелляционность подобного подхода, автор показывает, что это одна из тенденций современной философии, которую не следует рассматривать как абсолютную и безоговорочную. Итак, «каузальное объяснение», свойственное естественным наукам, противополагается «телеологическому пониманию», характерному для гуманитарных наук. «Причинность традиционно противопоставляется телеологии, а каузальное объяснение — телеологическому. Каузальное объяснение обычно указывает на прошлое. «Это произошло, потому что (раньше) произошло то» - типичная языковая конструкция таких объяснение. Таким образом, в них предполагается номическая связь между причинным фактором и фактором-следствием. В простейшем случае — это отношение достаточной обусловленности.
Телеологические объяснения указывают на будущее: «Это случилось для того, чтобы произошло то». Здесь также предполагается номическая связь, в типичном случае - отношение необходимой обусловленности. Однако в отличие от каузального объяснения допущение номической связи включено в телеологическое объяснение более сложным образом, так сказать, косвенно. Справедливость объяснения, которое я предлагаю назвать «подлинно» телеологическим объяснением, не зависит от справедливости включенной в него номической связи. Например, утверждая «Он бежит для того, чтобы успеть на поезд», я тем самым указываю, что этот человек считает (при данных обстоятельствах) необходимым и, может быть, достаточным бежать, если он хочет попасть на станцию до отхода поезда. Его убеждение может оказаться ошибочным: не исключено, что, как бы быстро он ни бежал, он все равно опоздает. Независимо от этого, однако, мое объяснение его действия может быть правильным» [фон Вригт, 1986: 116-117]. Телеологическое понимание — это, по сути ответ на вопрос «Для чего случилось что-то?» Следствие телеологического объяснения, как правило, передает «некоторый образец или результат поведения» [фон Вригт, 1986: 119], а поведение - это действия человека. Следовательно, телеологическое объяснение — это интерпретация деятельности, направленной на определенный результат. Такая интерпретация называется «пониманием» потому, что «в слове «понимание» содержится психологический оттенок, которого нет в слове «объяснение». Кроме того, «понимание особым образом связано с интенционалъностъю. Можно понять цели и намерения другого человека, значение знака или символа, смысл социального института или религиозного ритуала» [фон Вригт, 1986: 45]. Как видим, в рамках единой логико-философской концепции фон Вригт связывает понятие «причина» с понятием «целевая причина», которую непосредственно соотносит с анализом человеческой деятельности, обусловленной определенными интенциями. «Область, традиционно, относимую к телеологии, можно разделить на две подобласти. Первая - это область понятий функции, цели (полноты) и «органического целого» («системы»). Вторая - это область целеполагания и интенционалъности» [фон Вригт, 1986: 54].
В отличие от телеологического понимания, каузальное объяснение строится на номической связи явлений:
«...отличительным признаком номической связи, законоподобности, является не универсальность, а необходимость» [фон Вригт, 1986: 59] и, следовательно, основано на идее детерминизма, признающего объективную закономерность и причинную обусловленность всех явлений природы и общества и отмечающего чрезвычайное многообразие типов причинных связей. Поэтому каузальное объяснение фон Вригт называет также подводящей теорией объяснения, подразумевая под этим «объяснение посредством подведения под закон» [фон Вригт, 1986: 60]. Таким образом, каузальное объяснение, или подводящая теория объяснения, - это суждение, выражающее законы природы в чистом виде.
Концептуальное различие между каузальным объяснением и телеологическим пониманием Г.Х фон Вригт проводит с привлечением понятия практического силлогизма, или практического вывода. Это понятие чрезвычайно важно для осмысления и интерпретации действия. Практический силлогизм как умозаключение, ведущее к действию, в отличие от теоретического силлогизма, способствующего приобретению нового знания, известен еще со времен Аристотеля; позднее это понятие под названием вывода действия было разработано Гегелем [Гегель, 1972: 196].
В чем особенность практического силлогизма, по Г.Х. фон Вригту? «...практический силлогизм не является формой доказательства,... рассуждение этого типа качественно отличается от доказательного силлогизма. Тем не менее его свойства и отношение к теоретическому рассуждению сложны и до сих пор остаются неясными.
Практический силлогизм имеет огромное значение для объяснения и понимания действия. Главная идея данной книги заключается в том, что именно практический силлогизм является той моделью объяснения, которая так долго отсутствовала в методологии наук о человеке и которая является подлинной альтернативой модели объяснения через закон. Как подводящая модель является моделью каузального объяснения и объяснения в естественных науках, так практический силлогизм является моделью телеологического объяснения в истории и социальных науках» [фон Вригт, 1986: 64].
Для целей данного исследования значимость понятия практический силлогизм определяется средоточием в нем важнейших аспектов причинно-следственной связи: 1) связь с языком ; 2) соединение понятий причины и цели [Степанов, 2001: 962]; 3) асимметрия причины и следствия 4) выводной (следственный) компонент практического силлогизма — это интерпретация интенционально понятого поведения. Кроме того, принципиальное значение этого понятия состоит в том, что практический силлогизм - это, по сути, модель соединения мыслительного пространства с реально существующим миром, сама в свою очередь являющаяся продуктом ментальной деятельности.
Рассуждения фон Вригта по поводу связи практического силлогизма (практического вывода) с языком тесно соприкасаются с мыслями 3. Вендлера о категории «факт» и ее взаимосвязи с языком. В частности, фон Вригт, анализируя практический вывод «А намеревается осуществить (вызвать) р. А считает, что он не сможет осуществить р, если он не совершит а.
Следовательно А принимается за совершение а» [фон Вригт, 1986: 127-128], сначала утверждает, что эта схема может иметь альтернативные варианты: «Например, в первой посылке вместо «намеревается» можно сказать «стремится», «преследует цель» или даже «хочет». Во второй посылке вместо «считает» можно говорить «думает», «верит» или иногда «знает». Наконец, в заключение вместо «принимается за совершение» можно было бы сказать «начинает совершать», или «приступает к совершению», или просто «совершает». Таким образом, выражение «приниматься за совершение» означает, что действие уже началось. Я вовсе не утверждаю, что все названные альтернативы являются синонимами. Я просто считаю, что использование одного, а не другого выражения никак не отражается на сущности проблемы, которую мы рассматриваем и решение которой собираемся предложить». Однако сразу же в примечании к этой главе фон Вригт оговаривается, указывая, что «логической особенностью практических выводов является то, что их посылки и заключение обладают свойством, называемым «неопределенностью референции». Оно означает, что нельзя без ограничения заменять описания выражаемых в них положений дел и результатов действия другими описаниями тех же положений дел и результатов. Действие, интенциональное при одном описании его результата, не обязательно будет интенциональным при другом описании его, а средства достижения цели, рассматриваемые как необходимые при одном описании, не обязательно будут таковыми при другом» [фон Вригт, 1986: 231]. Это ограничение на субституцию одних языковых выражений другими связано с тем, что каждый отдельный практический вывод принадлежит конкретному субъекту в рамках определенных «фрагментов истории мира», имеющих «характер закрытых систем». Понятие фрагмента истории мира как закрытой системы можно соотнести, используя современную терминологию, с понятиями ментального мира, или возможных миров, а точнее, с одним из возможных миров.
В понятии практического силлогизма (практического вывода) органично сочетаются оба подхода: каузальное объяснение и телеологическое понимание. Это становится очевидным из следующего положения автора: «Схема практического вывода - это «перевернутая» схема телеологического объяснения. Исходный пункт телеологического объяснения (действия) следующий: некто принимается за совершение какого-либо действия или, проще, некто что-то делает. Мы спрашиваем: «Почему?» Часто ответ прост: «Для того, чтобы осуществить /?». Считается, таким образом, несомненным, во-первых, что агент рассматривает поведение, которое мы пытаемся объяснить, причинно связанным с осуществлением р и, во-вторых, что осуществление р -это именно то, к чему агент стремится или предназначает свое поведение. Не исключено, что, считая свое действие каузально связанным с желаемой целью, агент ошибается. Однако его заблуждение отнюдь не делает недействительным предлагаемое объяснение, поскольку к существу дела относится только то, что агент думает» [фон Вригт, 1986: 128]. Как видно из приведенной цитаты, в практическом выводе соединяются одновременно каузальная и интенциональная позиции.
Итак, анализ работы Г.Х. фон Вригта наглядно показывает, что понятия причина и причинность не только не сходят с арены логико-философских дискуссий, но и активно развиваются.
Диалектика развития понятий причины, причинности происходит не просто по пути логико-философского углубления их сущности, но и посредством их эскалации, расширения границ ареала анализируемых понятий. Применительно к лингвистике это явление выражает одну из характерных тенденций в развитии науки конца 20 века - тенденцию экспансионизма, которая проявляется, в частности, «и в возникновении новых «сдвоенных» наук (см. психолингвистику и социолингвистику, социо- и психосемантику, семантику синтаксиса и пр.), и в упрочении традиционных связей лингвистики с философией и логикой (благодаря чему на их границах вычленяются новые школы - ср., например, школу логического анализа языка или лингвистические исследования философов-аналитиков), и в возникновении новых дисциплин..., и в формировании новых областей знания внутри самой лингвистики (ср. лингвистику текста, трансфрастику, теорию речевых актов и т.п.). ... Все это вместе, действительно, напоминает некую «расширяющуюся вселенную», исследование каждого звена которой усложняется и претерпевает значительные изменения именно в сторону их расширения» [Кубрякова, 1995: 208-209].
Стремление к расширению сферы использования обнаруживается также и в том, что важнейшие логико-философские понятия становятся основополагающими понятиями национальной культуры народа.
Тенденция экспансионизма находит конкретное воплощение в современном способе представления анализируемых понятий. В частности, в фундаментальной работе Ю.С.Степанова «Константы: Словарь русской культуры» [Степанов, 2001] понятия причина и цель осмысляются не просто как философские, но как культурологические, обладающие статусом концепта. Концепты — это основополагающие понятия русской культуры, в совокупности составляющие ее базу, тот фундамент, на котором формируется русский менталитет как образ мышления и мировосприятия, «коллективное бессознательное» [Степанов, 2001: 4]. Число базовых концептов невелико - 40-50 - , но «сама духовная культура всякого общества состоит в значительной степени в операциях с этими концептами» [Степанов, 2001: 5] (автор рассматривает такие, например, концепты, как «Мир» (вокруг нас), «Ментальный мир» (в нашем сознании), «Слово», «Вера», «Любовь», «Язык», «Страх», «Число, Счет», «Свои» и «Чужие» и др.). Слово «константа» предполагает неизменность и устойчивость выбранных концептов в русской культуре с того самого момента, как они появились. Тем самым концепт как термин культурологии отличается от понятия; последний термин употребляется в логике и философии. (Правда, понятие концепт употребляется и в математической логике, из которой он, собственно, и был заимствован культурологией). Термин концепт, обладая собственным статусом, безусловно, связан определенными отношениями с терминологическими системами в других дисциплинах. В частности, лингвистический аспект концепта состоит в том, что это - ментальная сущность: концепт существует, с одной стороны, в человеке, с другой стороны, - для человека и одновременно как бы «над человеком» [Фрумкина, 1995: 89]. Другими словами, концепт - это смысл, лишенный модуса; концепт не принадлежит никому в отдельности (именно поэтому в нем нет внутреннего мира носителя концепта) и в то же время является коллективным достоянием русской духовной жизни всего общества, «это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт - это то, посредством чего человек -рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» -сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов, 2001: 47]. Будучи «пучком» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, концепты, в отличие от понятий, не только мыслятся, но и переживаются, вызывают симпатии или антипатии того, кто к ним обращается в своем ментальном пространстве. Поскольку содержание концепта, его смысл передается использованием лексических единиц русского словаря (то есть в самом названии концепта, например, «Грех», «Закон», «Отцы и Дети», «Правда и Истина» и т.д.), постольку само употребление данного термина можно считать выходом лингвистики к проблемам «языка и истории», «языка и культуры», «языка и мысли». Концепты, по сути, ориентированы на понимание взаимосвязей языка с духовной культурой народа и народным менталитетом. В этом смысле, выражаясь словами Дж. Лайонза, можно сказать, что «Константы: Словарь русской культуры» является «не только «антропоцентрическим» (организованным в согласии с общечеловеческими интересами и ценностями), но и «культурно-связным» (отражающим более конкретные установления и виды практической деятельности, характерные для разных культур» [Лайонз, 1978: 481], в частности, русской.
Трансформация логических понятий причина, причинность из принципов мышления в концепты культуры происходит благодаря их неразрывной связи с языком, взаимоотношениям с концептом ЦЕЛЬ и процессу эволюции, «начиная от Аристотеля до наших дней». Именно этим обусловлена необходимость (смысл) включения данных логических понятий в «Словарь русской культуры»; причем, как отмечает Ю.С. Степанов, эти концепты и до сих пор еще «подвижны», а поэтому они по праву занимают свое место среди других констант: значительное влияние научных понятий на представления людей данной культуры - вполне типичное явление [Степанов, 2001: 949 -950].
Существенной концептуальной особенностью ПРИЧИНЫ является свойство релятивности, проявляющееся в интеграции двух явлений: одно из них, причина, выступает как достаточное «основание», повод для возникновения другого - следствия. Благодаря этому свойству концепт Причина наиболее рельефно проявляется в соединении двух суждений и, соответственно, двух предложений. И поэтому «в словесной форме содержание этого концепта прослеживается во всех языках точнее и подробнее в предлогах и союзах, связывающих предложение и выражающих причину, нежели в именах существительных, имеющих значение «причина» [Степанов, 2001: 952]. Следовательно, трансформация логико-философских понятий причина, причинность в культурологический концепт происходит на языковой основе.
Говоря о том, что причина представляет собой достаточное основание для появления следствия, считаем необходимым дифференцировать отношения «причина - следствие», с одной стороны, и «основание - следствие» - с другой. В терминологическом смысле слова «причина» не есть «основание», причина - это факт, который мыслится говорящим как необходимое и достаточное условие для возникновения последующего события, следствия , основание - это такое положение дел, которое оценивается субъектом-агенсом как стимул к целенаправленному действию именно с его собственной точки зрения.
Содержательная концентрация концепта ПРИЧИНА детерминируется включением в него различных понятий: таких, как вещь, человек, действие. Эта смысловая насыщенность является тем фундаментом, на котором происходит сближение концептов ПРИЧИНА и ЦЕЛЬ, поскольку действие и человек также входят в комплекс понятий, относящихся к обоим концептам. Близость Причины и Цели осознавал еще Аристотель, выделивший в числе причин вещи целевую причину как «то, ради чего», или благо. Это аристотелевское понятие в средневековье воплотилось в термине «causa finalis» - «конечная причина». Для нас важно выяснить случаи параллельного существования понятий причины и цели и точки их пересечения.
А.К. Жолковский в статье «Лексика целесообразной деятельности» вскрыл органическую связь цели с некоторым действием субъекта-лица; эта связь предполагает постоянный (неизменный) комплекс понятий желания, намерения, содержания (предмета) желания, каузации и результата каузации: целью некоторого действующего лица X является нечто, что хочет X, который при этом считает, что он обладает достаточными ресурсами (объектами и действиями) каузировать осуществление своего желания [Жолковский, 1964].
По мнению Н.Д. Арутюновой, понятия причины и цели глубоко различны, критерии этого различия состоят в следующем: «Причина устанавливается в результате ментальных операций. Ее существование необходимо. Оно не зависит от человека. Цель требует действия. Причины существуют, цели осуществляются. Причины проецируются в прошлое, цели в будущее. Суждение о причинных отношениях нуждается в верификации, суждение о цели - в реализации. Человек ищет существующие в реальном мире причины явлений, но создает возможный мир желательных для него положений дел. В первом случае он занят исследованием, во втором - созиданием» [Арутюнова, 1992: 15]. При всех указанных различиях, в языке, однако, причина и цель далеко не всегда дифференцируются. Это происходит тогда, когда на вопрос «почему?» мы получаем ответ о цели, например: - Почему ты не выполнил задание? - Чтобы у тебя было чем занять себя; - Почему ты нагрубил бабушке? - Чтобы не приставала; или, напротив, при вопросе «зачем?» получаем ответ о причине, например: - Зачем ты приехал в город? - Потому что хочу поступить в институт. В чем суть этого явления? Дело в том, что в понятии действия часто объединяются мотивы и цели, которые суть не одно и то же. В чем различие между мотивом и целью? Мотив непосредственно связан с целеустановкой субъекта-деятеля. Выше мы обращались к понятию основания. Мотив противопоставляется основанию тем, что вызывает не само, действие, а лишь «спрос», потребности, устремления, установки агенса, которые, в свою очередь, детерминируют его действия и поступки. Если мотив связан с потребностями, то понятие цели непосредственно раскрывает содержание этих потребностей. «Цель есть обусловливающий фактор особого рода: целью называют такое положение вещей, которое порождает человеческую деятельность своим отсутствием, непосредственной причиной человеческой деятельности оказывается осознание необходимости достигнуть этой цели (добиться определенного результата), желание ее достигнуть» [Онипенко, 1985: 58]. В понятии цели одновременно отражается как ретроспективное, так и перспективное представление каузативной ситуации: желание добиться чего-то можно реализовать опосредованно - через «промежуточное» действие; осознание возможности причинения вызывает желание его осуществить; путь к цели есть осуществление желания; если реализованное желание есть следствие действия, то само действие представляет собой следствие желания. «Adv Fin выражает причинную зависимость обратную: причина реализуемого действия/состояния является на самом деле его следствием, или же его целью: «Субъект делает X, чтобы было У». Следовательно в Adv Fin отражается вполне осознанное и активное отношение субъекта-производителя действия к реализации действия, в отличие от Adv Caus, Adv Cond и Adv Cons, которые являются с этой точки зрения беспризнаковыми, то есть выражают как невольное, так и вполне осознаваемое с точки зрения производителя действия действие. Adv Fin является причиной всегда потенциальной» [Русская грамматика, 1979: 778-779].
Мотив может быть осознанным или же инстинктивным; действие, осуществляемое ради какой-то цели, всегда сознательное. Обусловленность мотивов желаниями и потребностями, с одной стороны, а цели - созданием возможного мира, с другой, не препятствует тем не менее тому, что они «могут иметь одно пропозициональное содержание, различаясь только по модальности. ...Общность пропозиционального содержания мотива и цели действия ведет к их неразличению» [Арутюнова, 1992: 25]. Близость концептов ПРИЧИНА и ЦЕЛЬ осуществляется через понятие мотива. Причина и мотив проявляют общность в том, что оба понятия по темпоральному признаку являются предшествующими: причина по отношению к следствию, а мотив — к цели. Транспонируясь во внутренний мир человека, причина «идентифицируется с мотивом действия, приобретает свойственную ему субъективную модальность и входит в контакт с целью действия. Пара «мотив — цель» заменяется парой «причина — цель» [Арутюнова, 1992: 15]. Это происходит тогда, когда необходимо дифференцировать мотив и цель, например: пошел в магазин, чтобы купить продукты; погладила блузку, чтобы пойти в ней на вечер. Таким образом, по отношению к человеческой деятельности мотив действия (но не его цель!) может замещать понятие причины.
Итак, логико-философское понятие причины, пройдя многовековой путь развития, обогатилось многими новыми идеями, благодаря чему трансформировалось в концепт культуры русского народа. В настоящей работе понятия причины, причинности употребляются не в культурологическом, а в логико-философском смысле, как категории, отражающие способ бытия и принцип мышления. Такое использование предполагает рассмотрение причины в рамках следующих проблем: 1) причина изучается не просто в паре «причина - следствие», но в системе, которую можно обозначить термином Ю.С. Степанова «полное описание состояния»; 2) причина не может рассматриваться вне языка, а только в тесной связи с языковой системой; 3) причина - это факт, а не событие; следствие - это, напротив, событие; 4) «оттенки» порождающих сущностей, такие как причина, мотив, основание различаются друг с другом; 5) при анализе причины не может игнорироваться цель как «родственное» причине понятие [Степанов, 2001: 950-951].
Заключая экскурс в обсуждение проблемы причины и причинности, обратимся еще раз к словам Г.Х. фон Вригта, справедливо отметившего, что «...каузальные идеи и каузальное мышление все же не так устарели, как можно было бы полагать, исходя из изменений в терминологии, то есть из распространения термина «функциональное» отношение вместо «причинного» [фон Вригт, 1986: 72]. Все понятия и категории, возникшие сначала для мира и существующие в объективной действительности, погружаясь в "человеческую сферу", осмысляются человеческим сознанием, "впитываются" им и служат мыслящему субъекту для дальнейшего познания окружающего мира.
В заключение представляется необходимым обратиться к проблеме метаязыка интерпретации КВО - основного объекта исследования в настоящей работе: обобщим и определим те основные понятия, которые будут использованы при описании КВО.
Поскольку КВО как объект изучения находятся в зоне пересечения интересов разных гуманитарных наук, то для их анализа будут привлекаться не только лингвистические, но и логические и философские термины.
УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ - умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий мысли различного содержания; Умозаключение реализует в плане «внутренней речи присущие индивидуальному (или общественному) сознанию нормы и типы связи, являющиеся в каждом отдельном случае психологической основой умозаключения» [ФЭС, 1983: 701].
ДЕДУКЦИЯ (от лат.сіесіисііо - выведение) - переход от общего к частному; в более специальном смысле термин Дедукция обозначает процесс логического вывода, т.е. перехода по тем или иным правилам логики от некоторых данных предложений-посылок к их следствиям (заключениям). Термин Дедукция употребляется и для обозначения конкретных выводов следствий из посылок (т.е. как синоним термина вывод в одном из его значений) [ФЭС, 1983: 139]. В настоящем исследовании термин «дедукция» будет употребляться во всех указанных значениях.
СИЛЛОГИЗМ - форма дедуктивного умозаключения, в которой из двух высказываний (посылок) определенной субъектно-предикатной структуры следует новое высказывание (заключение) той же логической структуры [ФЭ, 1970: 7].
ВЫВОД (в математической логике) — рассуждение, в ходе которого последовательно получается ряд связанных друг с другом предложений. Некоторые из числа этих предложений не обосновываются в пределах данного Вывода и называются либо аксиомами, если их истинность принимается нами без доказательства, либо же посылками или гипотезами этого Вывода, а истинность каждого из остальных предложений вытекает из истинности каких-то ранее сформулированных в данном Выводе предложений. Часто Выводом также называется не само рассуждение, а лишь его заключительный результат - последнее предложение в цепи связанных между собой предложений [ФЭ, 1960: 308]. В данной работе понятие вывод мы будем использовать именно в последнем значении как «заключительный результат рассуждения».
ОБОСНОВАНИЕ - в логике и методологии науки процесс оценки различных форм знания - утверждений, гипотез, теорий - в качестве компонентов системы научного знания с точки зрения их соответствия функциям, целям и задачам этих систем [ФЭ, 1967: ПО]. В настоящем исследовании понятие обоснование будет употребляться в широком значении, то есть как оценка в системе ментальной деятельности, оценка результата этой деятельности: обоснованию подвергается вывод как конечный результат рассуждения.
ПРИЧИННОСТЬ - генетическая связь между отдельными состояниями видов и форм материи в процессах ее движения и развития. Вопрос о Причинности непосредственно связан с пониманием принципов строения материального мира и его познания. На основе Причинности организуется материально-практическая деятельность человека и вырабатываются научные прогнозы [ФЭС, 1983: 531].
ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ - философские категории, отображающие одну из форм всеобщей связи и взаимодействия явлений. Под Причиной (лат. causa) понимается явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит или влечет за собой другое явление; последнее называют Следствием [ФЭС, 1983: 531].
Транспонирование проблемы причинности на лингвистическую почву предполагает анализ языковых средств выражения причинно-следственных отношений. Здесь мы "погружаемся" в проблему языковой компетенции, то есть рассматриваем связь языка с говорящим на этом языке. Средства выражения причинно-следственных отношений используются говорящим для адекватного представления познанных субъектом реальных причинно-следственных отношений, то есть являются способом субъективного отражения объективных закономерностей. Следовательно, выявление, обнаружение или установление причинно-следственных отношений принадлежит говорящему, а организация причинно-следственной конструкции обусловлена определенной точкой зрения.
Сущность причины в том, что она порождает, вызывает следствие. Но причина - не единственное порождающее начало, есть другие типы порождения, такие как, например, условие, основание, мотив, повод, предлог, стимул, уступка. Поэтому естественно предположить, что не может быть причины "в чистом виде", что причина - это то общее, что существует в каждом из "оттенков" порождающих сущностей. Потому инвариантное значение причины существует в нашем сознании лишь как результат абстрагирующей и обобщающей деятельности нашего сознания и формируется суммой вариантов «порождающих начал». «Оттенки» причины дифференцируются по степени их активности в порождении следствия [Онипенко, 1985]. Итак, ПРИЧИНА - это факт, который мыслится говорящим как необходимое и достаточное условие для возникновения (начала) последующего события (следствия).
ОСНОВАНИЕ - это такое положение дел, которое оценивается субъектом-агенсом как стимул к целенаправленному действию с его собственной точки зрения.
ПОВОД - такое положение дел, которое рассматривается субъектом-агенсом как достаточное (по нормам данного социума) основание для начала его деятельности. Повод предполагает, что действие оценивается говорящим как контролируемое сознанием деятеля и вызванное определенной причиной, связанной с моральными или физическими потребностями деятеля. Повод ликвидирует препятствие к началу деятельности.
СТИМУЛ - это положение дел, сопутствующее основной причине и усиливающее ее действие, ускоряющее возникновение следствия.
МОТИВ - это положение дел, непосредственно связанное с целевой установкой субъекта-агенса; мотив вызывает не само действие, а лишь "спрос", потребности, устремления, установки агенса, которые, в свою очередь, детерминируют его поступки. Мотив всегда выявляется с точки зрения говорящего.
Языковые средства аргументации, которые в настоящей работе названы конструкциями вывода-обоснования, были основным объектом внимания и такой научной дисциплины, как риторика, которая сформировалась в V - IV в. до н.э. и понималась не как наука, а как ораторское искусство. Предметом риторики являлась публичная речь, способы ее организации и «украшения», а основная задача состояла в нахождении приемов убеждения аудитории; тем самым теория аргументации уже в то время составляла главное содержание риторики. Однако риторика рассматривала языковые средства аргументации по-своему, исходя из конкретных задач публичной речи.
Представляется необходимым обратиться к текстам классических риторик, с тем чтобы выявить и соединить те наблюдения, которые касаются КВО, поскольку результаты изучения и рекомендации, собранные из образцовых речей в риториках, представляют большой интерес для более поздних исследований. Отдельно остановимся на отношениях между грамматикой и риторикой.
Возникновение риторики относится к эпохе античности. В науке этого периода разграничивалось три раздела: физика - знание о природе, этика - знание об общественном устройстве и логика -«знание о слове как инструменте мышления и деятельности» [Волков, 2001: 4]. Образование строилось именно на логических науках, или органоне, в состав которого входили семь свободных искусств: грамматика, диалектика, риторика, арифметика, музыка, геометрия и астрономия. С грамматикой как системой знаний о правилах построения осмысленной речи близко соприкасалась поэтика как наука о художественном слове - своего рода «лаборатория языка». Диалектика изучала способы обсуждения и решения проблем и технику научного доказательства, что сближало ее с риторикой как системой знаний «об аргументации в публичной речи, необходимой при обсуждении вопросов практического характера» [Волков, 2001: 4-5].
Родоначальниками риторики были классические софисты V в. до н.э., придававшие огромное значение слову и силе его убеждения. Софисты, называвшие себя «учителями мудрости», ставили задачу на основе риторики создать новую систему воспитания. Привлекая учеников и последователей обещанием сформировать из них зрелых политических деятелей, способных посредством ораторского мастерства убеждать в своей правоте оппонентов и побеждать противников в споре, софисты тем самым разрушали старые этические нормы. Становление новой этики предполагалось осуществлять на основе острых идеологических дискуссий, необыкновенно популярных для политической жизни греческого полиса [Меликова-Толстая, 1996: 155]. Тем самым развитие риторики вызвано экстралингвистическими факторами -социально-идеологическими процессами в жизни греческого этноса, значительной ролью ораторской речи в политической жизни общества и широкими перспективами в ней для красноречия.
Если сначала риторика занималась способами и приемами доказательств и характером построения убедительной речи, то под влиянием взглядов философов-пифагорейцев, изучающих воздействие на душу человека звуков, и в первую очередь музыкальных, она вынуждена была раздвинуть свои границы: самый язык, стили речи как эффективный психологический прием влияния на аудиторию также становятся предметом риторики. Так, один из первых софистов и риторов Горгий, считающий риторику «мастером убеждения», выделяет стиль речи и ее звуковую сторону в качестве важных средств, позволяющих оратору «вести за собою» душу слушателя [Меликова-Толстая, 1996: 156].
Активное риторическое движение конца V - начала IV вв. до н.э. реализовалось в создании ряда школ, ставящих своей задачей обучение искусству красноречия. При этом следует учитывать, что для античной традиции первостепенное значение имеет не искусство само по себе, а лишь мастерство [Лосев, 1978: 6]. Свою школу организовали Фрасимах, Горгий, затем она перешла к Исократу и др. В этих школах создавались учебные руководства, в которых теория, оторванная от живых наблюдений над речью, от научной мысли, постепенно выхолащивалась, приобретая чисто ремесленный характер. Именно отсутствие научности в «Риторике» Анаксимена вызвало негодование Платона, который, правда, и сам рассматривает искусство красноречия как чисто прикладную, учебную дисциплину. Однако, с его точки зрения, риторика, чтобы донести подлинное знание, должна приобрести форму диалога, в котором могут отразиться знания оппонирующих сторон относительно предмета речи и который ведется на основе диалектики и психологии («Федра» Платона). Длинную монологическую речь Платон называет «заклинанием», а искусство оратора определяет как «волшебство» или «чародейство», подразумевая под этими действами не передачу знания, а мистификацию.
Причиной упадка так бурно начавшегося риторического движения можно считать также и тематическое однообразие греческой литературы, которой были присущи не поиски новых тем, а поиски новых трактовок, которые осмыслялись как новые словесные выражения [Меликова-Толстая, 1996: 158].
В наиболее завершенном виде риторика как научная дисциплина представлена в трех книгах «Риторики» Аристотеля и в его более ранней по времени создания «Поэтике». В этих работах он неоднократно обращается к вопросам художественной речи и проблемам стиля. В частности, в «Риторике» отчетливо противополагаются поэтическая и прозаическая речь, последней из которых присуще качество «холодности», отличающее ее от поэзии; противопоставляет письменную речь устной. К профессиональной ораторской речи Аристотель предъявляет требования чистоты, ясности, уместности («соответствия предмету и говорящему»). Чем в большей степени речь будет обладать этими признаками, тем сильнее она будет способствовать процессу познания, приобретению новых знаний, постижению закономерностей объективного мира. Именно на этих философских основаниях строится аристотелевская теория стиля. Этому же подчинено требование ограниченности, предельности речи.
Итак, античная риторика как лингвистическая дисциплина глубоко разработала разделы, посвященные источникам ораторской речи, родам красноречия, задачам оратора и элементам речи. Справедливым представляется замечание А.Ф. Лосева о том, что Аристотелем были заложены основы риторики как науки, обладающей, с одной стороны, «особой динамической выразительностью и подходом к действительности возможного и вероятностного», а с другой стороны, - «неотделимой от логики и диалектики» [Лосев, 1978: 11]. Близость обусловлена тем, что философия и риторика зарождались в едином лоне архаической мудрости. Проявлялось это родство в том, что всей античной словесности (логике, диалектике и риторике) присущ рационализм, сущность которого - в системной формализации мышления и речи: они должны осуществляться на основе эксплицитно и в общей форме сформулированных правил. Риторика рационалистична в том смысле, что она, пытаясь разрешить гносеологические проблемы, оперирует дефинициями, ею же самой разработанными, силлогизмами, приемами «критики языка» и самопроверки мысли.
О понятии конструкция в синтаксисе
Термин конструкция (синтаксическая конструкция) широко распространен в лингвистике. Его используют по отношению не только к синтаксическим, но и к морфологическим объектам: так, например, более сильный, самый смелый можно считать морфологической конструкцией. Значительно выше частотность употребления термина конструкция в синтаксисе: конструкцией здесь называют и словосочетание [ЛЭС: 469], и простое предложение, и сложное предложение. Применяют это понятие и к отдельным членам предложения, например, к составному именному или к сложному глагольному сказуемому; к сравнительному обороту, который часто называют сравнительной конструкцией. А кроме того, есть еще и каузативная конструкция, атрибутивная конструкция, поли- или монопредикативная конструкция и т.д.
Термин конструкция предполагает совокупность компонентов в системе, то есть результат структурирования некоего целого из необходимых элементов в соответствии с определенными нормами и правилами. Именно такое толкование конструкции встречаем у Л. Блумфилда [Блумфилд, 1968: 177]. Аналогичный подход в понимании термина конструкция содержится и в докторской диссертации А.Ф. Прияткиной: это всякое объединение форм (морфем, слов), образующее комплексную форму, обладающую признаками единой структуры; «эти грамматические признаки и составляют конструкцию» [Прияткина, 1977: 37]. В предложенной трактовке термин конструкция, отвлеченный от функциональной направленности (для чего, собственно, конструкция создается?), ассоциируется с такими семантическими слагаемыми, как обязательные элементы, или компоненты конструкции, а также средства и способы связи элементов и возникающие в результате соединения отношения между компонентами. Причем эти отношения чаще всего подчеркиваются определением, например, атрибутивные отношения, обстоятельственные, объектные и т.п. Ср. точку зрения А.Ф. Прияткиной: «Очевидно, конструкция - это не что иное, как формальная связь некоторых компонентов...» [Прияткина, 1977: 37].
Основным недостатком термина конструкция, по нашему мнению, является то, что в нем не отражена родо-видовая дифференциация синтаксических единиц: конструкцией именуется и синтаксическое целое и части этого целого. В частности, простое предложение как конструкция состоит из строительных элементов -словосочетаний, которые, в свою очередь, являются конструкцией по отношению к отдельно взятым синтаксемам. Следовательно, словосочетание следует рассматривать как конструкцию, с одной стороны, и как элемент, часть конструкции - с другой. То же самое можно отметить и в отношении простого предложения в его соотношении со сложным.
Принимая во внимание этот недостаток понятия конструкция, некоторые исследователя отказываются от него в пользу других терминов. Например, М.И. Черемисина и Т.А. Колосова отдают предпочтение тоже далеко не безупречному термину субстанция (синтаксическая субстанция), аргументируя это тем, что в понятии субстанция фиксируются такие важнейшие «признаки объектов, как существование и протяженность в пространственно-временном континууме языка» [Черемисина, Колосова, 1987: 11]. Авторы предлагают следующее определение термина: «Лингвистическая субстанция - это любой объект, выделенный языкознанием под любым углом зрения, если он мыслится как отрезок и может, соответственно двум основным формам существования языка, быть представлен как некоторая длина (графически) и длительность (фонетически)» (там же).
Дифференциальные признаки конструкций вывода-обоснования
Предмет исследования настоящей диссертации не нов для отечественной и зарубежной лингвистической традиции: под тем или иным углом зрения КВО уже описывались. Особая семантика и способы ее выражения обусловливают расположение КВО, во-первых, в зоне пересечения интересов разных лингвистических дисциплин и, во-вторых, разных гуманитарных наук.
КВО стали объектом лингвистики достаточно поздно — только в 20-е гг. XX века [Пешковский, 1929]. Однако до этого само обоснование исследовалось в риторике как речевая структура, а в логике - как мыслительная. Русская грамматика XVIII-XIX вв., тесно взаимодействующая как с риторикой, так и с логикой, не считала подобные конструкции объектом лингвистического исследования. Поэтому в синтаксисе XX века многое было взято из логики и риторики, несмотря на то, что грамматика пыталась отмежеваться от логики. О системном описании сложного предложения в русистике можно говорить лишь применительно ко второй половине XX века. Но в этот период в Европе развивается неориторика, или теория аргументации. Тем самым во второй половине XX проблема обоснования как особой ментально-речевой операции оказалась распределенной между лингвистикой, логикой и неориторикой, развивающейся в рамках лингвистической философии. Следовательно, на современном этапе изучения КВО мы должны учитывать не только достижения лингвистики, но и логики, и лингвистической философии, поскольку русистика вступила в этап интегрального развития филологических дисциплин. Кроме того, КВО — это такой объект исследования, который в большей степени изучался в рамках риторики, логики и философии, чем лингвистики. Так, в логике в рамках теории силлогизмов рассматривались дедуктивные и индуктивные умозаключения как логические структуры, воплощенные языковыми средствами; в связи с этим логические суждения сопоставлялись со сложноподчиненными предложениями [Кривоносов, 1993]. В неориторике рассматриваются типы аргументов как способы воздействия на адресата [Баранов, 1990; Михеев, 1990]. Тем самым на русской почве соединились лингвистическая прагматика и неориторика.
Параллельно логико-риторико-философскому направлению изучения КВО (когда исследуется сам процесс обоснования и выбор аргумента в связи с фактором адресата и задачей говорящего) в области русистики проводились исследования особого типа сложных предложений, которые вычленялись в рамках общей категории обусловленности.
Для русской синтаксической науки важно было показать, что союзы потому что, ибо, так как могут выражать как причинно-следственные отношения между двумя фактами реальной действительности, так и между выводом как результатом мыслительной деятельности говорящего и обоснованием этого вывода. Подобный подход в исследовании сложного предложения принято считать от A.M. Пешковского.
В сложноподчиненном предложении союз выполняет двойную функцию: он является формальным средством связи предикативных частей, и, кроме того, союз является показателем и выразителем семантико-синтаксических отношений между главным и придаточным предложениями. Однако не все союзы функционально однозначны и предназначены четко дифференцировать соотношение типизированных элементов смысла, формирующее семантику сложного предложения. Это положение относится прежде всего к союзам, выражающим причинные отношения, среди которых принято выделять союзы «1) недифференцированного значения: потому что, потому как (прост.), потому (прост.), так как, поскольку, раз, раз что (устар.), ибо (высок.), ведь (союз-частица, разг.) и 2) союзы дифференцированных (специализированных) значений: оттого что, из-за того что, ради того что, благодаря тому что, затем что (устар.), благо (устар.), как (устар. и прост.), книжные и официальные: вследствие того что, с результате того что, в силу того что, на основании того что, исходя из того что, по причине того что, по той причине что, в связи с тем что, ввиду того что, под видом того что, под предлогом того что, под тем предлогом что, тем более что, устар. и ирон. тем паче что» [РГ-1980: 577].
. Конструкции вывода-обоснования в системе бессоюзного сложного предложения
БСП являются типичной грамматической формой выражения логических отношений вывода-обоснования. Анализ языкового материала показал, что наиболее продуктивными среди КВО в форме БСП являются конструкции, содержащие мнение и оценку в выводе, которые аргументируются частным суждением и - реже -общим суждением. Менее продуктивны БСП, в 1-ой предикативной части которых заключено побуждение. 3.1.1. Хорошо известно, что до середины XX века в синтаксической науке доминировала точка зрения, в соответствии с которой БСП рассматривались как разновидность сложных союзных предложений с «опущенными» союзами. При таком подходе БСП подводились под те или иные типы сложных союзных предложений и рассматривались либо как сочинительные, либо как подчинительные; внутри этих групп выделялись частные разновидности также на основе уподобления сложным союзным конструкциям. Лишь с 50-х гг. БСП признаются самостоятельным структурно-семантическим типом сложного предложения наравне со ССП и СПП. Следствием такого подхода к БСП стали вновь появившиеся его классификации, построенные на основе структурных и семантических особенностей, присущих собственно БСП и отличающих его от сложных предложений союзного типа. Так, широко распространенной становится классификация БСП, предложенная Н.С. Поспеловым, в основе которой лежит последовательно проводимый семантический принцип [Поспелов, 1950; АГ-54]. Среди БСП Н.С. Поспелов выделяет два основных типа: 1) предложения однородного состава, содержащие однотипные по смыслу предикативные части, связанные между собой перечислительными или сопоставительными отношениями; 2) предложения неоднородного состава, предикативные части которых разнотипны в смысловом отношении; в этом случае для БСП характерны более сложные виды синтаксическихъ отношений. Среди БСП неоднородного состава различаются предложения со значением обусловленности, причинно-следственным, изъяснительным, пояснительным и присоединительным. В целом можно отметить, что классификация Н.С. Поспелова является прежде всего семантической: в ее основе лежит характер смысловых отношений между предикативными частями в составе БСП. На учете в первую очередь структурных различий строит классификацию БСП В.А. Белошапкова [Белошапкова, 1977]. Выделяя предложения открыой и закрытой структуры, В.А. Белошапкова полагает, что они противопоставлены друг другу как в сфере бессоюзной, так и союзной связи, отмечая при этом, что «признак открытости/закрытости структуры сложного предложения обладает большей различительной силой, чем признак бессоюзия/союзной связи» [Белошапкова, 1977: 235]. Предложения открытой структуры - как союзные, так и бессоюзные - обладают аналогичным строением. Кроме того, открытость структуры допускает объединение союзной и бессоюзной связей предикативных частей. Для сложных предложений открытой структуры, в отличие от предложений закрытой структуры, характерна нейтрализация противопоставления союзной и бессоюзной связи. Сложные предложения закрытой структуры отличаются от предложений открытой структуры тем, что для них конфронтация союзной связи и бессоюзия является чрезвычайно существенной. Это обусловлено природой союзных средств, используемых для связи предикативных частей в предложениях закрытой структуры: употребляемые в них союзы, будучи средствами выражения синтаксических связей и смысловых отношений, являются важнейшими элементами структуры сложного предложения, в то время как союзы открытых структур являются полифункциональными: они совмещают функцию частиц со связующей функцией [Белошапкова, 1977: 236].