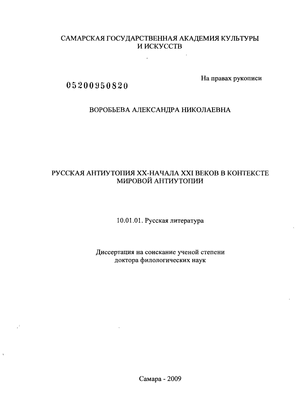Содержание к диссертации
Введение
РАЗДЕЛ I. Эволюция русской антиутопии первой половины XX века .
Глава I. Утопия и антиутопия как единый жанр. Теоретические аспекты проблемы.
1.1. Контекст как теоретическое понятие. 22
1.2. Определение утопии и антиутопии. Отношение утопии и антиутопии. Проблема жанра 25
1.3. Классификация антиутопии 53
1.4. Понятия утопического сознания, утопизма и утопии во взаимных связях 56
1.5. Миф, сказка, утопия 61
1.6. Утопия и фантастика 72
Глава II. Русская утопия и антиутопия в контексте исторических событий 1900-1920-х годов
II.1. От древних истоков к современности 91
II.2. Формирование русской утопии 102
II.3. Литературный контекст русской утопии начала XX века 119
II.4. Серебряный век в антиутопическом отражении. Нота разлада 147
II.5. Метаморфозы утопии и антиутопии в контексте революционной действительности 149
II.6. Рождение антиутопического романа 161
II.7. «Нечистая» Великая операция Е.Замятина. Английские контексты русской антиутопии 176
Глава III. Внутри разломанного мира. А.Платонов в контексте русской «лабораторной» антиутопии
III.1. «Не вышел из народа...» 195
III.2. Смерть в центре «счастливого» мира 212
III.3. Трагедии разрыва с природным человеком 221
III.4. Контексты антиутопических метаморфоз 226
III.5. Маленький человек в антиутопии 236
Глава IV. Русская антиутопия середины XX века в мировом контексте
IV. 1. «Приглашение на казнь» В.Набокова и его контексты 248
IV.2. Антиутопическая «пауза» в русской литературе. Возрождение 1960-х годов. 277
РАЗДЕЛ II. Антиутопия второй половины XX века - начала XXI .
Глава I. Политическая антиутопия Великого передела
1.1. Русская антиутопия в эмиграции 302
1.2. Контексты «французской» темы 309
1.3. Идеологическое безумие в пародийных опытах Ю.Алешковского 323
Глава II. Литературная встреча с реальной утопией
II. 1. Постмодернистские вариации новой Утопии 330
II.2. Постутопические сюжеты 1980-1990-х годов 342
ІІ.3. Семейно-детский дискурс в постутопических сюжетах 364
Глава III. Новейшая антиутопия
III.1. «Сверхлюди» в русских и западных сюжетах 377
III.2. «Сверхлюди» в антиутопии В.Сорокина и «неолюди» М.Уэльбека 393
III.3. Культурные трансформации личности в антиутопии В.Пелевина 413
Глава IV. Новые эстетические центры антиутопии XXI века
IV. 1. Антиутопия террора 434
IV.2. Обратная мечта о России 440
IV.3. Минус-герои новой антиутопии 451
Глава V. Московские сюжеты XXI века 464
Заключение 497
Список использованных источников и литературы
- Определение утопии и антиутопии. Отношение утопии и антиутопии. Проблема жанра
- Литературный контекст русской утопии начала XX века
- Идеологическое безумие в пародийных опытах Ю.Алешковского
- «Сверхлюди» в антиутопии В.Сорокина и «неолюди» М.Уэльбека
Введение к работе
Актуальность темы исследования.
Антиутопия, несмотря на свое довольно древнее происхождение, достигает наибольшей эстетической проявленности в XX веке, поставившем перед человечеством много сложных вопросов и проблем, к решению которых оно оказалось не готово. Антиутопия становится очевидным достоянием XX века в силу своей несомненной связи с научно-технической цивилизацией, на протяжении всего века набиравшей, как оказалось, почти бесконтрольную и агрессивную энергию, обрушив на человека плотный поток научных открытий. В сочетании с трагическими событиями века (две мировых войны, революции, установление тоталитарных режимов* в. государственных структурах ряда стран, безграничный разгул терроризма), которые в одночасье поставили человечество перед угрозой уничтожения^ едва ли не всех прежних ориентиров существования, цивилизация обретает все более опасную инерцию разрушения. Разум и здравый смысл оказались бессильны удержать свой самый надежный, регулятор в сфере общественных отношений — культуру. Но в данный' момент, еще не ставший историческим, уже таящий в^себе знаки кардинальных перемен, ожидающих человечество в ХХГ веке, вновь мощно материализуется вопрос о будущем. А это значит, что утопия или антиутопия, или- какой-то еще неведомый; симбиоз .этого жанра» не только не сойдет с литературной сцены, причем с самых видимых ее площадок, но приобретет невиданный масштаб актуальности.
Автор утопии «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь» К.С.Мережковский писал в 1903 году: «Прогресс сам по себе мучительнейшее явление, но чем он подвигается дальше вперед, тем он становится все мучительнее и мучительнее — вот закон природы, ужаснейший, уродливейший из ее законов» [Ш.389.С.191]. И вот какую картину, спустя столетие, рисует М.Эпштейн в «Манифесте нового века» относительно «человека» как продукта новейшей, компьютерной цивилизации, поколения Интернета (ПИ), всемирной паутины. «Информационный век, - пишет Эпштейн, - прокладывает дорогу трансформационному веку, каким обещает стать XXI...мироощущение «пост», усталая и всезнающая поза «конца века», представляется сейчас, у истока нового тысячелетия, смешной и чуть жутковатой, как старческие ужимки и гримасьь на лице ребенка. Мы — биологическая протоплазма технической' цивилизации, мы носители прото-интеллекта, мы — прото-машины, именуемые «организмами». Мы — робкие дебютанты на сцене техно-трансформационной цивилизации. Вот это мироощущение я и называю - debut de siecle...H когда... все связи соткутся воедино, человек окажется действительно паучком во всемирной паутине, поскольку к каждому его нейрону, клетке, гену и чипу будет что-то приторочено. Каждая его частица будет участвовать в каких-то взаимодействиях, о которых он будет знать и
которые должен будет контролировать, в свою очередь контролируясь этими системами...Мозговые сигналы будут прямо передаваться по электронным сетям, мысли будут читаться, поэтому придется быть осторожным не только в словах. В мозгу будет время от времени вспыхивать табличка-напоминание: «Выбирай мысли!» или «Выбирай, о чем думать!». Церебрально открытое общество может потребовать от всех своих членов такой умственной аскезы, какой раньше предавались только монахи и йоги»' [III.569.C.180-198]. Нечто подобное изображала классическая антиутопия (например, стирание памяти у завербованных на Марс землян в «Сиренах Титана» (1959) К.Воннегута - тот же контроль над разумом, или «эпсилонполукретины» у О.Хаксли). Но Эпштейн ведет речь не о метафорической или виртуальной реальности. Он ведет речь о реальной действительности XXI и XXII века, о людях самого массового уровня, о которых прежняя «большая» литература даже не вспоминала, точнее — не знала, хотя писала о «маленьком» человеке, но - человеке, индивидуальности. Сейчас же речь пойдет не о человеке и не о машине, а о такой «мутации человечества», из которой появится некий «ангелоид», свободный от «видовых физиологических потребностей», сродни старинному «миру духов», но только основанной на «техно-экономической перспективе».
И в таком будущем, очевидно, будет происходить принципиальная трансформация утопии и антиутопии (в самом широком спектре этих явлений). Эпштейн, исходя из того, что утопия,и антиутопия имеют общие черты, а ожидание будущего всегда сопровождается сложным* чувством влечения и страха, определяет нынешнее ожидание как амбиутопизм: «Амбиутопизм, - пишет он, - это такое сочетание утопизма и антиутопизма, которое заряжено всеми их плюсами и минусами и напряженно переживает их обратимость.' Поскольку мы уже имеем позади, в XX* веке, опыт и пламенного утопизма, и не менее страстного антиутопизма, мы можем измерить тонкость их перегородки: ведь самое страшное в утопиях, как сказал Бердяев; - то, что они сбываются. Вот почему к каждому нашему утопическому порыву примешивается антиутопический страх, который удерживает нас от поспешно-безоглядных скачков прогресса» [Ш.569.С.192]. Возражая Эпштейну, В.Сендеров усматривает в его рассуждениях утопию со всеми ее родовыми чертами и оценивает как «новый виток утопии вечной» [Ш.470.С.145].
Противоположную позицию высказывает Н.Работнов (не филолог, ученый в сфере естественных и технических наук), который констатирует, что в современной науке нет никаких указаний «на хотя бы принципиальную возможность реализации описываемой М.Эпштейном феерической картины. Напротив, существует масса фактов и вытекающих из них обобщений, которые ей* коренным образом противоречат» [IIL445.C.176]. Другой ученый, генетик В.Кордюм, безотносительно к «Манифесту» М.Эпштейна, рассуждая о существовании в настоящее время двух самодостаточных и альтернативных систем - биосферы и ноосферы, границу между которыми человеку предстоит перейти, пишет о кардинальном изменении мира при
этом переходе, связанном с социальными механизмами нашего «внутреннего» самоуничтожения (оружие массового уничтожения; глобальное загрязнение, вышедшее уже в околоземное космическое пространство и т.д.). В данный переходный период главный вопрос будущего человечества сводится к тому, «сможет ли человек существовать в; ноосфере без биосферы или, лишившись ее,, быстро и вполне закономерно уступит место другим, им же созданным формам разума?» Речь идет о «новых негативных социальных механизмах», направленных «не столько на разрушение планеты,. сколько на ликвидацию общества. И началось это, как ни парадоксально, с появления Декларации прав человека.. Ибо в ней,, как: торжество светлой идеи прав личности, заложили нечто, противоположное -утверждение того, что интересы личности превыше интересов общества. Но общество состоит из личностей. И как ни крути, но получается; что интересы одной личности превыше интересов другой» [Ш.339.С.247-248]. ВЖордюм формулирует проблемы, сходные с теми, что выдвигает М;Эпштейн: совмещение интеллектуальной машины и живого мышления; появление нового носителя; разума, который заменит вырождающеесячеловечество. НЬ; в отличие от Эпштейна~ ВЖордюм настроен в отношении- будущего пессимистично, считая, что сама теория- «золотого миллиарда» (люди, отобранные со всей:планеты для перехода.в ноосферу) разбивает гуманизм, религию и мораль. Все это — материал для* самой; головокружительной фантастики,, в составе которой первое место сейчас занимает утопия; и антиутопия, или «амбиутопия», по определению- Эпштейна.^ «Пусть пишут фантасты, - говорит академик. - Они единственные сегодня;, кому общество позволяет ставить и .обсуждать вопросы, которые: страшат всех, но от которыхнеуйти...» [IIIi339:G.253].,
Ш фантасты; конечно,, ставят и обсуждают «страшные» вопросы завтрашнего дня, общего для всего человечества..Такие вопросы всегда были прерогативой утопического жанра и его антиутопического варианта. Поэтому рассмотреть движение Утопии в> ближних и дальних ее контекстах на протяжении^ XX.века.и частично, уже сформировавшийся постутопический плацдарм в начале века XXI - важная; и полезная; на наш взгляд, задача исследователя. Интересна здесь сама «траектория» движения утопии и антиутопии, принципы их взаимодействия; качественные и количественные пропорции их взаимоположения в литературе и отношения с реальной действительностью. Поскольку известно, что специфика утопий в том, чтобы «оперировать» образами масштабными, воплощающими идеи общества (всего человечества), а. единичные судьбы отдельных людей ее. не: интересуют, мы должнырассматривать утопию и антиутопию в соотношении с кардинальными историческими^ событиями, определившими судьбу человечества в.XX веке. И"здесь, поверх всех катастрофических,потрясений века в виде мировых войн, революций, тоталитаризма, выстраивается/ удивительная, символическая.симметрия; обрамляющая век как предсказание - в его начале, посреди всеобщего ликования по поводу действительно великих научных открытий и технических свершений, - это гибель
«Титаника» в 1912 году; и в начале XXI века - гибель башен-небоскребов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Вопрос антиутопии в самом общем виде, на наш взгляд, упирается в необходимость разграничить понятия цивилизации и культуры по гуманитарному признаку и сблизить по признаку материальному, чтобы увидеть, какую опасность представляет собой любое нарушение самого, должно быть, хрупкого и в то же время необходимого уравнения человеческой сущности - соотношения в ней духовного и материального (телесного). Эта проблема — одна из тех, что обостренно напомнили о себе в начале XX века и, блуждая-в трагических дебрях мировых войн и революций, предопределили его выжидательно-апокалиптический характер: Е.Герцык в эссе «Эдгар* По» (1922), анализируя истоки эстетства в творчестве Э.По, высказывает мысль о подобном соотношении духа и материи, звучащую очень актуально: «Проблема культуры есть проблема взаимодействия духа и материи мира. Обогащаясь, завладевая все большим количеством материальных благ, всякая^ культура громоздит на себя вещественную громаду, пронизать которую духом у нее уже недостает сил. И; придушенная собственной материальной мощью, культура сякнет. Эстетство, неизменно возникающее в пору надлома, упадка культуры, является искуплением, -нередко жертвенным - греха создания миллионов мертвых вещей: пустых храмов и дворцов, бесчисленных полотен, по которым дух никогда не водил кистью» [IIL244.C.288].
В'том же году 0:Шпенглер в своем, знаменитом труде «Закат Европы» (1922) утверждал, что* цивилизация — это заключительная стадия любой культуры. Гибнущая- культура, по Шпенглеру, неминуемо становится цивилизацией. Саму проблему цивилизации философ связывал с «закатом», то есть с гибелью Европы. «Что такое цивилизация, - вопрошал философ, -понятая как органически-логическое следствие, как завершение и исход культуры?
Ибо у каждой культуры есть своя собственная цивилизация Впервые оба эти слова, обозначавшие до сих пор смутное различие этического порядка, понимаются здесь в периодическом смысле, как выражение строгой и необходимой органической последовательности. Цивилизация — неизбежная судьба культуры...Цивилизация суть самые крайние и самые искусственные состояния, на которые способен более высокий тип людей. Они - завершение; они следуют за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение, за деревней и душевным детством, засвидетельствованным дорикой и готикой, как умственная старость и каменный, окаменяющий мировой город. Они - конец, без права обжалования, но они же в силу внутренней необходимости всегда оказывались реальностью» [IIL564.C.163-164]. Х.Ортега-и-Гассет в книге «Восстание масс» (1930), указывая на признаки цивилизации («Грани, нормы, этикет, законы писаные и неписаные, право, справедливость...»), делает неутешительный вывод: «Цивилизация - это прежде всего воля к сосуществованию...Цивилизация не данность и не держится сама собой. Она
искусственна и требует искусства и мастерства...Разрыв между уровнем современных проблем и уровнем мышления будет расти, если не отыщется^ выход, и в этом главная трагедия цивилизации. „Растущая цивилизация — не что иное, как жгучая:проблема» [Ш-418.G.326-329].
Еще одну важную особенность отношений культуры и цивилизации на общем европейском пространстве, но с российской стороны, открывает П.М'Бицилли,- который, суммируя- исторические несчастья России и их положение в контексте русской культуры, пишет: «То же, что катастрофа, переживаемая русской цивилизацией, подвергает смертельной опасности ее культуру, для последней, может быть, и несчастье, но уж, конечно, не просто несчастный, случай.. Культура по своей природе трагична; и. потому ей несвойственно протекать безмятежно; идиллически, без препон и опасностей: тогда ей грозит уже самая> страшная и неодолимая; опасность— быть незаметно, исподволь засосанной цивилизацией, как. это и случилось последовательно срядом.европейскихкультур. Очутившись их наследницей, русская культура распоряжалась своими богатствами с истинно царственной свободой...» [ІШ190;Є.361]. Бицилли определяет культуру как творческое самораскрытие личности вовне, преодоление ее ограниченности;.приобщение к Космосу. Он считает русскую культуру «чистой» в силу ее беспримерной свободы, и поэтому «Россия оказалась из: всех стран- европейского — христианского — культурного круга единственной; где культуралишьв малой степени затронула собой: цивилизацию; ж потому не: переродилась в цивилизацию;, что поэтому она гибнет трагически;, вместо того чтобы, исподволь угасать в атериосклерозе; что тем самым она-облагородил а, исход европейской/ культуры и что ее гибель служит залогом мирового Возрождения, немыслимого без великих потрясений^ без мучительного осознания трагедии становящегося духа, - историческая миссия*: России» [Ш{190.Є.371]. Этот взгляд отразил уровень-Серебряного века, когда еще оставалась.и вера, и надежда на культуру, которая сможет спасти Россию. Не случайно именно тогда, на рубеже ХІХ-ХХ веков,, наблюдается ярчайшая «обоюдоострая» вспышка утопии и антиутопии в, русской литературе, которая не погаснет бесследно и донесет частичку своего метафорического смысла до наших дней.
Часть «жгучей проблемы» отношений культуры, и цивилизации -омассовление личности, утрата индивидуальности, растерянность человека перед, лицом всякого рода огромностей и скоплений - объект размышлений и исследований современных ученых. Французский писатель Ф.Мюре определяет это состояние современного мира как начало последней фазы цивилизации. Он пишет: «Если говорить более обобщенно, то цивилизация,. которая разворачивается на наших.глазах, может полностью контролировать происходящее только при одном условии: если она вберет в себя^ все, что* по идее должно ей: противоречить. И: вооруженные беспорядки, и вопли разъяренной толпы — все это теперь просто часть ее структуры. То, что ей враждебно, она, производит на конвейере, как и остальную свою продукцию, и крупными партиями выбрасывает на рынок,, но на. этот товар у нее
эксклюзивное право» [Ш.397.С.225]. Такую новую цивилизацию ФМюре называет «гиперфестивной» в том смысле, что проведение всевозможных праздников, принимающих гигантские масштабы, стало трудовой деятельностью нашей эпохи и ее главным открытием, не имеющим никакого отношения к празднествам (карнавалу) былых времен. Человека, «честного обывателя наших дней, жителя новой' планеты» Мюре называет «Хомо фестивус».- М.Эпштейн, толкуя о соотношении культуры и цивилизации, вносит свой нюанс в понимание современного мира с этой, позиции. 0н пишет: «Когда исчерпывается историческая» идея, питавшая цивилизацию, -начинается; расцвет метафизических идей: Когда цивилизация переживает свой собственный изначальный проект, переступает срок, отпущенный для его исполнения;. - она живет уже после собственного конца,, в своем; загробном;инобытии, которое:и есть — культура. Культура - это цивилизация, осознавшая собственную конечность,-вступившая в эпоху угасания;, в; ходе: которого прорезывается ночное зрение — видение потустороннего; заостряется» метафизическая чувствительность к последним вопросам.. На. смену политике как господствующей сфере цивилизаторской деятельности; приходит религия, философия; искусство... культура - это цивилизация; осознавшая свой конец, впустившая? в себя собственную гибель - в виде политической оппозиции, или экономического кризиса, или; экологической катастрофы, или культурного метаязыка... Чувство боли и гибели, работающее изнутри цивилизации; - это и есть, ее способность становиться культурой» [Ш:570.Є.396-397].
Другая сторона более опасна. Многие современные;ученые стревогой' пишут и говорят о той' грани современной цивилизации; за которош может наступить тотальная; гибель человечества. Профессор Е.Абрамян пишет: «Упоенные успехами; цивилизации, мы> не очень задумывались над тем, что наши города и различные сооружения, (мосты, туннели; плотины и др.) предельно уязвимы для» многочисленных средств нападения. Технически возможными становятся ядерный шантаж и ядерные диверсии» [Ш.Г58]. Американская трагедия. 11 сентября (отраженная; уже; в ряде литературных произведений) не замедлила подтвердить устрашающий парадокс цивилизации: головокружительные успехи научной мысли, техническая реализация которой приносит человеку улучшение качества его жизни, зачастую оборачиваются-против человека. Ю.Каграманов пишет по этому поводу: «Триумф воли»,, явленный исламскими террористами 11 сентября 2001 года, положил начало новой исторической эпохе...с технической стороны происходящее поражает своей абсолютной новизной. О том, сколь хрупка современная цивилизация; мы догадывались, уже довольно давно.. .Нападавшие прибегли к иродианской тактике (по имени царя Ирода); как ее называл А.Тойнби: бить враждебную цивилизацию ее же собственным; оружием; только в данном случае в их руках оказались вполне мирные по-своему основному назначению объекты... Между тем на «театре» террористической войны обещают родиться другие «жанры», в частности, те, что используют собственно оружие — ядерное,„химическое, биологическое. И
то, что находится только в стадии разработки, вроде, например, аппаратов, способных вызывать имитации природных катастроф» [Ш.310.С. 152].
Следует отметить тот фактор, который дополнительно (и достаточно масштабно) усложняет современные процессы цивилизации, - это так называемая, глобализация (тоже отраженная в^ современной антиутопии), отзывающаяся на всех уровнях современного мира. Публицист и социолог В.Ошеров предостерегает от излишнего увлечения этим явлением. Говоря о надеждах глобализации, связанных прежде всего с бурным развитием современных технологий и с Интернетом как одним из главных двигателей глобализации, неудержимого движения «к объединению всех стран и народов в «глобальную деревню», В.Ошеров пишет: «Во многом утопичность надежд, связанных с «информационной революцией», основана на простом невежестве, незнании условий жизни, социальной и культурной среды, политических особенностей незападных стран. Ведь одни и те же технологические достижения используются- и интерпретируются по-разному, скажем, в США и где-нибудь на Ближнем,Востоке» [Ш.422.С.180].
Из огромного количества рассуждений и высказыванийг ученых самых различных направлений по данному вопросу мы. выбрали приведенные выше только потому, что они, на наш- взгляд, звучат наиболее актуально- в контексте нашей темы, поскольку антиутопия, как и утопия, в живых образных воплощениях предъявляют миру свои взаимно оппозиционные сюжеты как отражение прежде всего процессов культуры и цивилизации на самом сложном, запутанном и самом^ при этом необходимом уровне - на уровне организации, общественных, социальных отношений. Общество, государство, человек - вот тема классической утопии и антиутопии, хотя, как показывает наше исследование, к концу XX века, эта.тема расширяет свои границы и сюжетно трансформируется в иные структурные сплетения; захватывающие все более широкий диапазон, приобретающие более грандиозный масштаб. Но отношения общества, государства и человека в их качественной эффективности прежде всего для человека, для личности все равно остаются показателем и критерием максимально правильной организации общественного строя. А определить практически эту «правильную организацию» можно опять-таки с позиции обыденного существования массового человека, то есть маленького, обыкновенного, пусть обывателя, пусть маргинала, ради которых, наверное, и придумана жизнь.
Поэтому уместно вспомнить о тех поворотных этапах человеческой истории с точки зрения подобных «организаций», когда кардинально менялись отношения государства и человека. В1 древние времена, когда понятие личности только-только формировалось и отразилось, например, в древнегреческой мифологии, люди смутно ощущали умом, не говоря уже о телесно-физических инстинктах, свою отдельность, индивидуальность. «Уже сам факт того, что античные боги из просто грозных верховных существ с неясными очертаниями постепенно превратились в носителей сугубо индивидуальных качеств, индивидуальных характеров, индивидуальных
судеб, свидетельствует о том, что уже на мифологическом этапе своего развития древние греки осознавали индивидуальность, неповторимость отдельного «Я»... на вымышленный Олимп они проецировали свое собственное жизнеустройство. В относительно же поздних мифах появляются уже земные люди, которые осмеливаются противопоставить богам, а значит, и незыблемому миропорядку, свое собственное неповторимое «Я». Древние греки относились к таким людям с почтительным ужасом. Вызов богам...- поступок, достойный восхищения, но в то же время настолько дерзкий, что словно бы исключает совершившего его человека из людского общества» [Ш.444.Є.166]. Но боги (государство) не могли допустить подобных поползновений со стороны земных людей (пусть и лучших, даже «родственников», ведь их отцами были боги) по отношению к себе и жестоко наказывали их. Примеры: Сизиф (Сизифов труд), Тантал (Танталовы, муки), Арахна (символ вечной скорби).
Одним словом, так или иначе общество и государство всегда стремились ограничить личность или полностью подчинить ее себе, а личность стремилась вырваться из-под любой опеки и жаждала верить Bt свою самодостаточность и право на свободу, и в том заключалась изначальная ее утопичность. Не случайно же история человеческого мира изобилует перепадами в решении проблемы личности и общества то в пользу личности, то против нее. После Возрождения, например, обнаружилось, что идея свободы личности тоже несет в себе ограниченность, потому что человеческая природа несовершенна и безграничная свобода одного оборачивается безграничной несвободой для другого. В мире появится новая* система ценностей, которая отразится в искусстве классицизма, ставшего эстетической и этической «материей» и прелюдией умного века Просвещения. Идея вечности, абсолютности, незыблемости идеала прекрасного в эстетике великолепно сочетается* с идеей абсолютного приоритета общего по отношению к частному в этических и социальных нормах общественного устройства. На этой основе строится четкая иерархия: превыше всего - Государство, в самом низу - человек, в общем мелкий и жалкий подданный, значимый лишь как частица великой общности (целого). Человека не могло устроить такое положение, и эпоха Просвещения формулирует идею разумного компромисса между личностью и обществом: общество позволяет личности соблюдать ее самые неотъемлемые права и ограничивает те, которые противоречат правам других.
Еще одна очень важная проблема.личности: с одной стороны, человек культуры следует исторической инерции (традициям), заложенной в культуре; с другой - стремится к критическому осмыслению ранее сложившейся культуры. Если понимать критическое мышление как оценочное, не принимающее догм, развивающееся путем аналитического наложения новой информации на полученную ранее и личный жизненный опыт, то оно может служить отправной точкой для развития творческого мышления, что, конечно, придаст необходимую диалектичность и стойкость личности в процессе ее саморазвития. Поэтому правомерны и такие
характеристики личности, как направленность критики на самого себя, что способствует повышению эффективности таких позитивных качеств критического мышления, как сосредоточенность личности на вопросе о том, во что верить и что делать; стремление понять и осознать свое собственное «Я», что ведет к объективности, логичности, попытке понять другие точки зрения.
Но «критика» не всегда способствует саморазвитию личности и даже может давать прямо противоположные, «погромные» результаты, как это подтверждает реальная* история нашей страны и то, как она отразилась в русской литературе. Сумел ли русский человек противостоять погрому? По этому поводу существует огромная литература, из которой в разных вариантах следует довольно однозначный ответ: нет, не сумел, русский человек не знает меры критики. Доказательство тому — русская революция 1917 года, главный итог которой —уничтожение личности, что было даже страшней, чем потеря самой России. Если обратиться к основным текстам русской литературы XIX века, можно без особого труда, даже на поверхности сюжетов увидеть критический настрой, которым пропитаны герои и ситуации по отношению к общественному устройству России. При этом ведущий герой, - как правило, одинокий, разочарованный, не желающий участвовать в общественной жизни (и даже работать, как все «лишние» от Чацкого до Обломова, что позволяла им материальная обеспеченность) человек уходит в бега или начинает учить нигилизму (как Базаров). Дело дошло до прямого призыва «К топору зовите Русь!» (Н.Г.Чернышевский). И когда в самом начале XX века прогремел призыв Горького «Пусть сильнее грянет буря!», он лег на хорошо подготовленную-почву и довел дело «погромной» критики до логического конца, а именно — до революции, которая в сущности и является крайней, экстремистской формой такой критики. Но после революционного взрыва личность парадоксально погружается в еще более бесправное положение, враз утрачивая все завоеванные позиции и — более того — невольно провоцируя собственное подавление и соглашаясь на невиданные притеснения, репрессии и рабство.
Приведенные характеристики русского общества напрямую связаны с антаутопическгш направлением в литературе: все ведущие антиутопии рисуют именно такое общество, в котором подавлены зачатки критики, а личность напрочь отчуждена от участия в решении каких бы то ни было вопросов социума, отчуждена даже от самой себя, а построенный по утопическому проекту «дивный новый мир» должен восприниматься как конечный результат Мечты о достигнутом всеобщем счастье, которое не нуждается в дальнейшем движении по определению. В*реальном советском обществе, так же открыто и четко, как в эпоху классицизма, соотношение личности л общества решается в пользу общего, целого, но в цинично-непререкаемом варианте, облеченном, впрочем, в форму восторженно-гимнических деклараций. Всем бывшим советским школьникам памятно знаменитое «уравнение» В.Маяковского «Единица- вздор! Единица- ноль!»
или более зловещая формула Э.Багрицкого «Но если век скажет «убей!» -убей!». Создалась устрашающая, на грани фантастики, ситуация превращения личности в винтик (Я.Смеляков) огромного бездушного механизма, который не заметит «потери бойца» (М!. Светлов).
Поэтому вопрос, проистекающий из самой постановки проблемы личности, трансформируется в идею необходимости возвращения изначальной, древней, главной ценности человеческого мира: нужно, чтобьь в обществе наличествовала личность, которая бы могла быть субъектом саморазвития. Что для этого нужно делать? - этот давний русский вопрос тоже должен быть возвращен в самый ближний круг общественных обсуждений и подвергнут анализу на литературном материале (в нашем случае). Великолепный пример в этом отношении являет собой роман Т.Толстой «Кысь», главный герой которого несет в себе разрушенную личность как самое страшное «последствие» Взрыва (другие последствия -физические уродства - неприятны, но все-таки не так опасны). Бенедикт смутно представляет себе назначение Книги («старопечатной»), хотя* чувствует перед ней священный- трепет и неизъяснимую тягу. Вот все, что сохранилось в его культурном багаже, а во всем городке и того меньше: Пушкин здесь пишется с маленькой буквы - культура вытеснена из мира больших букв. Бенедикт слепо тычется в неожиданно представшую перед ним, книжную роскошь, не зная1 даже, как правильно расставить книги, и наивно ища единственную, в которой было бы «все сказано». Никита Иванович, один из последних «прежних», на вопрос Бенедикта, где эта книга, отвечает: «Азбуку учи!» Это и есть ответ Т.Толстой на русский вопрос «Что делать?»: ведь не зная азбуки, нельзя прочесть Книгу. Тема азбуки составляет смысловое ядро метафорического сюжета, встроенного в простую и внятную «азбучную» композицию, как в таблицу умножения: букв, (или цифр) совсем немного, а их сочетания столь бесконечны, как сам мир. И, думается, в этом призыве скрыт пафос самокритики, с которой должно начаться возрождение Личности.
Вкупе с нравственностью культура всегда противостояла злу и агрессии. Уже первые годы XXI века во всей совокупности духовно-культурного и материально-цивилизационного состояния человечества показали, что обозначившееся в XX веке направление в сторону деградации морали и культуры невозможно обуздать и перенаправить в рамках прежней гуманитарной парадигмы, и не случайно гуманитарное образование стремительно сдает свои позиции. Антиутопия отражает все эти процессы, помогая человеку понять происходящее, и уже одно это обосновывает целесообразность и правомерность нашей темы исследования.
Феномен утопии (в широком смысле); казалось бы, достаточно изученный с позиции всех- ее проявлений и воплощений (философских, социальных, культурологических, исторических, литературных), на данном этапе вызывает неоднозначное отношение. В самом деле утопия как особая форма сознательного проектирования отношений в организованном человеческом сообществе направлена на постижение возможного, желаемого
будущего. Утопия в своих проектах демонстрирует различные картины этого будущего «на выбор» (представленный, впрочем, однозначно, с позиции всеобщего счастья), предлагая задуматься каждому индивиду над вопросом для всех: как организовать свои межличностные отношения; чтобы возникшее сообщество было способно обеспечить счастье каждого, одинаковое тоже для всех. Тем самым утопия задавала ценностные ориентиры жизни, которые можно было совершенствовать. Американский исследователь утопии Джозеф Ф.Коатс пишет: «Если брать утопию как будущее идеальное государство или вымышленное общее условие совершенства социальной, политической, общественной и личной жизни, то ей нет места в современном мышлении. Условия для утопии не существуют сегодня.в западном мире и никогда не существовали в незападной традиции. Утопическое мышление происходит из познания того, что мир не должен быть таким, какой он есть. Когда посмотришь на условия мира в любое время, человек находится в одинаковом состоянии - борьба со злом, столкновения с проблемами и стрессами в каждодневной жизни, предчувствие и планирование катастроф и неудач. Утопии, распознающие людей как общественных и- социальных животных, всегда привлекали внимание к нашим недостаткам, нечестности, угрозам, несправедливостям; рискам и опасностям простой жизни. Утопии, таким образом, - это обычно видение того, каким мог бы быть мир, если бы угрозы, риски и стрессы были удалены» [Ш.586.Р.507].
Тем более утопия нуждается в дальнейшем изучении, а уж если говорить о русской, то даже на поверхностный взгляд видно, что русское утопическое поле необъятно и универсально, особенно сейчас. В частности;. когда в процессе практического распада советского строя- осознание этого поля опускалось на массово-бытовой уровень, слово «утопия» становится* расхожим: так стали обозначать явление социализма и коммунизма, что повлияло на формирование негативного отношения к самому явлению утопии (даже на научно-теоретическом уровне). Происходило опрощение понятия утопии. К.В.Чистов пишет: «Продолжают возникать и утопические сочинения. Этот факт должен внушать не пессимизм (человечество не может расстаться с традиционной наивностью!), но прежде всего оптимизм -способность к критической оценке действительности не утрачена, и поиск выходов из общего кризиса (а наш кризис — один из его вариантов) продолжается. Для литературоведов, фольклористов и социологов это означает настоятельную необходимость продолжать исследования природы утопизма* и его связи с художественным творчеством. Если речь идет о литературе или других видах художественного творчества и общественной мысли в нашей стране, то, вероятно, следует, кроме того, решительно совершенствовать способы их объективного анализа, которые позволили бы четко отличать естественные формы утопизма и формы приспособленческие, популистскую имитацию утопизма, соотношение утопизма и антиутопических тенденций. Это может подготовить нас к трезвому восприятию новых витков утопизма, которые, вероятно, ожидают нас и
движение по которым, как говорилось, уже началось» [IIL543.C.42-43]. Отмеченные здесь проблемы, конечно, нуждаются в дальнейшем исследовании. В каких формах могут возникать утопии сегодня? Как они отражаются в художественных произведениях? Как может их «гасить» новейшая, антиутопия? - вот вопросы современных исследований утопии/антиутопии.
А между тем многовековое существование утопии, беспрестанное ее воспроизводство на каждом новом исторически поворотном витке, необозримое количество самых разнообразных утопий - все это говорит о том, что утопия - необходимый элемент в структуре духовно-культурного освоения мира (объективного, лежащего вовне человека и субъективного, внутреннего, индивидуального, как правило, критического «я»). И некоторые явления этого мира, как показывают многие исследователи утопии (и наше исследование также подтверждает это), ничем иным, кроме утопии, объяснить нельзя. «В истории общественной мысли особую роль выполняла утопия, являвшаяся идеальным коррелятом «поврежденной» действительности... Целые духовные образования и направления мысли в истории идей (например, в России масонство, славянофильство, народничество) могут быть поняты и объяснены и как утопические, т.е через утопию, что позволяет говорить об определенном методологическом значении утопии как духовного феномена» [Ш.483.С. 92]. Все эти «духовные образования» происходят от известного феномена человеческой психологии -склонности человека к Мечте о лучшей жизни, чем та, что имеется выданный* момент. 0т этого семени произрастает все искусство, вся литература. А в ней (в литературе)-обособилась специальная^сфера Мечты — утопия и антиутопия; назначение первой - иллюзии, второй - обуздание иллюзий. Об этом ВІВулф писала в лучшем своем романе «Орландо» (1928): «Поэт — вместе лев* и океан. Первый нас гложет, второй нас топит. Если нас не одолеют зубы, нас слижут волны. Человек, способный разбить иллюзию, - вместе поток и зверь. Иллюзия для души - как атмосфера для земного шара. Разбейте этот нежный воздух — и растения погибнут, померкнут краски. Земля под нашею ногою -выжженная зола. Мы ступаем по опоке, раскаленный камень жжет нам ноги. Правда обращает нас в ничто. Жизнь есть сон. Пробужденье убивает. Тот, кто нас лишает снов, нас лишает жизни...» [І.38.С.607-608].
Степень изученности темы. В России изучение утопии/антиутопии началось много позже, нежели на Западе, что вполне объяснимо особенностями нашей национальной истории. Значительная доля исследований в этой области приходится^ на 80-90-е годы XX века, когда наблюдался настоящий бум вокруг утопии, особенно литературной. К этому моменту в западной утопиологии уже были выявлены и разработаны все основные проблемы классической утопии/антиутопии: связи с мифом, сказкой, фантастикой; определение жанра; классификация и др. При этом отметим, сразу, что> утопия оказалась в фокусе научного интереса ученых различных гуманитарных сфер: литературоведческой, лингвистической, философской, исторической, культурологической. Основным объектом
исследований становятся проблемы жанровой природы, генезиса, места литературной утопии среди утопий другого типа (социальных, философских и пр.). Это работы Э.Баталова, Ч.С.Кирвеля, В.А.Ревича, С.Калмыкова, А.Зверева, В.П.Шестакова, В.Чаликовой, К.В.Чистова, А.И.Клибанова, Р.Гальцевой, И.Роднянской, А.Латыниной, Ю.Латыниной и др. в российской утопиологии; Е.Шацкого, Л.Геллера, М.Ласки, А.Л.Мортона, Н.Фрайя, Ф.Е.Манюэля и др. - в зарубежной.
Русский утопизм как широкое, многомерное явление, ставшее отдельной темой религиозной философии конца Х1Х-начала XX века, исследует Р.Гальцева. В круг ее исследовательских интересов входят труды Н.Бердяева, Г.Флоровского, П.Новгородцева, посвященные проблемам утопии в соотношении с понятием общественного долга. Из числа наиболее глубоких фундаментальных работ новейшей утопиологии отметим книгу Б.Ф.Егорова «Российские утопии: Исторический путеводитель», в которой исследование проблемы впервые представлено на самом широком материале в форме «исторического путеводителя» по всевозможным параметрам проблемы: публицистические трактаты, художественные произведения, попытки реализации утопических проектов в реальной российской истории и т.д. [Ш.271], а также монографию Н.В.Ковтун «Русская литературная утопия второй половины XX века», представляющую собой первый опыт системного изучения позитивной утопии в современной художественной прозе [Ш.334].
В начале 1990-х годов были изданы, прежде «закрытые» работы ведущего отечественного специалиста в этой области В.А.Чаликовой; переведены фундаментальные труды Е.Шацкого, А Свентоховского; издана антология работ зарубежных исследователей, составленная* В.А.Чаликовой. За период 1990-х-начала 2000-х годов, защищено несколько кандидатских и докторских диссертаций по утопии и антиутопии: Б.А.Ланина, А.Е.Ануфриева, Тимофеевой А.В., Волковой Е.Р., Малышевой Е.В., Романова С.С, Дмитриченко Е.В., Бреля СВ., Якушевой Н.Б., Тараненко И.В. (в лингвистическом аспекте), Коломийцевой Е.Ю.; философские: Лиокумович Е.А., Натуральновой, И.М.Нениной, Бахаревой Е.П.; исторические: М.Д.Суслова.
Особо следует выделить литературоведческие исследования. Среди них - монография Е.Н.Ковтун, в которой исследуются эстетические взаимосвязи фантастики, утопии, притчи, литературной волшебной сказки и мифа. Исследованию соотношения утопии и утопического сознания посвятили свои работы Е.Л.Черткова, В.Д.Бакулов. Следует выделить также работы А.Зверева, В.П.Шестакова, посвященные изучению русской литературной утопии в ее соотношении с западной, О.А.Павловой, труды которой о русской литературной утопии XX века связаны с изучением контекста отечественной культуры.
Выше мы уже писали о том, что антиутопия- как антиномия утопии появляется почти одновременно с утопией и следует за ней, и это означает, что структура отношений утопии и антиутопии выстраивается по принципу
параллелизма, и взаимного диалектического «достраивания» для необходимой достаточности полноценного функционирования, подобно тому, как любой живой организм способен' действенно существовать лишь при условии собственной природной полноты и самодостаточности. При всей общности утопия и антиутопия представляют собой концептуально суверенные системы, содержащие противоположные концепты и смыслы. Но и сейчас высказывается мнение о том, что антиутопия появилась только в.ХХ веке. «Сравнение утопических и антиутопических взглядов, - пишет Н.Б.Якушева, - на основе обобщающего историко-культурологического подхода позволяет говорить о том, что речь идет не об изменении утопического сознания на антиутопическое, а о принципиальной смене взглядов по отношению к одной и той же культурной модели, запечатленной в утопическом-антиутопическом направлении. При смене социальных отношений и культурных установок в XX веке жанр утопии трансформировался в жанр антиутопии» [Ш.578.С.7]. Приведенное мнение вряд ли приемлемо и скорей всего из-за того, что сформулировано неточно. Ниже мы представляем краткий обзор истории и эволюции утопии/антиутопии, из которого следует, что антиутопия возникает почти одновременно с утопией. При- этом мы вычленяем предмет нашего исследования из безмерно широкого бытования и толкования- утопии (утопизма как мировоззренческой категории) и антиутопии, ограничиваясь их литературными воплощениями.
Цель данного исследования — изучить пути русской утопии и антиутопии XX - начала XXI века в динамике жанровых трансформаций, выявить эстетические позиции русской антиутопии в контексте мировой антиутопии, определить тенденцию качественного движения антиутопии в сторону расширения или сужения эстетического поля ее бытования. Для этого необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить и систематизировать истоки происхождения, формирования
и жанрового развития русской утопии/антиутопии в ближних и дальних
контекстах на протяжении ХХ-начала XXI вв.
Систематизировать понимание категорий утопизма, утопического сознания и утопии в литературоведческих и философских концепциях в аспекте их эволюции, исследовать важнейшие проблемы этих связей в контексте проблем современной цивилизации и культуры.
Исследовать эстетические отношения утопии и антиутопии в исторической ретроспективе и перспективе, процессы их взаимных трансформаций.
Обосновать ведущие черты жанра утопии и антиутопии с позиции их понятийного, смыслового и эстетического сходства и различения путем сопоставления утопии с мифом, сказкой, научной фантастикой.
Исследовать общие признаки русской и мировой утопии/антиутопии^ путем анализа специфики их художественного вымысла.
Выявить и исследовать точки соприкосновения утопии/антиутопии с типологически близкими литературными явлениями (сатира, исторический
роман^. политический детектив) в аспекте жанрово-стилевых особенностей, концептуальных установок и обусловленности постмодернистской ситуацией.
7. Исследовать эстетические отношения утопии/антиутопии и: реальной действительности в парадигме межкультурных коммуникаций.
8.. Проанализировать выдающиеся и наиболее характерные дляг современной литературы произведения русской и мировой утопии/антиутопии.
9i. Исследовать трансформации двух основных типов героев; — «маленького» человека, и «сверхчеловека» в .антиутопии от начала XX века к -началу XXI.
0!бъ е.кт и ее л е до в; а ни я —произведения русской антиутопии XX--начала XXI в.в..
Пір е д мет и с с л е д о в а н и я — сюжетно-жанровые связи русской антиутопии ХХ-начала ХХІІ в.в. в. контекстах различного уровня: внутрижанровых; в рамках традиций русской литературы; в эстетических,. исторических, философских,, культурологических, политических, аспектах; В; связях с мифологией;'сказкой, научной фантастикой, фэнтези.
Мат ер -кою м и с с л е д о в а;Н-ия^ послужили-художественные-тексты, русской^ и мировой, утопиш и антиутопии;, произведения? «пограничных» жанров* русской и мировой* литературы ХІХ-ХХ; в.в. Это классические: произведения; утопии и антиутопии- в русской' и: мировой-литературе: роман; А.Богданова; «Красная» звезда», повесть-сказка, К.Мережковского «Рай земной; или (Зон в зимнюю ночь», повестии рассказы; ВФрюсова; ^Хлебникова;, стихотворения? и поэмы НїТихонова, ВіМаяковскогОі поэтов-пролеткультовцев;. роман Е.Замятина «Мы»,. романы А;Илатонова- «Чевенгур», «Котлован»,, «КЭвенильное море», «Счастливая Москва»; романы; Е.Уэллса «Машинам времени», «Остров доктора Моро», ОгХаксли «0: дивный новый мир», Дж.Оруэлла «1984» и др;; произведения пограничного жанра; произведения русской утопии и антиутопии, 60-х годов: повести и романы ИШфремова, А. и-. Б;Стругацких, В.Шефнера- и др:, утопическая, поэзия 1960-х (стихотворения и поэмы РііРождественского); поэтическая^ антиутопия И.Бродского 70-80-х годов, пьеса «Демократия»; русского андерграунда;. русская; постутопия 1980—90-х годов (рассказы и повести Л.Петрушевской, ВіМаканина; А.Кабакова, В;Рыбакова и др.); западные антиутопические сюжеты конца, XX века (романы К.Т.Бойла, М.Уэльбека, Дж.Барнса, АЛгрея;, А.Иоссе и др.); русская» антиутопия XXI века. Всего 137 художественных текстов.
Hay ч н а я нов из н а диссертации заключается^в систематизагщи эволюции, жанра утопии/антиутопии: на протяжении XX века и: начала XXIі века; процессов,трансформации антиутопии в литературном контексте века,.в: создании; концепции эстетической закономерности формирования антиутопического метажанра, основанного на принципе диалектичеки неразделимого совмещения утопии: и антиутопии: в разоблачении любого утопического проекта будущего проступают знаки новоутопического
решения описанных проблем; эстетические границы новейшей антиутопии открыты для взаимодействия с другими жанрами и художественными системами. К анализу привлечено большое количество художественных текстов русских и зарубежных писателей, составивших классическую и современную картину жанра антиутопии. Многие из них впервые рассмотрены в различных контекстах: романы И.Эренбурга «Хулио Хуренито», И.Ильфа и Е.Иетрова «Золотой теленок», В.Зазубрина «Щепка» -в контексте антиутопии; выстроен мотив превращений (оборотничества)- в контексте антиутопических трансформаций: произведения Н.Гоголя. («Шинель»), Г.Уэллса («Машина времени»), М.Булгакова («Собачье сердце»), Ф.Кафки («Превращение»), «Р:Брэдбери «Превращение»), В.Пелевина «Священная книга оборотня»). Предпринята попытка конструирования мотивно-тематических рядов в новейшей русской и западной антиутопии, своего рода центров сюжетных коллизий: 1. Полярная-структура системы персонажей: с одной стороны, - «сверх-людн» как новый утопический идеал будущего человечества, призванные заменить «старое» человечество; с другой, - «минус-люди» (монстры, оборотни, мутанты), воплощающие новую антиутопическую критику этого идеала. 2. Изображение террора как устрашающего последствия новоутопических проектов. 3. Изображение альтернативного будущего России и мира, перекроенной карты мира в духе утопического идеала глобализации и его антиутопических последствий.
Методологической основой исследования'является
комплексный подход, синтезирующий классический литературоведческий
анализ, призванный к выявлению художественного своеобразия
утопии/антиутопии; историко-генетический — с целью выявления
закономерностей бытования жанра утопии/антиутопии в ту или иную эпоху;
жанрово-типологический анализ - с целью выявления родовых черт
утопии/антиутопии, а также культурологический и социологический методы
анализа. Основной принцип исследования - введение произведений русской
антиутопии ХХ-начала XXI в.в. в широкий литературный, историко-
культурный, политико-публицистический контексты. Основной принцип
литературоведческого анализа исследуемых произведений - сопоставление
произведений русской и мировой антиутопии. В диссертации используются
положения философии, истории, социологии, культурологии по проблемам
сознания, мышления, литературно-художественного творчества (труды
П.Чаадаева, Н.Бердяева, Н.Лосского, Г.Флоровского, С.Франка, Л.Шестова,
Ф:Степуна, Ф:Ницше, Х.Ортеги-и-Гассета, О.Шпенглера и др.). Кроме того, в
работе учтены и применены научные разработки и достижения в области
теории жанра (труды М.М.Бахтина, Д.С.Лихачева, Г.Н.Поспелова,
Ю.'М.Лотмана, Б.О.Кормана, Н.Т.Рымаря, В.Е.Хализева), других
теоретических- проблем, затронутых в нашей работе (труды
Б.В.Томашевского, В.Шкловского, Ц.Тодорова,, ВЛроппа,
ОМ.Фрейденберг, Ю.Н.Тынянова, А.Ф.Лосева, Р.Барта, Е.М.Мелетинского, Я.Мукаржовского, Д.Д.Фрезера, Х.Э.Керлота и др.).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Утопия и антиутопия рассматриваются как единый жанр, совмещающий
противоположные знаки одних и тех же эстетических установок. Ведущие
признаки этого жанра: 1. Изображение коллектива, организации, общества
как модели лучшего (утопия) или худшего (антиутопия) государственного
строя; 2. Отказ от настоящего, который выражается в радикальных
формах: разрыв с привычной средой, эскапистский уход в другое, закрытое
пространство, переход в другое время; 3. Коллективный характер
утопической цели.
Утопизм является неизбывным свойством общественного сознания и обнаруживает себя только в условиях организованности людей в какие-либо объединения, группы, движения, массовые шествия и т.п.
Сходство и различение антиутопии и научной фантастики проходит по линии художественной задачи. Главный признак научной фантастики — наличие фантастического вымысла на основе научного открытия, которое* организует сюжетное движение. Изображение общественных интересов отходит на периферию сюжета и не играет главной роли в исходе конфликта. Главный признак утопии/антиутопии - изображение общественных интересов, коллективных устремлений и действий во имя общего будущего счастья. Научная тема имеет подсобное значение в сюжетном движении наряду с любой другой ситуацией, назначение которой — контроль за исполнением предложенного проекта по общественному устройству жизни. Как только научная тема в произведении начинает «управлять» поведением персонажей и вызывать (провоцировать) различное их отношение к научному открытию или изобретению, ведущее к расслоению общества, такое произведение перестает быть научной фантастикой или утрачивает чистоту жанра. По мере развития научной фантастики чистота жанра утрачивается неуклонно.
Антиутопия XX века стремится к нарушению основного принципа жанра -регламентированности. С этой позиции антиутопия - парадоксальный жанр, так как одновременно отстаивает традицию социальности эстетической концепции и специфики хронотопа —разрыв с настоящим.
Антиутопические тенденции к концу XX века усиливаются на всем пространстве литературы, объединяя и смешивая жанры не только научной фантастики, фэнтези, детектива, политического романа, но проникая и в «большую» литературу; эти тенденции проникают также в сознание реальных людей, порождая «огульное» недоверие к любым реформам и проектам по улучшению жизни.
Эстетическое движение, русской антиутопии XX века происходит скачкообразно, в несколько этапов, в тесной связи с реальной историей страны: начало века - под знаком преображения жизни (символистская утопия), годы революции - в духе предостережения от разрушения человеческой субстанции (Великая операция в романе Е.Замятина «Мы») и фанатичного прославления революции (поэтическая утопия); дезактивация антиутопии в советской литературе, этап теневого существования (1930-
1950-е годы); замедленное возвращение антиутопии (1960-е годы); появление постутопии (конец 1980-х - начало 1990-х годов) как отражение шоковой политической и социально-экономической ситуации в России и резкого перелома общественного сознания; в начале XXI века наблюдается новое эстетическое наступление антиутопии.
Постмодернистская эстетическая и культурная ситуация в общемировом масштабе благоприятствует развитию антиутопии в ее пародийных и иронических отношениях с утопией.
Антиутопия XXI века заявила новые позиции через изменение структуры персонажей, расширение диапазона качественных характеристик героев, углубление трагизма в положении личности, которая, утрачивает классическую «персоналистичность» и трансформируется в «множественного», коллективного героя: В разоблачении любого утопического проекта будущего проступают знаки новоутопического решенияі описанных проблем; эстетические границы новой антиутопии открыты для взаимодействия с другими жанрами и художественными системами. Мотивно-тематические ряды в новейшей русской и западной антиутопии конструируют следующие центры сюжетных коллизий: (1) полярная структура системы персонажей: с одной стороны, - сверх-люди как новый утопический идеал будущего человечества, призванного заменить «старое» человечество; с другой, - минус-люди (монстры, оборотни, мутанты, маньяки), воплощающие антиутопическую критику идеала; (2) изображение террора как устрашающего последствия новоутопических проектов; (3) футурологический прогноз альтернативного будущего России и мира, перекроенной карты» мира под знаком глобализагщи и предупреждения, о потенциальной антиутопической опасности.
Т е о р е т и ч,е екая значимость исследования заключается в
дальнейшей разработке, проблем утопического жанра, в частности, в
обосновании эстетического расширения жанровых границ
утопии/антиутопии, современного состояния и видимых перспектив развития русской антиутопии в новых контекстах. Автор диссертации приходит к выводу о том, что утопия не исчезает, а приобретает более гибкие, усложненные формы высказывания, например, диалектического внедрения нового утопического проекта в только что состоявшееся антиутопическое разоблачение. Открываются, таким образом, новые жанровые ресурсы утопии/антиутопии.
Практическое значение исследования состоит в возможности учета выводов диссертации для дальнейшей разработки обозначенных проблем в работах историко-литературного и теоретического профиля, в исследованиях творчества целого ряда писателей; кроме того, материалы диссертации можно использовать в процессе школьного и вузовского преподавания литературы, в частности, в курсе современной литературы, спецкурсов по научной фантастике, социальной фантастике, сравнительного изучения русской и зарубежной литератур.
Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в монографиях, статьях, тезисах докладов. Материалы исследования используются автором в практике вузовского преподавания (общие курсы по истории русской литературы XX века, современной русской и зарубежной литературы; специальные курсы по научной и социальной фантастике, литературным стилям, анализу литературного произведения).
Основные положения и выводы диссертации обсуждались на зональных, всероссийских и международных научных конференциях в Москве (2007, 2008), Самаре (ежегодно в период 1988 - 2007 г.г.), Нижнем Новгороде (2006), Казани (1992), Елабуге (2008), а также на ежегодных научно-практических конференциях Самарской академии культуры и искусств, Самарского государственного университета, Самарского педагогического университета.
Структура диссертационной работы определена целью, задачами и методикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух разделов, включающих девять глав, заключения и списка использованных источников и литературы. Общий объем работы - 529 страниц. Список литературы включает 608 наименований.
Определение утопии и антиутопии. Отношение утопии и антиутопии. Проблема жанра
Мы исходим из того положения, что литературная утопиям и антиутопия — это жанр, хотя мнения- исследователей по данному вопросу разноречивы. О.А.Павлова пишет об этом: «Достаточно часто утопиологи, предпринимая попытку типологизировать жанровое своеобразие литературной утопии, используют две схемы характеристики, определяя ее как модель или как «комбинированный» («синтетический») жанр. Пальму первенства в осмыслении специфики полиструктурности утопии занимает жанр романа, утверждаемый исследователями как «основание» для объединения других жанровых систем. Но более часто жанр романа упоминается в связи с уяснением особенностей жанровой поэтики негативной утопии. Трактовка антиутопии как «синтетического» жанра, структурообразующим началом в котором выступает роман, стала «общим местом» многих литературоведческих работ» [Ш.424.С.20]. О.А.Павлова перечисляет имена исследователей, писавших об этом (почти все они фигурируют в нашей работе), указывает на точку зрения Х.А.Мараваля, согласно которой литературная утопия существует зачастую как «фабульный фрагмент, введенный в ткань других литературных произведений», причем это касается всех литературных родов (лирики, драмы, эпоса) [Ш.424.С.20]. Наше исследование подтверждает данную позицию.
Но прежде следует определить нашу позицию относительно самого понятия жанра. Из огромной литературы о жанре выделим близкие нам суждения, которые помогут определить жанр утопии оптимально. В.Е.Хализев пишет: «Литературные жанры - это группы произведений, выделяемые в рамках родов литературы. Каждый из них обладает определенным комплексом устойчивых свойств». [Ш.523:С.319]. В» понимание жанра М.М.Бахтиным, утверждавшим, что «Жанр возрождается-и обновляется на каждом новом этапе развития литературы и в каждом индивидуальном произведении данного жанра» [IIL.183.C.179], Хализев вносит поправку: «К архаике восходят далеко не все жанры. Многие из них имеют более позднее происхождение, каковы, к примеру, жития или романы. Но в главном Бахтин прав: жанры существуют в большом историческом времени, им суждена жизнь долгая. Это - явления надэпохальные...При этом в процессе эволюции литературы уже существующие жанровые образования неминуемо обновляются, а также возникают и упрочиваются новые; меняются, соотношения между жанрами и характер взаимодействия между ними» [Ш.523.С.341].
Жанры - наиболее отзывчивая, чуткая, к любым колебаниям извне форма литературного произведения. В этом отношении актуальна (и особенно актуальна в контексте нашей темы) мысль Ю.Н.Тынянова о «колебаниях» жанра: «Жанр как система может...колебаться. Он возникает (из выпадов и зачатков в других системах) и спадает, обращаясь в рудименты других систем. Жанровая функция того или другого приема не есть нечто неподвижное.
Представить себе жанр статической системой невозможно уже потому, что само-то сознание жанра возникает в результате столкновения с традиционным жанром (т.е. ощущениям смены- - хотя бы частичной -традиционного жанра «новым», заступающим на его место). Все дело здесь в-том, что новое явление сменяет старое, занимает его место и, не являясь «развитием» старого, является в то же время его заместителем. Когда этого «замещения» нет, жанр как таковой исчезает, распадается» [IIL507.C.257]. Подобную установку в понимании жанра развивает в своих трудах Д.С.Лихачев, ставя, проблему на методологическую основу. «В литературе каждой эпохи существует «равновесие» жанров внутри определенной системы, постоянно нарушаемое извне и постоянно восстанавливаемое на новой основе, вступающее, в свою очередь, в своеобразные сочетания с отдельными видами письменности, с жанровой системой- фольклора и с отдельными видами других искусств» [Ш.374.С.56]. На материале древнерусской литературы Д.С.Лихачев разрабатывает положение об «объединяющих жанрах», «жанрах-сюзеренах», и это положение применимо к современной литературе, в частности, к современной антиутопии как нельзя более точно. Б.В.Томашевский, поддерживая идею жанра как развивающейся системы, в качестве определителя жанра указывает на доминирующие приемы, как это делали приверженцы формальной школы относительно категории доминанты (в- их числе - Ю.Н.Тынянов). «Жанр обогащается новыми произведениями, примыкающими, к уже наличным произведениям данного жанра.. Причина, выдвинувшая данный жанр, может отпасть, основные признаки жанра могут медленно изменяться, но жанр продолжает жить генетически, т.е. в силу естественной ориентации, привычного примыкания вновь возникающих произведений к уже существующим жанрам. Жанр испытывает эволюцию, а иной раз и резкую революцию...И тем не менее, в силу привычного отнесения произведения к уже известным жанрам, название его сохраняется, несмотря на радикальное изменение, происходящее в построении принадлежащих к нему произведений» [Ш.500.С.207].
Конкретно касающийся нашей темы жанровый интерес ставит перед нами вопрос о соотношении утопии как литературного жанра и утопии как определенного образа мышления. Е.Шацкий видит в этом соотношении достаточно четкое разделение: утопический жанр — это «говорящие картины» как форма высказывания , все же прочий утопии — это отвлеченные рассуждения [Ш.554.С.20-21]. В этом же аспекте можно рассматривать точку зрения современного французского теоретика литературы А.Компаньона на жанр, который представляется ему «наиболее очевидным принципом обобщения, располагаясь между индивидуальными произведениями и литературными универсалиями, и «Поэтика» Аристотеля — это очерк истории жанров...Жанр, как литературный код, комплекс норм и правил игры, сообщает читателю, каким образом ему следует подходить к данному тексту, и тем самым обеспечивает понимание этого текста» [Ш.337.С.184, 186]. По логике приведенного рассуждения утопия как жанр весьма показательна: «код» утопии содержит ряд очевидных «обобщительных» признаков, предупреждает читателя о том, что ему предстоит читать, и дает жанровую подсказку относительно понимания предложенного текста.
Приведем еще одну позицию относительно жанра, представленную в современных исследованиях ряда теоретиков (Н.Т.Рымарь, Ж.Женетт, Ю.В.Шатин), близкую, впрочем, позиции Компаньона, и сформулированную И.В.Саморуковой: «Литературный жанр представляет собой дискурс, а не текст. Иными словами, жанры — это специфические дискурсы литературы, художественной словесности. Жанр, на мой взгляд, следует понимать как надындивидуальную, типовую модель коммуникации в литературе как особой речевой практике, как одной из областей культуры».1
В свете приведенных толкований можно подходить к определению жанра антиутопии как вторичного дискурса, вызванного к жизни, обусловленного и «закодированного» утопией. Утопия, имеющая изначальный «изъян» в своем составе — чуждый эстетической природе элемент самодовлеющей социальности, - подчиняет себе все параметры утопического произведения. Содержание темы (тема государственного строя, структуры общественной жизни, отношений человека с государством), идея (утверждение идеального типа государства, обеспечивающего всеобщее счастье человечества), исходная посылка (организация экспериментального общества группой высоконравственных энтузиастов-единомышленников).
Литературный контекст русской утопии начала XX века
Великий и трагический Серебряный век русской литературы представляет уникальный контекст для утопического жанра, который-получает тогда сильнейший- импульс к освоению новых эстетических плацдармов. Усложнившаяся- литературная картина Серебряного века уже несет в себе болезненный, дух эсхатологических предчувствий: В сфере общественной- мысли происходит полемическое обострение вокруг социально-политических, идеологических и философских проблем, появляются с одной стороны, глубоко пессимистические прогнозы относительно будущего России и всего мира, а с другой, - столь же настойчивые мотивы, ликования, отчасти натужного, искусственного, по поводу надвигающегося Будущего в лице пока еще неизвестной, но Великой Соблазнительницы- - Революции. И если на одном полюсе литературы это Будущее замыкалось на безнадежном, безвыходном круге («Ночь, улица, фонарь, аптека... аптека, улица, фонарь» - А.Блок), то на другом - гремел (и оказался слышнее!) безудержный призыв «Пусть сильнее грянет буря!». Все это напоминает агонию живого организма, уже зараженного смертельным вирусом. Организм был - великая русская культура.
На рубеже Золотого и Серебряного веков резко активизируется полемика в области религиозно-философских проблем. Проблема Бога, остро поставленная Достоевским (Если Бога нет — все дозволено), стала философским плацдармом в воззрениях Ф.Н и ц ш е (1844-1900) как главное обоснование для появления Сверхчеловека и вернулась в Россию, обогащенная (или отягощенная?) соблазнительной идеей пересмотра некоторых основ русской культурной, и философской парадигмы, господствовавшей на протяжении Золотого века. Трудно назвать какого-либо крупного писателя, поэта, философа, который бы так или иначе не- отозвался на эту философию. Идея Сверхчеловека как главная, антитеза ослабевшему Богу воспринималась в России в широком диапазоне реакций - от абсолютного неприятия до полного согласия. Антихристианская идея Ницше ошеломила мир. Он определяет христианское понятие бога как бога больных, бога-паука, бога-духа как «одно из самых порченых, до каких только доживали на Земле; вероятно, оно само служит показателем самого низкого уровня, до какого постепенно деградирует тип бога. Выродившись, бог стал противоречием -возражением жизни вместо ее преображения, вместо вечного Да, сказанного ей! В боге - и провозглашена вражда жизни, природе, воле к жизни! Бог — формула клеветы на «посюсторонность», формула лжи о «потусторонности»! В боге Ничто обожествлено, воля к Ничто - освящена!..» [Ш.411.С.32-33]. Отсюда был один логический шаг-вопрос: кто должен занять место Бога? Тем более, что контекст вопроса формировался давно и упорно.
Утопия таит в себе еще одну мечту, унаследованную от сказки и, главным образом, от мифологии - о человеке, обладающем сверхъестественной, сверхчеловеческой силой, способном сразиться с любым злом и непременно его победить, будь то грозное явление природной стихии, хитрый ли, могущественный враг в облике человека или элементарный Змей Горыныч с множеством голов. Все сказочные и мифические существа этого типа, включая обитателей божественного Олимпа, - это другие существа, отличные от людей, свободные от страхов, бессмертные. Греческая мифологическая утопия, как считает Дж.Ф.Коатс, трудно представима в западной традиции прежде всего с точки зрения их пространственного пребывания — на небесах. «Их боги, - пишет он, -населяли небо, которое обеспечивало развлечение, интерес и объяснение событий, но едва ли представляло мир как идеальное существование даже для богов. Население Олимпа было антропоморфным до такой степени, что суперлюди (курсив мой. - А.В.) со способностями, которым люди (курсив мой. — А.В.) могли завидовать, изначально воплощали деспотичность, импульсивность, зависть, жадность и мстительность» [Ш.586.Р.508]. Это ведь тоже была мечта древнего мира, жаждавшего побеждать в бесчисленных войнах с врагом, - мечта о сильном человеке, свободном и всемогущем, за которым можно было бы идти легко и безопасно, на которого можно было бы надеяться и положиться, как на всемогущего Бога, который мог бы защитить. И это был именно человек, со всеми его человеческими страстями и желаниями, как представляло его себе обыденное, массовое сознание. И только он мог себе позволить аморальное поведение, но таковым оно не считалось для небожителей, - то есть - супермен. У них была строгая иерархия с верховным богом во главе — Зевсом. Они и добрые дела творили, конечно, не для всех, а только для приближенных из числа наиболее сильных земных героев, которым сами же строили «карьеру» суперменов. В русской мифологии тоже были свои сверхлюди: знаменитая, всячески пресловутая русская тройка богатырей во главе с Ильей Муромцем, например. И все эти мифологические герои типа Геракла/Геркулеса, Давида, Прометея или Ильи Муромца - полубоги, несущие в себе идею преодоления земного (смертного) тяготения, из чего хорошо просматривается, что главным Суперменом всех времен и народов был Бог.
Литературный сверхчеловек становится, в основном результатом научного эксперимента, целью которого было получение сильной, свободной, гармоничной личности. Мэри Шелли (1797 — 1851), создавая свое жуткое чудовище, вряд ли подозревала, какой эстетический резонанс вызовет ее роман «Франкенштейн, или Современный Прометей (1818) в европейской и американской литературе. Рационалистически задуманная повесть, написанная как будто во славу науки и ее безграничных возможностей, завершается (провалом) глубоким поражением ученого. Вмешательство в тайны природы не ведет к добру, тщательно разработанный научный проект наталкивается на внутреннее «сопротивление материала», результаты научного эксперимента не всегда-предсказуемы, потому что они непременно попадают в обычный, социум, реакция- которого на научное открытие может привести к трагическому исходу, каю это и случилось в повести М.Шелли. ВЇ эстетическом смысле «Франкенштейн», несомненно, стоит у истоков научной фантастики и — более того - предваряет процесс смыкания научной фантастики с антиутопией.
Ф:Ни ц ш е (1844 - 1900) в своей знаменитой книге «Так говорил З.аратустр-а» (1884). создает образ такого Сверхчеловека - Заратустры, который убежденно и торжественно объявляет, что Бог умер. И коли так — каждый теперь сам себе Бог. Заратустра говорит народу: «я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти...Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите- быть отливом этой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека?..Вы совершили путь от червя.к человеку, но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяною, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян.
Даже мудрейший среди вас есть только негармоничная, колеблющаяся форма между растением и призраком. Но разве я велю вам стать призраком или растением?
Сверхчеловек - смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: «Да будет сверхчеловек смыслом земли!» [1.81.С. 11-12]. В этом мифе культ сильной личности сочетается с романтической идеей «человека будущего», преодолевшего свое время и обыкновенный человеческий мир с его пороками и ложью. «Свехчеловек для Ницше, - пишут Ю.А.Абрамов и В.Н.Демин, - это прежде всего преодоление собственного Я во имя высшего идеала: стремиться к нему могут все, но достигнут лишь избранные. Дабы стать Сверхчеловеком, необходимо превзойти в себе самом наносное, низменное и закомплексованное. Подобный подход вызвал бешеное неприятие со стороны тех, кто сразу понял: Сверхчеловеком, ни одному из них никогда не стать, ибо сверхчеловеческое не имеет ничего общего ни с мелкими страстями, ни с повседневными заботами.
Идеологическое безумие в пародийных опытах Ю.Алешковского
Русская эмигрантская антиутопия предложила еще один интересный вариант - до-апокалиптический анализ близящейся катастрофы, которая уже ясно была различима «с того берега». Это антиутопия Юза Алегикоеского, с творчеством которого советские читатели познакомились в те же смутные 80-90-е годы. В предисловии к 3-хтомнику Юза Алешковского И.Бродский пишет: «Перефразируя известное высказывание о гоголевской шинели, об Алешковском можно сказать, что он вышел из тюремного ватника. Аудитория его - по его собственному определению — те, кто шинель эту с плеч Акакия Акакиевича снял. Иными словами - мы все. «Роман», «тискаемый» Алешковским, - из современной жизни, и если в нем есть «заграничный» элемент, то главным образом по ту сторону пребывания добра и зла. Сентиментальная насыщенность доведена в нем до пределов издевательских, вымысел - до фантасмагорических, которые он с восторгом переступает. Драматические коллизии его героев абсурдны до степени подлинности и наоборот, но узнаваемы прежде всего за счет их абсурдности. Ирония его - раблезианская и разрушительная, продиктованная ничем не утоляемым метафизическим голодом автора» [ІІІ.204.С.10].
Художественный мир Алешковского несет на себе опознавательные знаки антиутопии: в нем всегда непоправимо искажается обыкновенная человеческая жизнь, в которой сам человек не волен, рушатся мечта, семья, дом, на месте которых оказывается стиснутое «казенное» пространство — тюрьма, подполье, эмиграция, которые довелось пережить писателю лично, психушка. Излюбленная форма повествования Алешковского - монолог, своего рода исповедь, которая позволяет писателю просветить до самых потаенных уголков души самоощущение героя-рассказчика, а им может быть и палач, и жертва. Один из самых сильных романов Алешковского - «Рука» (1980) - художественный документ подпольного писателя эпохи тоталитаризма. Как пишет Е.Сидоров, «По форме это фантастический монолог «подпольного» человека (перекличек с Достоевским здесь множество и на смысловом, и на структурно-стилевом уровне), «повествование палача», бывшего охранника Сталина, следователя НКВД и КГБ, всю сознательную жизнь тайно мстящего (как граф Монте-Кристо) за своих родителей, объявленных кулаками и уничтоженных во время коллективизации. По сути это фантастическая фреска общественного распада, уничтожения национальных традиций, духовных и социальных связей, братской морали. Через весь роман проходит словесно-музыкальная тема «Интернационала», несущая миру гибель и разрушение. Советская история предстает здесь как торжество сатанизма, как игра низменных и порочных человеческих сил» [Ш.474.С.32].
Повесть ЮіАлешковского «Синенький скромный платочек» (1982, 1991) воссоздает гротескно-сатирический образ советской истории через монолог Лени Байкина, ветерана Великой Отечественной войны, а во времена брежневского правления- (основное время повести), душевнобольного. Герой пишет путаное, витиеватое, длинное письмо главному человеку государства, имя и регалии которого он перепутал: «Гражданин генсек, маршал, брезидент Прежнее Юрий Андропович!». Он пишет о себе, об обитателях психиатрической лечебницы, среди которых — Ленин, молодой Маркс, диссиденты. Мотив безумия- - традиционный в русской литературе, всегда служивший особым приемом характеристики героев и общества - у Алешковского сохраняет и эту функцию: безумцы — не те, кого заключили ! палату и насильноудерживают, как в. тюрьме,, а те, кто придумал эту странную жизнь. Но в то же время.мотив безумия приобретает И принципиально иное, а. именно - пародийное значение. Прежде всего - из пятерых обитателей-палаты только один - настоящий безумец (Ленин), один — симулянт (Маркс),, двое — насильственно обращенных в душевнобольных (диссиденты), один (Байкин) - просто маленький человек, изъятый из советской литературы, которому советская- история наконец определила-какое-то место, то есть идиот идиоту - рознь, происходит социальное расслоение; и- перед нами - символически-пародийное1 воспроизведение-советского микрообщества.
Байкин. - выживший в безумнойс истории своей страны, народный; человек, внезапно оживший в литературе после длительного литературного небытия. Он ощущает себя почти так же, как. незабвенный Назар Ильич господин Синебрюхов,.говоривший о себе: «Я,— человек неосвещенный». И почти на том же удивительном языке, о котором А.Битов пишет: «Не сразу сварился тот советский язык, на котором выговаривает свои произведения Алешковский, но заварен он был враз, гораздо стремительней, чем теперь может показаться. Первая мировая, и гражданская перемешали классы,. народы и более мелкие социальные слои-, прослойки и прослоечки (многие из которых в прежней жизни могли не иметь ни одного прямого контакта) до такой степени, что разделить их обратно не удалось бы и при самом благоприятном обороте истории. Этот мутный поток нового языка родился раньше, чем устоялись новые структуры власти. Эти новые структуры, в свою очередь, смешали язык революционной пропаганды с имперским канцелярским языком, и это новое наречие органически влилось в общий чан языка. Этот социальный воляпюк- ревпропаганды, окопов и подворотен веселил молодых писателей 20-х годов, помнивших язык изначальный. «Рассказы Синебрюхова» Мих.Зощенко (1921) писаны еще окопным сказом,-а уже в,23-м. он начинает писать языком совбыта» [III. 189.С. 199-200]. И уже совсем устоявшимся языком «вавилонского столпотворения» изъясняется. наш герой: «Я" своим крестьянским умом мало чего в социальной жизни понимаю. Но я вижу простым незамутненным оком, что колхозы — говно и хуже крепостного строя в тыщу раз, а рабочий - раб, малооплачиваемый и пьющий вусмерть...А верить в Бога почему людям не велите?..Какое уж тут право человеческое? У собаки и то больше человеческих прав, чем у людей. Она хоть лает и куснуть в случае чего может. Мы же — терпи и не гавкай, не то в дурдом - под электрошок, инсулин и проклятую химию!» [I.6.C.8]. Предполагал ли тот «маленький», который если и вообще заметил революцию, то только со стороны льгот, вдруг свалившихся на тех, «кто был ничем», что за эти льготы придется вскоре заплатить столь неадекватную цену и оказаться не в каморке водопроводчика, а в психушке?
В рассказ Лени Байкина время от времени встраивается голос Ленина, структурируясь в параллельный монолог, в котором вождь оживает как книжный парафраз его речей, книг, известных высказываний о социализме, государстве и пр., направленных в адрес советских руководителей уже другого времени, практически воплотишего его теорию. Ленин по-прежнему, как это было в истории, активен, уверен в правоте своего непререкаемого самоавторитета, что-то одобряет, что-то критикует, каждый раз подписывая свои послания разными чудовищными переделками своего имени: Ваш В.Л-н; Ваш Ичьлиульян; Ваш Чичь Нинел и т.п. Роскошный новояз скоростных именных превращений в сочетании с пространством психбольницы подчеркивает истинную трагедию простого человека, вынужденного изменить свое имя и тем обозначить свою историческую потерянность. Ленинскую реальность в варианте правления последующих вождей полностью испытал на себе Леня Байкин, на самом деле Петр Вдовушкин -тоже своего рода иронический перифраз смены имен как символического знака советской истории. У Вдовушкина имелась личная (принудительная в жестоком контексте истории) причина для отказа от имени: он хотел избежать участи сына врагов народа, то есть в сущности оказался перед в ы бором меньшего из двух зол. Да и какой это выбор? Историческаяг дилемма, на которую он был обречен вождями, играющими в свои недетские игры: Маркс — в отъем капитала у богатых, Ленин - в имена, Брежнев - в ордена.
«Сверхлюди» в антиутопии В.Сорокина и «неолюди» М.Уэльбека
Так формируется контекст русского сверхчеловека, и сверхлюди В. С о р о к и н а появляются не в пустоте.
Об1 этом писателе существует уже огромная литература, в которой предстает самый широкий диапазон оценок и суждений по поводу его творчества. И это неудивительно: перед нами, конечно, новое, необычное, яркое явление, в котором еще долго, очевидно, будут разбираться критики и читатели. Как отметил Б.Соколов, выразив, думается, мнение многих читателей, «Его книги, наверное, помогают лучше освоиться? с нынешней нестабильной российской реальностью» [Ш.482]. Мы обратимся к трем романам - «Лед» (2002) и «Путь Бро» (2004), «23000» (2006), в которых находим новый утопический проект после самой «варварской» расправы с ним в предыдущих произведениях писателя, и рассмотрим их в контексте антиутопических ситуаций современной литературы.
Но сначала приведем несколько суждений, плодотворных, на наш взгляд, для дальнейшего понимания текстов Сорокина. «Тема Сорокина, -пишет А.Генис, - грехопадение советского человека, который, лишившись невинности, низвергся из социалистического Эдема в бессвязный хаос мира, не подчиненного общему замыслу» [III.242.С. 98]. «Необъяснимое поведение текста, - пишет Т.ВіКазарина, - который всякий раз как бы «свихивается», дойдя до середины, совершенно программно для Сорокина: текст ведет себя, как и реальность, которая находится на грани безумия и время от времени «срывается» в полную невменяемость» [ІИ.311.С.102]. «Молодой Сорокин пытался отыскать пространство вне зоны цинизма» [Ш.464.С.171]. Б.Соколов пишет о «Пире»: «Все, что связано с приготовлением и поглощением пищи, как материальной, так и духовной, представляет для Сорокина магический ритуал... Иногда литературный источник рассказа виден сразу. Так, «Аварон» написан на основе детских дневников Юрия Трифонова 37-го года, а главный, герой - сводный брат булгаковского Воланда. Тут в пищу притаившемуся в мавзолее Ленина Червю коммунизма идут православные молитвы, которые таким образом из восторженной силы превращаются в горькую слабость. Идеологическая пища ленинизма нравится писателю ничуть не больше, чем сегодняшняя патриотическая солянка. Равно как и то, что власть заставляет нас «жрать самоубийственный путь от квазидемократии к национал-популизму» [III.481].
В мире русского писателя Владимира Сорокина вечная непримиримо-контрастная- и в то же время неразрывно-неразлучимая связка любовь-смерть решается определенно и необратимо в пользу Смерти. Его главный вопрос формируется под другим акцентом, наполняется- более социальным, а не философским смыслом, но в то же время парадоксально окружен лирическим ореолом. Во всяком случае, три романа В.Сорокина- «Голубое сало» (1999), «Сердца четырех» (1999) и «Лед» (2002) - заострены на этот вопрос, обращенный к сознанию, коль таковое еще осталось, постсоветских людей: что с вами еще нужно сделать, чтобы вы навсегда расстались со своими иллюзиями?
Главный герой Сорокина — Сердце. И оно-то необратимо смято, раздавлено людской и государственной мерзостью и безобразием жизни, абсолютно беззащитно и уже нечувствительно к жестокости и насилию. Осталось только спрессовать его в специальных устройствах, путь к которым не просто смертельно опасен, но и омерзителен, наполнен ужасом, невообразимыми издевательствами, неописуемым унижением. Впрочем, для Сорокина нет ничего по части безобразного, что он не сумел бы описать. Эстетикой безобразного он владеет в совершенстве. И даже знаменитые европейские писатели, специализировавшиеся в этой сфере (Жан Жене, Л.-Ф: Селин, Б.Виан) вряд ли его превосходят. Но если в западной литературе мерзость все-таки является как бы частным делом персонажей, замыкается.их существованием, не покушаясь на все общество и не закрывая будущего, то-весь мир Сорокина замкнут именно на этих точках, с которых уже ничего не видно, в том числе - будущего.
На «прессовке» сердец четырех заканчивается все («Сердца четырех»), потому что герои неудержимо к этому стремятся. Ничто не может их остановить, они убивают своих матерей и отцов, то есть — первородный исток собственного существования, чтобы использовать их тела для получения невообразимой «жидкой матери». А.Генис пишет: «Сердца четырех» - не роман абсурда. Он наполнен глубоким религиозным содержанием, раскрыть которое Сорокину позволяет как раз та самая мерзость человеческого тела, которую не устает описывать автор...Показывая, что может сделать один человек с другим, автор замирает не в ужасе, а в отвращении, которое у него вызывает наша плотская натура. Человек для Сорокина - это не царь природы, а нелепая натуралистически выполненная кукла, набитая вонючими потрохами и обтянутая кожей марионетка» [Ш.242.С.104]. В романе «Лед» сердце становится- центром утопическою программы по изысканию носителей сердец среди огромного количества «мясных машин». Такова первоначальная данность мира, в котором происходит необыкновенная «уголовщина», действующая, как оказывается, с необыкновенной же возвышенной целью: разыскать тех, в ком бьется живое сердце, заставить это сердце говорить напрямую с другими такими же сердцами, без телесного посредника в виде речевого аппарата, без голоса, потому что все слова уже сказаны и все их смыслы утрачены от многократного употребления всуе. Естественно, возникает давний вопрос о пропорции цели и средств ее достижения.
Е.Еоманова и Е.Иванцов пишут: «В романе «Лед» Сорокин предпринимает «нескромную деконструкцию» так много говорящей русской душе философии Вл.Соловьева, вводя ее в архетипическую канву эсхатологических опасений и чаяний. Писатель отыскивает общую точку соприкосновения соловьевской религиозной концепции богочеловечества и ницшеанского человекобога, антихристианина. Легкоузнаваемые философские концепции Ницше и Вл.Соловьева в сорокинском тексте контаминируются причудливо, но логически непротиворечиво. Художественный эксперимент, соединяющий философские системы Вл.Соловьева и Ницше, воспроизведен в услових легкоузнаваемых реалий исторического времен и... Сюжет сорокинского романа послушно воспроизводит первую логическую посылку: ущербность, испорченность человека должна быть преодолена, он может быть возвращен в прежнее «незамутненное» состояние своей истинной природы. Но без жертв, без апокалипсиса не обойтись — только избранные войдут в Царство Небесное — в «новую расу» сверхчеловеков Ницше, в Богочеловечество Соловьева, в «Круг Света» Вл.Сорокина...Сорокин доводит тезис Вл.Соловьева до его наглядного, трагического и нравственно шокирующего порога. Следствием воплощения Света в сорокинском романе явится физическая гибель земли и населяющих ее людей. Только избранные носители Света обретут гармонию всеединства» [ІІГ.453].
В 1920-х годах русская антиутопия уже, казалось, вдребезги разбила утопическую попытку соединить «душу» («сердце» по Сорокину) русского правдоискателя («филозофий», как обозначил эту нравственную мятежность русского интеллигента герой повести В.Зазубрина «Щепка») с идеей необходимости жертв во имя коммунизма. Приняли эту идею герои всех классических антиутопий, но потерпели на путях ее реализации убийственный разлад души, надорвав «сердце». Процессы, разрушающие природное состояние «души», стали основным объектом антиутопической критики. Великая операция по удалению Души привела к тому, что на месте человека произросла «мясная машина». И об этом надорванном сердце, поврежденной душе повествует «Лед». Сорокин показывает изначальную обреченность «сердечного» проекта будущей общины избранных. Уже неважно теперь, чей человекобог или богочеловек с кем будет объединяться, - Апокалипсис предрешен всеми предыдущими попытками подобного рода. Но попытки все равно повторяются время от времени, и каждая новая попытка только влечет за собой новые потери, пласт за пластом снимая с «сердца» остаточные его признаки.