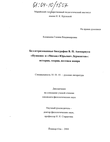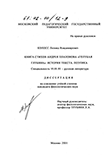Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Литературная ситуация 50-х годов и группа Леонида Черткова . 18
Глава 2. Лианозовская группа и формирование российского варианта конкретной поэзии . 42
Глава 3. Конкретная поэзия как поставангардное явление . 85
Глава 4. Поэзия группы СМОГ и литературная ситуация 60-х годов . 99
Глава 5. Проблема лирического стиха в постмодернистской ситуации. 118
Глава 6. Минимализм в современной поэзии . 150
Глава 7. Поэзия 80-х годов и проблема типологизации современной поэзии. 160
Заключение 185
Библиография 198
- Литературная ситуация 50-х годов и группа Леонида Черткова
- Лианозовская группа и формирование российского варианта конкретной поэзии
- Конкретная поэзия как поставангардное явление
- Поэзия группы СМОГ и литературная ситуация 60-х годов
Введение к работе
Проблема изучения русской литературы советского периода и, тем более, 1950-1980х годов остается в наше переходное время жестких политико-идеологических баталий остро полемичной. В зависимости от того, каким видится социокультурный идеал России будущего, оценивается и ее прошлое. Данная работа основывается лишь на одной из версий осмысления современной поэзии (а поэзия второй половины XX века для нас безусловно современная) - версии, предполагающей, во-первых, принципиальность разделения поэзии 50-80-х годов на официальную и неофициальную, а также безусловный приоритет неофициальной поэзии в художественном отношении. С этим согласятся далеко не все. Поэтому для начала автор хотел бы изложить основные аргументы в пользу такого подхода.
Специфика русской литературы советского периода, очевидно, в том, что она создавалась в советский период, то есть в весьма специфических условиях тоталитарного государства. Советская культурная модель - порождение этого государства. Выделяются три очевидные фазы ее эволюции (определяемые в конечном счете эволюцией самого государства): 20-е годы - период становления тоталитарной культурной модели, 30-е - середина 50-х - период ее полной реализации, ее безраздельного господства и, третий этап, середина 50-х - начало 90-х - период модернизации классического сталинского образца, с неизбежностью завершившийся распадом самой тоталитарной сути. В принципе тоталитарная культурная модель, основанная на политике культурного террора, по определению исключает одновременное существование конкурирующих культурных пространств. Искусство может быть только официальным, государственным. Так и было в классический, сталинский период, когда политика культурного, идеологического террора дополнялась террором политическим, физическим уничтожением всех потенциальных конкурентов тоталитарного искусства. Однако с отказом после смерти Сталина от массового политического террора культурный террор уже не мог полностью контролировать ситуацию. С одной стороны, возникло мощное движение по легальной модернизации существующей культурной модели (политически поддерживаемое реформаторской частью правящей бюрократии), с другой - неофициально, частным образом, постепенно формировалось и совершенно независимое от тоталитарного государства культурное пространство.
Граница, разделяющая тоталитарное и нетоталитарное культурные пространства, чаще всего (но не всегда) определялась отношением тоталитарного государства к конкретному художественному явлению. Интегрируемость художественного явления в тоталитарную культурную модель - фактор в конечном счете эстетический, хотя сам факт принадлежности данного автора официальной литературе (членство в союзе советских писателей, издание книг государственными издательствами) еще, конечно, ничего не доказывает. Во всяком правиле есть свои исключения, но все же, по большому счету, "официальных" и "неофициальных" авторов нужно рассматривать отдельно. Здесь идет речь о двух качественно разных, несопоставимых культурных пространствах. И каждое из них необходимо судить по его собственным законам.
Конечно, сейчас никто из здравомыслящих писателей и поэтов советской эпохи не признает над собой власти тоталитарных законов. И все же порой очень тонкая грань между пафосом "модернизации" тоталитарной модели, пафосом, определившим безусловно все лучшее в советском искусстве, и отсутствием этого пафоса в виду принципиальной неинтегрируемости художника в тоталитарную систему - эта грань совершенно реальна и эстетически значима. Искусство "модернизации" 1 при всех своих огромных заслугах исторически маргинально. Оно возникло в определенных исторических условиях и решало определенные исторические задачи, актуальность которых на сегодняшний день исчерпана. "Оттепельное" искусство, породившее всю литературу советского либерализма последующих десятилетий, во многом ориентировалось на советское искусство 20-х годов, на начальную фазу развития тоталитарной культурной модели, в которой еще сохранялась известная эстетическая "многоукладность", определенная художественная свобода и, что самое главное - еще ощущалась не иссякшая энергия могучего культурного взрыва "серебряного века". Эта модель, позволяющая сочетать идеологическую
Искусство классической, сталинской тоталитарной модели искусством вообще не являлось. Не в том смысле, что это было очень плохое искусство. Сталинское искусство - особый род ритуальной деятельности, в том числе и художественной - но далеко не в первую очередь. лояльность и эстетическую терпимость (в строго определенных, конечно, пределах) казалась образцовой. Однако эта модель, безусловно расширяя послесталинское культурное пространство, ничуть не меняла его тоталитарной сути.2 Тоталитарная культурная модель в первую очередь характеризуется ярко выраженным эстетическим утилитаризмом, обязательной подчиненностью собственно художественной работы внехудожественным целям. Художественная работа "оттепельного" искусства при всей своей антитоталитарной направленности полностью отвечала этому условию: она уходила именно на "расширение", "модернизацию" культурного пространства - с одной стороны, на практически открытую популяризацию "левого" искусства 20-х годов и - частично - вообще серебряного века, с другой - на чисто публицистическое расширение "области правды" ("окопная правда", правда о "культе личности"), когда использование любого нового для послесталинского искусства жизненного материала воспринималось как художественное достижение.
На самом деле художественные задачи в обще-"оттепельном" порыве к "правильному", "ленинскому" социализму, неизбежно отходили на второй план ("поэт в России больше, чем поэт"), в лучшем случае, как, например, в декларативном, пропагандистском эстетизме Вознесенского, сводясь все к той же "популяризации" и культуртрегерству. Поэтика советского искусства сознательно, имманентно вторична. Это отнюдь не обвинение. Это прямое следствие основных законов, формирующих тоталитарную модель, пусть даже модифицированную. Это та цена, которую приходилось платить художнику за свой высокий государственный статус, за государственные гарантии (обеспечиваемые дозволенной дозой оппозиционности, эстетической и политической "фронды") всенародной любви к его творчеству.
Искусство в тоталитарном культурном пространстве неизбежно приобретает черты своеобразного нового синкретизма, беря на себя функции, давно уже не свойственные секуляризованному искусству нового времени - функции 2 У искусства 20-х годов были совершенно другие отношения с формирующейся тоталитарной культурной моделью: не искусство возникало в условиях тоталитаризма, а тоталитаризм использовал для своего формирования часть современного искусства. Роднит 20-е и 60-е годы только то, что и в том и в другом случае художники ДОБРОВОЛЬНО, в силу собственных художественных обстоятельств, интегрировались в тоталитарную культурную модель. Однако обстоятельства эти были существенно разными. политические, духовно-миссионерские, культовые. С другой стороны, советское либеральное искусство заполняло собой и пустующую в тоталитарном обществе нишу массовой, развлекательной культуры (в этом направлении и предстоит, видимо, эволюционировать большей части советских авторов). Советская либеральная литература - особый квазихудожественный феномен, порожденный особым, искусственным культурным пространством. В этом пространстве глобальные, экзистенциальные художественные открытия были просто невозможны, они были там заранее запрещены: все уже открыто и объяснено историческим материализмом и социалистическим реализмом. Художник мог работать только на тесной территории допустимых толкований священного учения либо в не менее тесном, чисто психологическом пространстве, со священным учением и вообще экзистенциальными проблемами никак не пересекающимся. Художественные удачи возникали в этих маленьких уголках личной свободы, и каждый шаг в сторону безошибочно квалифицировался как "подрывной". (Реальный социализм, как известно, мог примириться только с ЛИЧНОЙ, психологизирующей собственностью, абсолютно запрещая собственность ЧАСТНУЮ, онтологизирующую).
Все вышесказанное применимо не только к откровенной публицистичности, скажем, "эстрадной" поэзии. Тут, как кажется, можно говорить и о самых серьезных и наиболее плодотворных попытках создания поэзии "высокой традиции", о "культовых" фигурах советской лирики, о действительно лучших официальных поэтах. Это большая (и довольно болезненная) проблема, требующая отдельного серьезного исследования. Приведем лишь несколько частных соображений.
Из поэтов военного поколения проблему лирического стиха, классической традиции, наиболее остро ощущал Давид Самойлов. Неудовлетворенный лефовско-конструктивистской поэтикой, воспринятой в юности вместе со всеми молодыми поэтами предвоенных лет (а, заметим, вся советская поэзия, в том числе послевоенная, так или иначе основывалась на различных вариациях поэтики "левого" искусства 20-х годов), Самойлов всю свою жизнь пробивался к традиции, боролся с утилитарной "левизной" и немало в том преуспел. Он действительно создал свой лирический стих, и, видимо, именно лирикой (а не поэмами), останется в литературе. Однако до конца изжить систему советских художественно-идеологических табу не удалось даже такому сверхтребовательному к себе мастеру.
У Л. Аннинского, в его известной книге "Тридцатые-семидесятые", есть любопытный эпизод. "При всей широте своих чисто поэтических симпатий, -пишет критик, - Самойлов с неожиданной резкостью обрушился на одного молодого поэта, отказав ему чуть ли не в праве писать стихи. Вот строчки, вызвавшие гнев Самойлова:
Мир наполняют послевоенные люди послевоенные вещи нашел среди писем кусок довоенного мыла не знал что делать мыться плакать
Уже нет на свете "молодого поэта", Владимира Бурича, начавшего печататься лишь в последние годы жизни, в перестройку. Нет и Самойлова. Однако давнее столкновение двух разных художественных систем (дело, видимо, происходило в начале 70-х) и сегодня выглядит крайне актуальным. Впрочем, продолжим цитату: "В отличие от Самойлова, я считаю Владимира Бурича, написавшего эти стихи интереснейшим поэтом. Но я понимаю, что именно в этих стихах вывело из себя Самойлова... Дело в том, что Бурич пишет человека потерянного, неприкаянного, осиротевшего; у него и спущенные удила ритма, и отсутствие знаков препинания - все передает это оцепенение сиротства. Никогда герой Самойлова не знал этого состояния". [3, с. 178]
К анализу Л.Аннинского можно кое-что добавить. Думаю, "неожиданная резкость" Самойлова не в последнюю очередь вызвана подчеркнутым "антиисторизмом" стихов Бурича. Вполне допускаю, что даже столь легкое прикосновение к военной теме (о чем Бурич, конечно, и не задумывался) могло показаться поэту военного поколения кощунственным. Великая война, героизм -основа основ советской исторической мифологии. На фоне внутреннего террора освободительная война, победа воспринималась как момент истины, этическая и онтологическая основа всей советской жизни. А Бурич, в глазах Самойлова, низвел великую историю до уровня мыла.
Сам Самойлов тут всецело наследовал советской поэзии все тех же 20-х годов. "Сороковые, роковые..." - канонизированная классика, визитная карточка Самойлова - прямое продолжение комсомольской романтики гражданской войны. Вне этой героической традиции историзм для Самойлова в поэзии просто невозможен. А, между тем, военная тема могла решаться и по-другому -теперь это хорошо видно по наконец-то опубликованным стихам других поэтов военного поколения (тоже, кстати, фронтовиков), не попавших в советский литературный истэблишмент - Сатуновского, Холина... Здесь вместо романтического культа "справедливой" войны ("справедливость" ее, как мы знаем, была весьма относительной) и победы нечто совершенно противоположное: твердая убежденность в том, что война, как и лагерь, вообще не может служить источником позитивного эстетического опыта. Дело не в разном понимании смысла исторических процессов (хотя и в этом тоже), дело в качественных различиях ХУДОЖЕСТВЕННОГО отношения поэтов к одному и тому же жизненному материалу.
Процитирую текст Бурича до конца:
Довоенная эра затонувшая Атлантида уцелевшие чудом3
После войны, после всех катастроф, "уцелеть" в этой жизни можно только "чудом". На самом деле стихи Бурича в высшей степени историчны. Но, разумеется, подобный историзм никак не вписывался в советское культурное пространство, формируемое, в частности, стихами того же Самойлова. И для меня лучший, главный Самойлов - не "Сороковые, роковые..." (это, конечно, шедевр, но шедевр СОВЕТСКОЙ литературы), а его камерные, написанные без
Стихи здесь и далее цитируются по личной компьютерной базе данных автора работы, набранной с машинописных (иногда - рукописных) оригиналов, принадлежащих авторам стихов или их наследникам. советских онтологических подпорок вещи: "У зим бывают имена...", "Пярнусские элегии"...
Поэтика в советском культурном пространстве, сама ее структура, помимо всего прочего, всегда определялась определенным набором внехудожественных факторов. Так, например, существеннейший смысловой узел советско-либеральной эстетики - "интеллигентность" автора, его ориентированность на "культуру". Десятилетиями советская пропаганда и официозное искусство прививала массовому сознанию подозрительность к "гнилой интеллигенции", и потому сам образ "интеллигента в очках" был необыкновенно привлекателен для художника (на экране, в фильме по военной книге В. Некрасова - тоже одной из главных "культовых" книг оттепельного искусства - этот образ создал впервые И.Смоктуновский). Культуртрегерство с его неизбежной дидактикой присуще не только Вознесенскому, это родовая особенность всего советского либерализма. Оставаясь по существу "журналистским" (в том смысле, в котором это слово употреблял, размышляя о путях развития русской поэзии XIX века, Иннокетний Анненский [2, с.95]) явлением, культуртрегерство в советской культурной модели выглядело как подлинное приобщение к "высокой" традиции. "Ничего из попытки вырастить особую, советскую поэзию не вышло, - пишет А.Кушнер, - провалились десятки, сотни таких поэтов и проваливаются до сих пор. Что отличает их, что выдает? - слово, стоящее вне поэтического контекста, голое, однозначное, не укорененное в традиции, свободное от культурных ассоциаций, "одноразовое", мечтающее о прозаическом повествовании, о газетной заметке, публицистической статье" [12, с.444]. Ну а если слово "мечтает" о "традиции", о "культурных ассоциациях", о "многоразовости" (то есть - вечности)? Что это меняет? Ничего. КАК "укорениться в традиции"? - вот вопрос, на который поэт должен ответить своим творчеством. Интеллигентность, культуртрегерство - лишь "мечта" о традиции, благородное намерение, а не его реализация.
Кушнер, тонкий лирик, безусловно, все это понимает и, как и Самойлов, преодолевает имманентное культуртрегерство своей интеллигентской позиции психологической конкретностью лирики, выверенной гармонией пропущенного через культуру лирического события. Однако акмеистская мифологема "мировой культуры" с окончательным распадом модернистского мира неизбежно утратила свое онтологизирующее значение. Кушнер на ней и не настаивает, считая лирическое событие единственной художественной реальностью поэзии, не ищет новой онтологии и тем самым вполне сознательно ограничивает свой безусловно виртуозный стих чисто психологическим проблемным полем. Это достойная стратегия, но все же она ведет к весьма ограниченному пониманию поэзии. Подключить традицию к личному психологическому опыту - еще не значит укорениться в этой традиции по-настоящему. Онтологизирующее отношение к традиции - это существенно активное отношение, и только активность, даже полемичность, создает возможность равноправного культурного диалога, который и составляет суть культурного развития, постоянного расширения эстетической перспективы.
Лично мне из "культовых" поэтов советской интеллигенции ближе всего Чухонцев. В его поэзии нет культуртрегерства, нет любования своей "просвещенной" позицией. Он почти так же беспощаден к себе, как и лирики "андеграунда". Особенно бросаются в глаза явные пересечения с Гандлевским (о котором речь еще впереди):
Ах, не ты ли - какими судьбами - счастье русское? Как бы не так!
Сапоги оторвало с ногами.
Одиночество свищет в кулак.
И тоска моя рыщет ночами, как собака, и воет во мрак.
Тут все - интонационные ходы, лексика, ритм - напоминает поэзию лидера "Московского времени" (одна строчка совпадает даже текстуально: у Гандлевского - "расстояния свищут в кулак"). Но, разумеется, ни о каких взаимовлияниях не может быть и речи - в те годы (70-80-е) поэты "Московского времени" публикуемых в советских изданиях авторов просто не читали. "Самиздат" к тому времени стал уже вполне самодостаточным. И различия между поэтическими системами Чухонцева и Гандлевского принципиальнее совпадений. Элиминируя фальшивую романтику (в чем его огромная заслуга) и избегая "поэтических красот" музейной культуры, Чухонцев, в отличии от Гандлевского, все же не идет на более радикальные эстетические решения, связанные с постмодернистским пересмотром самого статуса лирического высказывания. Внутриязыковые отношения в поэзии Гандлевского и Чухонцева отличаются качественно, у Гандлевского они гораздо драматичнее, и Чухонцев здесь ближе тому же Самойлову, вообще советской традиции, а отнюдь не эстетике "андеграунда".
Возможно ли было по-настоящему "укорениться в традиции", оставаясь при этом официальным поэтом, хоть в малой степени, но участвуя в советском литературном процессе? Честно говоря, я в это не верю. Цензура тут действовала безошибочно. Не потому, что у нее был безукоризненный вкус. Здесь возникла самоорганизующаяся система. Работал пресловутый внутренний цензор самих участников советского литературного процесса (и в первую очередь - наиболее талантливых), работала чисто художественная цензура. Эта цензура возникла на основе совершенно конкретной системы философско-эстетических взглядов, и именно она определила не политическую, а художественную реальность нашей, разделенной на два параллельных мира, культуры. Порой, кстати, умозрительный внутренний цензор советской либеральной литературы вел себя вполне конкретно-материально. Приведу такой текст с эпиграфом:
Отбывайте, ребята, стаж... ...У Народа нету времени, Чтоб выслушивать пустяки. (60-е годы, Б.А.Слуцкий) как я к вам со стихами тыркался все-тки это был цирк уважаемые товарищи Иван Иванычи Петры Петровичи уважаемые товарищи
Борис Абрамович и Давид Самойлович я не буду вам мешать то есть вашу мысль понял и оценил
Автор этих стихов, Всеволод Некрасов, и без иронии ценит Самойлова и Слуцкого - как поэтов. Его претензии к ним (видит Бог - справедливые) - как к функционерам советского литистэблишмента. Дело давнее. Но противостояние (и теперь это уже чисто художественное противостояние) сохраняется.
Противостояние художественных практик отражается, естественно, и в противостоянии теоретических концепций (о чем уже говорилось в самом начале). Позиция советской либеральной критики достаточно внятно сформулирована, например, Ст. Рассадиным в статье "Голос из арьергарда" [54]. Критик сообщает читателю, что в так называемом "андеграунде" ничего примечательного с точки зрения искусства не создано. Изучать, собственно, нечего: все лучшее в современном искусстве и так уже известно. Тема, таким образом, просто закрывается.
В середине 90-х журнал "Новый мир" опубликовал статью автора данной работы, в которой высказывались некоторые соображения о поэзии последних десятилетий [45]. Публикация сопровождалась "двумя репликами" -полемическими заметками Ю.Кублановского [44] и И.Роднянской [56], отражающими точку зрения редакции на предложенный читателю материал. Здесь раздражение вызвал не факт наличия неофициальной литературы как таковой (Ю.Кублановский, как известно, тоже вышел из "андеграунда"), а повышенные интерес автора статьи к таким явлениям искусства 50-70х годов как концептуализм и конкретная поэзия. Полемика имела развитие - в книге ведущего представителя современного концептуализма поэта и критика Вс.Некрасова "Пакет" опубликована большая статья "Две реплики и некоторые заметки" [9, с.548], посвященная даже не столько той давней публикации, сколько принципиальным методологическим вопросам изучения современной поэзии. Разумеется, автор данной работы во многом солидарен именно с Вс.Некрасовым, а не с И.Роднянской и, тем более, Ст.Рассадиным. Но на этих страницах разворачивать полемику смысла не имеет. Ограничимся лишь констатацией наличия других точек зрения, оставив их критический анализ для более подходящего случая.
Тем более, что неофициальная литература, оказавшаяся столь неприятной неожиданностью для советских критиков, имеет собственные традиции теоретического осмысления, и это гораздо важнее проблем нынешних взаимоотношений с редакциями "толстых" журналов. В самиздате и тамиздате публиковались критические статьи, слависты западных университетов писали научные работы. Конечно, ненормальность нашей социокультурной ситуации сильно осложняла эту работу. Главным препятствием для создания цельной и непротиворечивой типологиии современной русской поэзии, понятно, была (и остается) труднодоступность многих текстов. Исследователь зачастую просто не владел в должной мере нужным контекстом - отсюда и явная поспешность некоторых обобщений, перекосы в оценках, порой очень сильно искажающие реальность. Свою злую роль сыграли и конъюнктурные интересы ряда недальновидных критиков, особенно в эпоху перестройки - когда одних авторов "поднимали на щит" явно в ущерб другим. Проблема осмысленного, структурированного издания современной поэзии по-прежнему актуальна. Да что говорить: часть существенных, важнейших текстов до сих пор не опубликована!
Подробный анализ сам- и тамиздата не входит в нашу задачу. Но некоторые основные вехи отметим.
Одной из первых западных публикаций новых поэтов стал сборник Ольги Карлайл Poets on Street Corners [29], изданный в Нью-Йорке в 1968 году. Здесь, рядом с Ахматовой и Цветаевой, были опубликованы "барачные" поэты Игорь Холин и Генрих Сапгир. Потом австрийская славистка Лиз Уйвари издала свои переводы в журнале и отдельной книгой - "Свобода есть свобода. Неофициальная советская лирика" [25]. Это уже середина семидесятых. Затем важнейшее эмигрантское издание - альманах "Аполлон 77" Михаила Шемякина [19]. Этот огромный том посвящен вообще неофициальному искусству -живописи, поэзии, прозе. Здесь же были опубликованы и критические статьи -одни из первых по нашей теме.
Необходимо также отметить парижский журнал "Ковчег" [20], который издавался в конце 70-х годов эмигрировавшим из СССР писателем Николаем Боковым. Вышло 5 или 6 номеров, но все - на редкость содержательные.
Примерно тогда же в США начинает издавать свою многотомную антологию современной поэзии "У Голубой Лагуны" [30] поэт Константин Кузьминский, бывший ленинградец. Всего вышло девять толстенных (800-900 стр.) томов, тоже, как и "Аполлон 77", содержащих не только поэзию, но и материалы по изобразительному искусству, критические, мемуарные эссе и статьи. (Подробнее об этом издании и вообще о личности К. Кузьминского см. [11]).
В начале 80-х годов с поэтами московского "андеграунда" знакомятся слависты Бохумского университета Сабина Хэнсген и Георг Витте. Плодом их работы (как переводчики они публиковались под псевдонимами Саша Вондерс и Гюнтер Хирт) становится издание сборника московских концептуалистов [26]. Книга снабжена солидным филологическим аппаратом и богатым иллюстративным материалом. В набор входит аудиокассета с записями стихов в авторском исполнении. Позднее появилось аналогичное издание, посвященное творчеству поэтов и художников лианозовской группы [27].
Необходимо также отметить специализированный литературный выпуск эмигрантского художественного журнала "А-Я" 1985 года [17]. Этот журнал в начале 80-х годов играл большую роль в художественной жизни "андеграунда", в процессе теоретического осмысления наиболее актуальных направлений современного искусства (главный редактор - художник И.Янкилевский). В литературном выпуске, помимо собственно поэзии и прозы, было опубликовано несколько важных литературно-критических статей, в том числе статья о визуальной поэзии Вс.Некрасова "Объяснительная записка".
Из многочисленных отечественных изданий перестроечной поры своей концептуальностью и представительностью выделяются сборник "Понедельник" [22] и альманах "Личное дело" [21]. Обе книги предваряют фундаментальные статьи поэта и критика М.Айзенберга, в "Личное дело" включены также ранее публиковавшаяся в журнале "Дружба народов" статья критика А.Зорина о группе "Альманах" [41] и исследование искусствоведа Е.Деготь, посвященное художественной практике соц-арта и концептуализма в изобразительном искусстве.
Еще в конце 70-х годов поэт и критик Владислав Лен выдвинул так называемую "концепцию бронзового века" в русском искусстве второй половины XX столетия [28]. Фактически речь шла именно о неофициальном искусстве. Основываясь на богатом фактическом материале, В. Лен предложил собственную типологию художественных направлений современной поэзии. Исходя главным образом из формальных, "просодических" характеристик стиха, исследователь разбил всех авторов по "школам" и отметил связи между ними на символическом "древе" русской поэзии. "Школ" получилось несколько десятков.
Отдавая дань уважения этой, наверное, первой серьезной попытке типологизации явлений современной поэзии, автор данной работы не видит для себя возможности следовать по предложенному В.Леном пути. Художественная типология не может строиться исключительно на формальных характеристиках стиха. Сначала должны быть решены более общие вопросы -вопросы поэтики, понимания структуры данного художественного явления (в том числе и всей неофициальной поэзии) как единого целого. Этого в типологии В.Лена нет.
Гораздо более плодотворным представляется совсем вроде бы "ненаучный" метод уже упоминавшегося выше создателя антологии "У Голубой Лагуны" К. Кузьминского. Он не гонится за формальной непротиворечивостью, решительно предпочитая количественным характеристикам стиха качественные. Кузьминский организует свою антологию по хронологически-территориальному принципу, выделяя не абстрактные "школы", а конкретные группы авторов, близких друг другу в жизни и творчестве. Ведь авторов, в конечном счете, сводит не столько жизнь, сколько именно творчество, и за вроде бы чисто бытовой конкретикой почти всегда скрываются важные художественные реалии.
Кстати говоря, этот же принцип выдержан и в поэтическом разделе антологии "Самиздат века", составленном Г.Сапгиром (с редактурой Ивана Ахметьева и автора данной работы [23]). Это, конечно, тоже далеко еще не совершенное издание, частично пересекаясь с "Лагуной" (что оправдано ее абсолютной недоступностью для российского читателя), думается, все же станет первым шагом к созданию насущно необходимой научной антологии русской поэзии второй половины XX века.
Публикаторской деятельностью в начале 80-х много занимался писатель А.Ровнер, издававший в Нью-Йорке журнал "Гнозис". (Основные публикации тех лет собраны в недавно вышедшей двухтомной "Антологии "Гнозиса"" [18].) Тогда же А.Ровнер в соавторстве с поэтом и критиком В. Андреевой выступил с концептуальной статьей "Третья литература", вызвавшей в то время немалый интерес. (Статья была опубликована в журнале "Гнозис", и в перестройку перепечатана рижским журналом "Родник" [55]). Есть советская литература, -говорилось в статье, - есть антисоветская, а есть совершенно другая, "третья литература", которая занимается в первую очередь художественными и экзистенциальными проблемами, а не публицистикой в поверхностной псевдохудожественной упаковке. Эта мысль оказалась весьма созвучна тому, над чем размышляли тогда авторы "андеграунда".
В 80-е годы много занимался современным концептуализмом и минимализмом американский славист, специалист по русскому футуризму Джеральд Янечек. В его статьях, посвященных, главным образом, творчеству )'г поэта Всеволода Некрасова, дан тонкий и исчерпывающий анализ поэтики минимализма, визуальной поэзии, сделаны важные наблюдения относительно особенностей эстетики и художественной практики концептуализма [63], [64], [65]. Джеральд Янечек переводил на английский стихи Вс.Некрасова и других поэтов, публиковал свои переводы в США.
Сам Вс. Некрасов, как уже говорилось, не только поэт, но и профессиональный критик. Его статьи о современной поэзии, вообще современной искусстве - это и свидетельство практика, непосредственного участника описываемых событий (одна из его статей, например, так и называется - "Как было дело с концептуализмом"), и работа вдумчивого исследователя, бережно относящегося к живой цельности анализируемого художественного явления, бескомпромиссного к любым проявлениям догматического, псевдонаучного теоретизирования. У Вс. Некрасова совершенно ясная и логически непротиворечивая система взглядов и оценок, которая сослужит хорошую службу еще не одному поколению исследователей. Критика и публицистика поэта, частично публиковавшаяся ранее в периодике, собрана в изданной в 1996 году книге "Пакет" [9].
Но, наверное, наиболее систематически ведет изучение современной поэзии поэт и критик Михаил Айзенберг. Его фундаментальная статья "Некоторые другие", опубликованная в 1991 году в журнале "Театр" [33], - первая и на редкость удачная попытка развернутого очерка истории неофициальной поэзии. Точные и глубокие замечания о творчестве нескольких десятков действительно наиболее существенных авторов последних десятилетий, убедительно проиллюстрированные наиболее яркими фрагментами поэтических текстов, смелые, но выверенные обобщения, выводящие к пониманию важнейших аспектов актуальной художественной логики - возникает масштабная картина всего литературного процесса, современной поэзии как единого целого. Даром, что статья скромно называется "Некоторые другие". На самом деле совершенно ясно, что речь идет не о "других", а о "тех самых", о настоящих поэтах. Это-то и шокировало критика Ст.Рассадина, подавшего свой "Голос из арьергарда" именно в ответ на статью "Некоторые другие". М.Айзенберг - автор уже упоминавшихся предисловий к сборникам "Понедельник" и "Личное дело"; он часто выступает как критик в периодике.
Критические статьи поэта составили изданную в 1997 году книгу "Взгляд на свободного художника" [1].
В 90-е годы литература, посвященная неофициальной поэзии, естественно, значительно расширилась. Есть немало интересных работ и материалов, посвященных отдельным конкретным авторам, литературным группам. По ходу нашего дальнейшего изложения мы, разумеется, к некоторым из них обратимся.
Сформулировав общие принципы предстоящего исследования, оговорим и его конечную цель. Автор не претендует на исчерпывающее освещение заявленной темы. Многое автору еще просто неизвестно, многое останется за рамками данной работы в силу ограниченности ее объема. Автор представит и попытается проанализировать самые, на его взгляд, существенные моменты истории неофициальной поэзии, наиболее принципиальные для развития ее поэтики. В результате хотелось бы прояснить возможности формулирования художественной типологии современной поэзии, а также обсудить особенности нынешней культурной ситуации и перспектив ее развития.
Литературная ситуация 50-х годов и группа Леонида Черткова
Стихи, как известно, в середине 50-х были в большой моде. Поэтические студии плодились, как грибы. Была своя студия и в московском институте иностранных языков - умеренно-либеральная, разумно-проработочная. Ее посещали Галина Андреева, Андрей Сергеев, Валентин Хромов, Станислав Красовицкий - студенты разных факультетов. Читали и обсуждали свои и чужие стихи. Но главное общение происходило в комнате Галины Андреевой на Большой Бронной (собственная комната по тем временам была большая редкость). Там тоже читали и обсуждали стихи, и народ приходил не только ин-язовский. Общепризнанным лидером был Леонид Чертков, тоже студент, но не ин-язовский, а библиотечного института (впоследствии - институт культуры). Человек действительно библиотечный (позже Слуцкий назовет его "архивным юношей"), Чертков не вылезал из "ленинки", открывая для себя и друзей все новые имена и новые тексты (стихи переписывались и звучали потом у Г.Андреевой). Прогулки по Москве неизменно сопровождались посещением букинистических магазинов. Вопрос о культурной информации тогда стоял более, чем остро (ведь это было еще до всех оттепельных публикаций), и неутомимо любознательный Чертков стал настоящим энциклопедистом. Литературные интересы простирались глубоко в прошлое - в XIX, XVIII века, но главным центром эстетического притяжения, разумеется, всегда оставалась поэзия XX века. Право на хоть какое-то наследование этой традиции представителями официальной литературы ("сисипятниками" - от ССП - так их величали в компании) категорически отрицалось. Сам Чертков ориентировался на акмеистский стих гумилевско-тихоновского типа (ранний Тихонов в избранной библиотеке Черткова довольно долго занимал почетное место). Казенному оптимизму и лирической бесхребетности "сисипятников" противопоставлялась акмеистская фактурность и экспрессивная экзотичность, по агрессивности напоминающая порой ранне-футуристический эпатаж: Каждый только и ждал, кого бы убить И добыче каждый был рад, И соседу очень хотелось всадить В партизана первый заряд. Ведь совсем нетрудно было гвоздить Сапогом черепа детей Или старому негру клюкву пустить На потеху наших людей. ("Соль земли", 1953) В цикле "Соль земли" повествование ведется от лица вроде бы довольно абстрактного, условно-романтического персонажа - воина-наемника ("винтовка и пробковый шлем и колода засаленных карт"). Дальние страны, "тропические лопухи", "большие дороги" - это, конечно, из гумилевско-тихоновского героического образца. Но вот расстрелы, конвой, "бесплатный тюремный кров" - пугающе нелитературны, и мы понимаем, что все это далеко не условность. Этапной для компании стала поэма Черткова "Итоги" (1954 год). Лирический герой появляется уже без романтической маски, действие переносится на московские ночные улицы и пропахшие мочой подворотни, к "бетонной стойке последнего бара", к "обледеневшей блевоте" у вытрезвителя и даже в общественный туалет: Дробно бьют о простывшие кафли Струйки терпкой и дымной мочи, И плафоны, что хлором пропахли, В сумрак скупо цедят лучи. Та же суровая фактурность стиха, тот же, в принципе, герой - неприкаянный и мужественный: Ты сумел бы. В тебе бы достало сноровки, Повернувшись, уйти через поле и в лес, Ты сумел бы ножом перерезать веревки И сумел бы патроны проверить на вес. Но ты сам виноват и не следует злиться. (Пусть просохнет от липкой настойки нутро), Ты шагаешь пустыми ногами убийцы В полутемные арки пустого метро. Композиционный и эмоциональный центр поэмы - апокалиптические видения грядущей и "желанной" войны: Будет просто, как все на свете, Будет жаркий и нудный бой,- На таком же, как этот, рассвете, Ты сожжешь мосты за собой. И навязчивый мотив расстрела: По тропинке, мочою простроченной рыжей, Проведут и поставят к холодной стене. Война, расстрел - так воспринимается окружающая действительность. И Чертков провозглашает: идти до конца, потому что нечего терять. "Итоги" - одна из первых попыток духовного самоопределения нового поколения. "Последний бар - коктейль-холл на Горького, оазис Запада в серой пустыне Востока, -комментирует поэму А.Сергеев в своей автобиографической книге "Альбом для марок". - И Чертков на короткий срок стал знаменитым поэтом коктейль-холла -достаточно громко и широко, и достаточно герметично: как мы имели возможность потом убедиться, текст поэмы не дошел до властей" [14, с.297]. Главное для Черткова - это сама атмосфера духовного неблагополучия, ощущаемого просто как духовная катастрофа, поиск онтологической опоры для художественной позиции. Советская коллективистская онтология, искусственно редуцирующая духовное пространство, отвергалась напрочь. Художник выходил в метафизические сферы и пытался действительно творить свой космос. Именно так - максималистски - понимал художественную задачу Чертков и его друзья, и это, после двух десятилетий социалистического реализма, было очень важно.
Лианозовская группа и формирование российского варианта конкретной поэзии
Есть такая станция в Москве по Савеловской железной дороге — Лианозово. В конце 50-х — и начале 60-х годов это была еще не Москва — подмосковный поселок, преимущественно барачный. Именно там жил в те годы художник Оскар Рабин со своей женой — тоже художницей — Валентиной Кропивницкой. И вот в квартире Оскара Рабина стали происходить неслыханные по тем временам вещи — домашние выставки неофициальной живописи. Каждое воскресенье двери рабинского дома были открыты: любой мог приехать, показать картины, других посмотреть. И ездили очень многие. Место стало известным, популярным, что, естественно, не могло не раздражать наши тогдашние власти. Начались провокации, угрозы, травля в прессе (чего стоят одни названия статей: "Жрецы помойки № 8", "Дорогая цена чечевичной похлебки", "Бездельники карабкаются на Парнас"...).
Да и само название "лианозовская группа" впервые было произнесено отнюдь не лианозовцами и даже не искусствоведами и критиками, а все теми же советскими начальниками - конечно, вовсе не затем, чтобы оставить свой след в истории искусства. Это произошло в 1963 году, когда Евгения Кропивницкого исключали из Союза художников "за формализм" (после хрущевских разносов в Манеже). Одним из пунктов обвинения значилось — "организация лианозовской группы". Кропивницкий написал официальное объяснение: "Лианозовская группа состоит из моей жены Оли, моей дочки Вали, моего сына Льва, внучки Кати, внука Саши и моего зятя Оскара Рабина". Так, в сущности, и было. Правда, сам Евгений Кропивницкий жил не в Лианозово, а чуть дальше — по той же Савеловской дороге на станции Долгопрудной. Там, собственно, и начались переместившиеся потом в Лианозово сборы. Сначала это был довольно узкий круг: Оскар Рабин со своим другом — поэтом Генрихом Сапгиром. Чуть позже к компании присоединился вернувшийся с фронта и побывавший в заключении поэт Игорь Холин. Потом освободились из лагеря "подельники" — художники Лев Кропивницкий и Борис Свешников. В начале 60-х завсегдатаями лианозовских выставок стали поэты Всеволод Некрасов и Ян Сатуновский. А кроме того, вносили большой вклад в домашнюю экспозицию еще несколько художников, живших по соседству (кто в Москве, кто в пригороде, но недалеко от Лианозово), — Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, Николай Вечтомов. Вот, в сущности, и вся "группа", о которой потом уже стали говорить даже с некоторой торжественностью: "лианозовская литературно-художественная школа".
Сами же лианозовцы решительно против какой бы то ни было торжественности. "Никакой "лианозовской школы" не было. Мы просто общались, — говорит Генрих Сапгир. — Зимой собирались, топили печку, читали стихи, говорили о жизни, об искусстве. Летом брали томик Блока, Пастернака или Ходасевича, мольберт, этюдник и уходили на целый день в лес или в поле..." [58]. А вот что пишет Всеволод Некрасов: "...с поэтами особенная неразбериха. На показах картин бывало что читались стихи, но "групп" никаких не было. Над "смогистами" посмеивались — не как над поэтами, а именно как над "группой"... Бывали Сатуновский и Некрасов, приезжавшие смотреть рабинские работы заметно чаще других. Бывали близкие приятели хозяина: Сапгир, Холин. И был, естественно, Е.Л.Кропивницкий: сам поэт, кроме того, что художник... А она (лианозовская группа. — В.К.) была и не группа, не манифест, а дело житейское, конкретное. Хоть и объединяла авторов в конечном счете чем-то сходных..." [50].
Тем не менее лианозовская школа — факт истории нашей послевоенной культуры. Хотя поэты и художники были очень разные, но все-таки "в конечном счете чем-то сходные". Поэтому и кажется вполне естественным рассматривать лианозовскую поэзию как нечто единое, объединяемое не только "временем и местом", но и определенной эстетической общностью, тем более что именно лианозовскими поэтами сделано многое из того, что активно развивается сегодня в современной "поставангардной" поэзии.
Поэты-лианозовцы были известны на Западе и среди отечественного "андерграунда", но как о группе о них мало кто говорил, тем более что никаких совместных манифестов, даже просто выступлений у них никогда не было. Впрочем, первые публикации Сапгира, Холина и Некрасова как раз оказались под одной обложкой — в 59-м году, в "самиздатском" журнале "Синтаксис". Именно Александр Гинзбург — редактор "Синтаксиса", дальнейшая нелегкая судьба которого хорошо известна, и привез Некрасова в Лианозово, познакомил его с Рабиным, Холиным, Сапгиром. Уже в то время — в конце 50-х — Холин, Сапгир и Евгений Кропивницкий были известны в литературных кругах как "барачные поэты". Пародийный этот термин действительно очень подходил лианозовской поэзии (хотя Некрасову и Сатуновскому в меньшей степени). В 1968 году в уже упоминавшейся нью-йоркской книге "Поэты на перекрестках. Портреты 15 русских поэтов", составленной Ольгой Карлайл, Холин с Сапгиром появились именно под рубрикой "барачная поэзия".
В середине 60-х в Чехословакии прошла серия публикаций, посвященных лианозовской группе, — в журналах "Тваж" ("Лицо", в 1964 году), "Мы" и в еженедельнике "Студент" (в 1966-м). Репродуцировались картины Рабина, Немухина, Вечтомова, были напечатаны стихи Некрасова и Сатуновского в переводе чешских поэтов Антонина Броусека и Пршемысла Веверки. Разрозненных публикаций за рубежом и потом было много, однако лишь в 1977 году лианозовские поэты предстали перед читателями как группа — в шемякинском альманахе "Аполлон-77". Публикация эта была подготовлена Эдуардом Лимоновым, он же придумал и название — группа "Конкрет", добавив к лианозовцам себя и еще трех поэтов — Вагрича Бахчаняна (сейчас он больше известен как художник, мастер коллажа), Владислава Лёна и Елену Щапову. Публикацию предваряла групповая фотография, слегка стилизованная , сделанная в фотоателье на Арбате. Сфотографировались Холин, Сапгир, Лимонов, Лён, Бахчанян. По сути, именно эта фотография и дала Лимонову повод объявить о никогда не существовавшей группе "Конкрет". Но выдумка оказалась удачная и название подходящее; "верно, нам и хотелось конкретности, фактичности стиха" [9, с.309], — заметил по этому поводу позднее Некрасов. Поэзия самого Лимонова, безусловно, близка лианозовской поэзии. Лимонов, хотя совсем в другое время — в конце 60-х, как и Холин, Сапгир, был учеником Евгения Леонидовича Кропивницкого.
Конкретная поэзия как поставангардное явление
Но это, как справедливо замечает М. Айзенберг, "не зашифрованное, а частично расшифрованное сообщение, полученное из самых разных источников: от корневой системы языков до корневой системы растений. При этом язык Еремина как будто перенимает свойства своих информаторов и сам становится биоорганической смысловой структурой" [32]. Магический кристалл Еремина - кристалл информации, микрочип какого-то вселенского компьютера. Это поэзия постиндустриального, информационного мира. А. Найман, видимо, справедливо усматривает аналогии между поэзией Еремина и творчеством Э. Паунда. Любопытно, что об этом же говорил в своей время и Л. Чертков (переехавший после освобождения в Ленинград). "Помню, как где-то ближе к 1970 году наш тогдашний друг и замечательный поэт Леонид Чертков сказал, что если бы нужно было выставить Западу поэта, равного их авангарду (имеется в виду... прежде всего Паунд и его достижения), - у нас есть такой поэт, и это Еремин", - свидетельствует А. Найман [49]. Сергей Кулле (1936-1984) - один из самых ярких поэтов-верлибристов послевоенного поколения. Причем его поэтика сложилась совершенно независимо от таких общепризнанных мэтров и идеологов нашего верлибра как Г. Айги и В. Бурич. Превращать верлибр в эстетическую идеологию - такое С. Кулле и в голову не могло прийти. "Стихи Кулле как будто и не собирались быть именно верлибром, просто оказались им по каким-то своим причинам", - пишет М. Айзенберг [32]. С. Кулле, конечно, пришел к верлибру немного с другой стороны, чем, скажем, конкретисты-минималисты Вс. Некрасов и Я. Сатуновский. С. Кулле не эстетизирует речевую стихию напрямую, как это делают Вс. Некрасов и Сатуновский, но он не меньше их доверяет внутренней речи, порой тоже приходя к стихотворениям-репликам: Какая пылища на пепелище, Владимир Васильевич! Стихи С. Кулле нисколько не стремятся к внешней эффектности, например, афоризма. Они - не столько результат, сколько процесс. Ощущение, размышление, совпавшее с речью. Не со словами - на них как раз акцента нет, именно с речью, с ее текучими, зыбкими формами. И если уж поток выводит на твердую почву сентенции, то это будет не формула, а "дикое мясо", мышечное сокращение сгустка обнаженных нервов: Против вражеской фальши и лести - критика текста. Против вражеской брани - молчанье. Против измены - отчаянье. В.Уфлянд и Л.Виноградов , как и лианозовцы, развивались в постобэриутском русле и создали свой вариант конкретной поэзии. Л.Виноградов пишет только очень короткие, афористичные стихотворения, часто тяготеющие к частушке, вообще к фольклору, скоморошеству. Его стихи и становились фольклором, без конца цитируясь, переходя из уст в уста: Как посмотришь на Россию с птичьего полета, так и сбросишь на Россию птичьего помета. По поэтике Л.Виноградов очень близок раннему, "барачному" Холину, тоже весьма "частушечному". Но, конечно, жанр тут несколько другой. Л.Виноградов не создавал эпоса, он прежде всего лирик. Саркастичный, ироничный, но -лирик: Трава и ветер Тургенев, сеттер. Или: Водка. Свитер. Я и Питер. Это уже перекликается с современными минималистами, ориентирующимися, главным образом, на Вс.Некрасова. Самый известный ленинградский "постобэриут" - Олег Григорьев. Чисто игровой поэт, он писал прекрасные детские стихи (как и обэриуты, и лианозовцы), и грань между его "детским" и "взрослым" творчеством часто весьма условна: - Ну, как тебе на ветке? -Спросила птица в клетке. - На ветке - как и в клетке, Только прутья редки. Вроде бы невинный детский стишок, а на самом деле - горькая метафора всей советской жизни, острая сатира. Публикация этого стихотворения в детской книжке вызвала большой скандал и принесла автору крупные неприятности. Олега Григорьева, конечно, тоже можно причислить к питерским конкретистам. Он, как и Л.Виноградов, тяготел к малой форме и к еще большей фольклорности: его стишок про "электрика Петрова" даже положил начало новому по-настоящему фольклорному жанру детских частушек "черного юмора". Постобэриутскую линию развивали и другие авторы ленинградского андеграунда 60—70-х годов: "хеленукты" В.Эрль и А.Ник, Б.Ванталов (Констриктор), А.Хвостенко.
Поэзия группы СМОГ и литературная ситуация 60-х годов
Предшествовавшие смогистам в московской неофициальной поэзии лианозовцы и поэты круга Л. Черткова как о литературных группах о себе никогда не заявляли. "Групп никаких не было. Над "смогистами" посмеивались — не как над поэтами, а именно как над "группой"... А она (лианозовская группа. — В.К.) была и не группа, не манифест, а дело житейское, конкретное. Хоть и объединяла авторов в конечном счете чем-то сходных..." (Вс. Некрасов, [50]). Губановская же идея СМОГа прежде всего идея группы, полемического манифеста, литературного эпатажа футуристического образца. И хоть манифест сводился к "простому, как мычание" восклицанию "Чу!", он действительно стал основой для объединения и, надо признать, вполне исчерпывающе выразил изначальную сущность смогизма. Стоит ли после этого удивляться, что современному историку литературы кажется гораздо более обоснованным называть "группой" не смогистов, а поэтов круга Л.Черткова и лианозовцев. Их объединяло кое-что посущественнее губановского "Чу!".
Конечно, и "Чу!" было весьма существенным. Тем не менее принадлежность этого "Чу!" скорее области поступка, нежели искусства, предопределила во многом внелитературный характер всего смогистского феномена. "Самые молодые гении", в общем-то, были просто студенческой компанией. Но - хотели они того или нет - СМОГ вскоре приобрел черты общественного движения. И надо признать, его эстетическая программа немало тому способствовала. СМОГ на какое-то время стал чем-то вроде альтернативного Союза писателей. Даже членские билеты выдавали. Понятно, что все это было отчасти игрой. Суть, конечно, не в членских билетах, не в организации, а в альтернативности, в бунте против официоза. Но у лианозовцев и чертковцев ничего этого не было даже в виде игры. Для них официоз вообще не существовал. И когда Слуцкий спросил чертковцев: "Вы не считаете, что Евтушенко отнял у вас часть славы?", его просто не поняли. А смогистам подобная постановка вопроса была очень даже близка. Они, да, считали, что Евтушенко им задолжал по части славы. И "Чу!" адресовано именно ему и другим "эстрадникам".
С одной стороны, чувствовалась легкая зависть и обида: опоздали к поэтическому буму конца 50-х, к политехническим аудиториям. Отсюда и эмфатическое "самые молодые" - из недостатка сделаем достоинство. С другой - было вполне понятное возмущение официозом и наивное стремление избавиться от эстрадной фальши, сохранив, хотя бы потенциально, саму эстраду, аудиторию.
Чем шире круг участников движения, чем оно "массовей", тем лучше, тем ближе эстрадный идеал. В результате в СМОГе оказались авторы самые разные, часто совсем уж ничем друг с другом не сходные. В том числе и не "самые молодые" А. Прохожий, М. Ляндо. Они тоже на какое-то время заразились общим энтузиазмом, "бурей и натиском" ("бурнаском", по выражению М. Ляндо), но в целом как шли, так и продолжали идти своей дорогой. Участие в СМОГе уже не могло стать определяющим для их творчества. Да и "самые молодые" - Делоне, Пахомов - от губановского "Чу!" почти не зависели. А Кублановский, например, вообще сформировался как поэт, лишь избавившись от этого "Чу!": не случайно позднее он участвовал в сборниках "Московского времени"; его зрелая поэтика гораздо ближе постакмеистским устремлениям этого круга авторов, нежели смогистскому "буре и натиску". О смогистах нельзя говорить как о поэтах "группы", о них надо говорить только о каждом в отдельности.
Истинных, стопроцентных смогистов, ставших поэтами благодаря "буре и натиску", на волне вселенского "чу!", собственно, всего двое: Губанов и Алейников.
Губановская слава началась с поэмы "Полина", небольшие отрывки из которой попали благодаря Евтушенко в журнал "Юность" и наделали много шума. Существует легенда, что "Полина" написана Губановым в 15-летнем возрасте, в 1961 году (эта легенда в очередной раз озвучена в изданной недавно книге Губанова "Ангел в снегу"). На самом деле, по свидетельству В.Алейникова, "Полина" была написана, скорее всего, в конце 1963 года. Это действительно одна из первых вещей Губанова, но она, что совершенно очевидно, непосредственно примыкает к текстам 1964-65 гг., предваряет их. В "Полине" все основные черты губановской поэтики уже вполне определились. С другой стороны, в этой еще не совсем самостоятельной вещи особенно явственно проступает генетическое родство Губанова с эстрадной эстетикой, с "суровым стилем" послесталинского советского искусства. Тот же романтический культ художника, "мастера" с трагической судьбой: "Да, нас, опухших и подраненных, дымящих, терпких, как супы, вновь распинают на подрамниках незамалеванной судьбы. Холст 37x37. Такого же размера рамка. Мы умираем не от рака и не от праздности совсем". То же братание с равными по духу, с "гениями": тут и Пушкин с Есениным, и Рафаэль, и "в пролет судьбы уходит Гаршин", и "картины Верещагина", и "летний Левитан" ("Русь понимают лишь евреи"), и "месье Бальзак" и даже Бонапарт. Те же бичевания бездарности, посредственности, меркантильности-расчетливости: "Так начинают верить небу продажных глаз, сгоревших цифр. Так опускаются до нэпа талантливые подлецы... Планета, вон их! Ветер, вон!" Та же Русь, "сулящая морозы", и та же безбрежная, всепричастная русская душа: "Душа моя, ты таль и опаль, двор проходной для боли каждой. И если проститутки кашляют, ты содрогаешься, как окрик". Ну и разумеется, та же неизбывная "суровость" письма - выразительная маргинальность лексики ("бабы", "проститутки", "таль и опаль"), эффектность "антипоэтических" ("нас, дымящих, как супы") и "модернистских", экспрессивных ("на голубых руках мольберта) образов. Все это еще не очень настоящее, не очень свое, но сама интонация, лирический захлеб и порой неожиданно прорывающаяся какая-то чисто детская доверчивость и беззащитность - незаемные, губановские: "Ты прячешь плечики, как радуги, и на стихи, как дождь, пеняешь..."
В следующих вещах Губанов решительно освобождается от эстрадных штампов и начинает воздвигать собственную поэтическую систему. "Суровый стиль", конечно, остается, но это уже собственный губановский стиль. Урбанизму Евтушенко-Вознесенского, их социалистически-индустриальной (и тайно прозападной) "России" противопоставляется есенински-бесшабашная Русь разгула и бунта. Впрочем, я бы не стал придавать слишком большого значения подобному противопоставлению. Губанов действительно знал и любил русскую историю и древнее искусство, питался им как поэт, но никакой эстетической, а тем более идеологической нагрузки его "почвенничество" никогда не несло. Русь с ее Пугачевыми да Иванами Грозными у Губанова точно такой же источник поэтической фактуры, как, скажем, аэропорт у Вознесенского (начинавшего, как известно, тоже с Руси - в "Мастерах"). Так устроен "суровый стиль" с его тяготеющей к монументальности предметной,