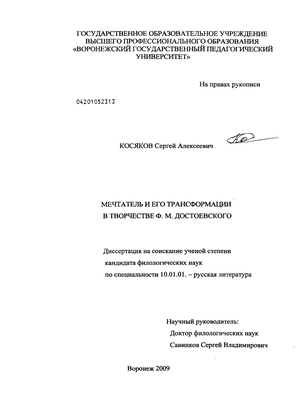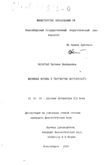Содержание к диссертации
Введение
I. Введение 3
II. Глава I. Герой-мечтатель в раннем творчестве Достоевского 15
1. 1. Мечтатель как тип 15
1. 2. Мечтатель и мечтательница: генезис индивидуальности 42
1.3. Мечтатель как «петербургский» характер 54
III. Глава и. от мечтателя к идеологу 61
2. 1. «Подпольный» человек: между мечтателем и идеологом 61
2. 2. Герой-идеолог как трансформа мечтателя 68
2. 3. Мечтатель и его отец: на пути к живой жизни 100
IV. Заключение 132
V. Список литературы 137
- Мечтатель как тип
- Мечтатель как «петербургский» характер
- «Подпольный» человек: между мечтателем и идеологом
- Мечтатель и его отец: на пути к живой жизни
Введение к работе
Несмотря на едва ли не всеохватный характер современной научной литературы о Достоевском, в творчестве этого писателя есть еще и малоизученные аспекты. Как это ни удивительно, но специальному системно- типологическому анализу до сих пор не подвергался такой чрезвычайно значимый для Достоевского характер, как мечтатель. А между тем, этот персонаж по праву обладает статусом одной их ключевых фигур у Достоевского, и это право ему, прежде всего, обеспечивает его «долгожительство». Однажды возникнув (в «Хозяйке»), мечтатель Достоевского пройдет череду трансформаций и вновь о себе заявит в «Подростке» — в романе, имеющем для писателя особое значение хотя бы потому, что в нем неожиданно обнаруживается та особая внутренняя связь с ранним творчеством Достоевского, которой нет ни в «Идиоте», ни в «Бесах», ни в «Братьях Карамазовых».
В научной литературе о Достоевском, можно встретить фундаментальные работы, посвященные типологическому исследованию героев Ф. М. Достоевского (например, работы В.Г. Одинокова, А.П. Велика, Т.А. Касаткиной), однако среди них нет ни одной специально посвященной герою-мечтателю. Пожалуй, единственное среди них исключение - работа А. А. Фаустова, где мечтатель Достоевского представлен как характер, который, с одной стороны, унаследовал черты своих романтических предшественников, а с другой, логически их развил и довел до отточено-итоговой формы выражения. Однако общетипологическая форма не дала возможности исследователю показать, как изменялась фигура мечтателя в творчестве писателя.
Среди специальных работ , посвященных герою-мечтателю, следует выделить статью Н. В. Самсоновой, в которой делается попытка установить для героев-мечтателей Достоевского «возрастную» градацию. Между Мечтателем «Белых ночей» (героем-тгшсш) и мечтателем «Кроткой» (героем с характером мечтателя), с точки зрения, Н.В. Самсоновой, есть существенное «возрастное» различие, и это несмотря на то, что между ними сохраняются и общие типологические черты, и главные среди них - «иллюзия», «гипертрофированность» и «максимализм». Нам представляется, однако, что между героями «Белых ночей» и «Слабого сердца» и героями «Записок из подполья» и «Кроткой» различие несколько другого рода. Дело в том, что мечтатели «Записок...» и «Кроткой» уже вовсе и не мечтатели как таковые, а их своеобразные трансформации. Обозначенные пары героев образуют в мечтательном типе определенные смысловые «гнезда».
Конечно, под тем или иным углом зрения о герое-мечтателе в литературе о Достоевском сказано немало, но сказано именно «в связи» — к примеру, в связи с романтическими или с сентиментальными традициями. Наиболее обстоятельно пересечения с этими традициями раскрываются в монографии Э.М. Жиляковой.
Заслуживает внимания указание исследователя на сосуществование в раннем творчестве Достоевского двух типов мечтателей - сентиментального толка («Слабое сердце») и романтического («Белые ночи»). Так, повесть Ф.М. Достоевского «Белые ночи», получила не один, а два подзаголовка: «сентиментальный роман» и «из воспоминаний мечтателя». Эта двоякость отразилась и на содержании: сентиментальная по происхождению история отношений Мечтателя с Лизой преломляется уже не через сентиментальное, а через романтическое сознание. А сама Лиза всегда у Достоевского будет «помнить» о своем карамзинском происхождении.
К числу работ, посвященных исследованию «рудиментарных» следов сентиментальной традиции в образах мечтателей Достоевского, следует отнести и статью М. Канадзава, с точки зрения которого героини «Хозяйки», «Слабого сердца» и «Белых ночей» имеют явно фантазийно- идеализированные черты (как и их предшественница - карамзинская Лиза), а вот их склонные к мечтательству сюжетные «партнеры» (как и Эраст у Карамзина), наделены, как это ни парадоксально, значительно большей степенью реалистичности. Эта мысль кажется нам и любопытной, и плодотворной. В самом деле, мечтатели Достоевского (и в особенности их трансформы) представляют собой некое гибридное образование, причудливо в себе сочетающее и сентиментальные, и романтические, и реалистические компоненты. Интересно и суждение японского ученого, касающееся вопроса о «местожительстве» мечтателей Достоевского. Петербург, с точки зрения М. Канадзавы, - это место, не где мечтатель родился, а куда он переселился. Исходное же его место — Москва (предтекстом текста мечтателя ученый считает «Бедную Лизу» Карамзина).
При этом бесспорно и то, что на мечтательство героев Достоевского Петербург наложил свою особую печать.
Взаимосвязь мечтательного и петербургского мотивов в творчестве Достоевского отмечалось, конечно, не раз. К примеру, Вячеслав Иванов
говорил, что «бред», «мечтание» и «морок» представляют собой genius loci Петербурга. Петербург, по мнению С. В. Белова, не просто создавал «мороки», но и порождал самого героя-мечтателя. «Мечтатель и Раскольников - неизбежные порождения Петербурга, и Петербург такой же виновник преступления Раскольникова (он заражает Раскольникова преступной идеей), как и виновник самоубийства Кроткой».
На родство ранних мечтателей Достоевского с «подпольным человеком» также отчасти указывалось в исследовательской литературе. Как правило, их сопоставляют тогда, когда рассматривают вопрос об эволюции творческого метода писателя. «Записки из подполья...» принято считать не просто переходным, а переломным произведением в творчестве Достоевского. Р. Г. Назиров написал об этом так: «Повестью «Записки из подполья» писатель в известном смысле рассчитался со своим собственным прошлым. Подпольный человек - это «перевернутый» тип романтика-мечтателя, цинически оплевывающего свои собственные романтические идеалы. Поэтому он сам в конце своей исповеди называет себя «антигероем». Высказанная ученым мысль о «перевернутости» героя «Записок...» интересна, но, думается, что не совсем точна. Герой «Записок...», как нам представляется, является не «перевернутым» героем-мечтателем, а его особой трансформой. Это герой, мечтательство которого парадоксально сочетается с тем, с чем оно, как будет показано в работе, ни при каких условиях не могло сочетаться ранее - с обидой на жизнь и расчетливостью.
Рассмотрению точек пересечения и противостояния мечтателя и «подпольного» человека посвящена и статья Р. Джакуинта. Пересечения между этими фигурами нет на уровне их стилевого самоопределения. Полемичность — то, что есть в стиле «подпольного» человека и то, что напрочь отсутствует в стиле мечтателя. Полемичность стиля подпольщика создается его двунаправленностью: на близких слушателей (определяемых местоимением «вы») и идеологических оппонентов (представляемых как «они»). (В «Преступлении и наказании», для сравнения, Достоевский прибегнет к иному способу создания напряжения вокруг фигуры мечтающего героя (Раскольникова). Этот способ — совмещение повествования от 3-го лица с внутренними монологами и несобственно прямой речью героя10).
Р. Джакуинта называет «записки» подпольного человека «ложной исповедью» на том основании, что их автор стремится не к открытию истины о самом себе и мире, а лишь к тому, чтобы убедить всех читателей в своей правоте. Другая особенность «ложной исповеди» — главенство в ней литературно-книжного над реальным. В диссертации будет последовательно и обстоятельно проводиться мысль о том, что характер трансформации героя-мечтателя в том или ином случае, в том или ином «возрасте» во многом определяется тем, каков тут или там характер соотношения «книжного» и «жизненного» аспектов. К примеру, Раскольников сначала приводит в исполнение свой «книжный» замысел так, словно действительность полностью бы зависела от его воли и подчинялась ей, и только потом убеждается в искусственности и выдуманности своего проекта.
В научной литературе о Достоевском и о его герое-мечтателе можно выделить еще одно направление, условно говоря, - культурно- психологическое. Мечтатель в этом случае не просто герой, возросший на почве сентиментальной и романтической традиций. Мечтатель — образ, имеющий архетипическую национальную основу. Одним из первых об этом пласте в творчестве Достоевского написал в своей известной статье К.К. Истомин. А затем эта линия продолжилась в работах В.Н. Топорова, Е.М. Мелетинского. Вслед за К.К. Истоминым Е.М. Мелетинский увидит в «Хозяйке» масштаб, присущий национальному российскому космосу. И в этой перспективе герой «Хозяйки» предстанет как герой, спасающий не Катерину, а Россию: «Герой-мечтатель в борьбе за «царь-девицу», символизирующую русскую национальную душу, греховную, психически неуравновешенную, но рвущуюся к добру, не в силах вырвать ее из объятий порочного фанатика-старовера, демонического носителя зла...». То, что определяется Е.М. Мелетинским как «масштаб российского космоса», в свое время — в восприятии Вяч. Иванова — обретало даже мировое значение. В «Хозяйке», «Идиоте» и «Бесах» «Небесный посланец, каково бы ни
1 "2
было его имя, должен освободить Душу Мира» .
«Хозяйка» привлекает к себе и ученых, следующих психоаналитическому направлению. К примеру, японская исследовательница Го Косино называет эту повесть «психоаналитическим романом». В статье Го Косино «Хозяйка» рассматривается в связи с интересом Достоевского к такому популярному в XIX веке «психоаналитическому» явлению, как «гипнотизм», или же «магнетизм». Ссылаясь на А. Бема, Го Косино отмечает, что «психоаналитическая» атмосфера произведения проявляется в том, что «половина сюжета происходит не в действительности, а только в расстроенном воображении Ордынова».
Работы, касающиеся особой — идеологической — поэтики творчества Достоевского, относятся к числу тех, которые в силу их фундаментальности, научной авторитетности, и как следствие — общеизвестности, не нуждаются в каких-то особых комментариях. Это, прежде всего, «Проблемы поэтики Достоевского» М.М. Бахтина. Это работы B.JI. Комаровича, Б.М.
Энгельгардта , П.М. Бицилли , размышления которых по поводу жизни идей в идеологическом романе Достоевского стали, безусловно, и для нашей работы чрезвычайно значимыми. Так или иначе способствовали написанию этой диссертации и работы исследователей, посвященные изучению отдельных произведений писателя. Среди работ, посвященных, к примеру, изучению «Преступления и наказания», особо следует отметить такие, как книга Георгия Мейера «Свет в ночи (о «Преступлении и наказании»)»или богатая идеями и наблюдениями книга Я. О. Зунделовича «Романы Достоевского. Статьи», а также работы A.C. Долинина и Л.Ф. Гроссмана . Из особо значимых для автора диссертации исследователей творчества Достоевского, совмещавших интерес к поэтике с интересом к его философии, следует назвать также ЯЗ. Голосовкера, Г. С. Померанца, В. А. Свительского.
Необходимо выделить, кроме того, два тематических сборника. Один вышел в Филадельфии под редакцией Харольда Блума, другой - в Коломенском педагогическом институте. Первый представляет собрание статей, посвященных двум героям одного романа — Раскольникову и Свидри- гайлову, которые рассматриваются и сопоставляются в характерологическом ключе. Второй — под редакцией В.А. Викторовича — все внимание сосредоточивает на романе «Подросток».
Нельзя не упомянуть и о недавних работах O.A. Богдановой, которые для нас чрезвычайно интересны тем, что в них делается попытка дифференцировать понятие «идеи» в творчестве Достоевского. В самом деле, у Достоевского идеи могут быть разными: они могут быть сопряжены как с умом, так и с сердцем. В последнем случае это уже не идеи, а - в соответствии со словоупотреблением самого Достоевского — «как бы идеи». Близкие Достоевскому «как бы идеи» рождаются в «сердце» человека, и потому не имеют ничего общего с идеологиями. Как бы идеями живет Алеша Карамазов, а вот его брат Иван обладает идеей совсем иной природы. Его
идея — чисто умственная, отвлеченная, оторванная от его же сердца
Подводя итоговую черту обзорной части, следует еще раз сказать, что, несмотря на многоаспектность изучения творчества Достоевского, работы, в которой бы специально ставилась задача изучения героя-мечтателя в творчестве Достоевского как особой чрезвычайно значимой фигуры, еще не было. До сих пор не было работы, в которой был бы задан такой ракурс, который позволял бы увидеть различные трансформы героя-мечтателя. Этими обстоятельствами и определяется актуальность данного исследования.
Его объектом стали те произведения (не только художественные, но
и другого повествовательного статуса) Достоевского, в которых в той или
иной форме герой идентифицируется как мечтатель, в настоящем или в
прошлом: «Петербургская летопись», «Хозяйка», «Слабое сердце», «Белые
ночи», «Неточка Незванова», «Записки из подполья», «Преступление и на/
казание», «Кроткая», «Подросток».
Соответственно, предметом исследования выступают трансформации героя-мечтателя.
Цель исследования состоит в выявлении типологической основы и семантической конфигурации трансформ характера мечтателя, а также логики их модификации в творчестве Достоевского.
Данная цель реализуется в следующих задачах:
Выявить типологические признаки характера героя-мечтателя в раннем творчестве Достоевского.
Обозначить особенности семантической структуры характера «подпольного человека» в перспективе героя-мечтателя.
Обозначены особенности семантической структуры характера «подпольного человека» в перспективе героя-идеолога.
Определить роль и значение «идеологического» комплекса в структуре характера героя-мечтателя.
Определить роль и значение «мечтательного» комплекса в структуре характера героя-идеолога.
Рассмотреть характер мечтателя и его трансформы в сопряжении с категориальной парадигмой творчества Достоевского.
Работа опирается на такие научные методы исследования, как историко-литературный, типологический и структурно-семантический.
Положения, выносимые на защиту:
«Подпольный человек» и «идеолог» являются результатом трансформации характера мечтателя, возникшего в раннем творчестве Достоевского.
Сюжет мечтателя у Достоевского развивается по двум направлениям. Началом одного из них можно считать «Белые ночи» (и оно ведет затем к «Запискам из подполья» и к «Преступлению и наказанию»); началом второго - «Неточку Незванову» (и оно ведет к «Подростку»). Первое направление сосредоточено на раскрытии мечтателя с точки зрения его отдельности и исключительности; второе — на представлении мечтателя как порождения «случайного семейства».
Мечтатель как «тип» («Петербургская летопись», «Белые ночи») обладает у Достоевского полемическим «антиромантическим» пафосом. Поданная в романтическом ключе исключительность Мечтателя «Белых ночей» распознается и разоблачается как исключительность, лишенная подлинной индивидуальной основы, натуры.
Мечта о власти над жизнью порождается в душевном подполье. А само образование душевного подполья коренятся в обиде на жизнь — главной причине, обусловливающей отвержение человека от «живой жизни» и, соответственно, его превращение в мечтателя-идеолога. Подпольный человек - первый из героев Достоевского «мечтательной» генеалогии, в котором мечта, соединившись с обидой на жизнь, приобрела «безобразное» качествование. Раскольников - первый из героев этой формации, который установил с изменившейся мечтой новые — рациональные — отношения.
В отличие от мечтателя и подпольного человека Раскольников - тот, кто натурой обладает. Натура у Достоевского обеспечивает связь человека с действительной жизнью, с почвой и с Богом и одновременно - связанность всех его сущностных сил. Разрыв этих связей - следствие того, что человеком овладевает идея.
Семантическая структура героя-идеолога может быть выражена формульным образом: герой-идеолог = обиженный на жизнь мечтатель + «разумный эгоист». Раскольников становится идеологом тогда, когда решается на то, на что не был способен ни один мечтатель, - осуществить «безобразную» мечту на рациональной платформе.
Мечта, сопрягавшаяся в элегической культуре с воспоминанием, у Достоевского соединяется с идеей, а идея — порождение рациональной культуры - обретает у него (открыто в «Подростке») союз с чувством. И если тандем мечты и идеи в отношении к жизни оказывается взрывоопасным, то идея в соединении с чувством приводит к подлинному «художественному» постижению «живой жизни».
Поставленные задачи и выбранный материал определили структуру работы. Диссертационное исследование состоит из Введения, двух глав и Заключения, а также Списка литературы.
Первая глава посвящена анализу образа мечтателя в раннем творчестве Достоевского. Эта глава состоит из трех разделов: «Мечтатель как тип»; «Мечтатель и мечтательница: генезис индивидуальности»; «Мечтатель как «петербургский» тип». Во второй главе - «От мечтателя к идеологу» — рассматривается переходная форма героя-мечтателя, т. е. тот случай, когда герой уже не мечтатель, но еще и не полновесный идеолог (««Подпольный» человек: между мечтателем и идеологом»). Отдельно и специ-
ально рассматриваются характерологические черты героя-идеолога («Герой-идеолог как трансформа мечтателя»), а также освещается вопрос об «идеологической» и сюжетной связи фигуры мечтателя со «случайным семейством» («Мечтатель и его отец: на пути к живой жизни»).
Мечтатель как тип
Первый опыт характеристики мечтателя для Достоевского был не художественным, а публицистическим. Эта проба была пластичной зарисовкой образа, не изменяемого движениями сюжета. В фельетонах «Петербургская летопись» (1847) Достоевский связывает появление мечтателя с тем 1осш ом, в котором он существует. «А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский (курсив мой — С.К), это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками. ..»(18, 32) . Уже в этой характеристике мечтателя Достоевский, столь многогранно описывая судьбу героя, закладывает мощный фундамент для развития этого образа в своем дальнейшем творчестве.
В «Петербургских летописях» наиболее очевидны архетипические свойства героя-мечтателя, ведь здесь он не является участником какой- либо истории и выступает лишь как объект наблюдений. Все то, что расскажет Достоевский о мечтателе в «Петербургских летописях», будет встречаться в сюжетах этого героя в художественных произведениях.
Как же возникает «мечтательный» характерологический склад? Мечтатель, прежде всего, — тип, абстрагированный от действительности. «Нередко же действительность производит впечатление тяжелое, враждебное на сердце мечтателя, и он спешит забиться в свой заветный, золотой уголок...» (18, 34).
Оказавшийся вне актуальной действительности, мечтатель не имеет и соотнесенности с какой-либо деятельностью. «Многие ли, наконец, нашли свою деятельность? А иная деятельность еще требует предварительных средств, обеспеченья, а к иному делу человек и не склонен — махнул рукой, и, смотришь, дело повалилось из рук. ... и человек делается наконец не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — мечтателем» (18, 32).
Мечтатель — герой с ослабленными социальными связями, и его общественное функционирование во многом формально. «В службе эти господа решительно не годятся и хоть и служат, но все-таки ни к чему не способны и только тянут дело свое, которое, в сущности, почти хуже безделья. Они чувствуют почти глубокое отвращение от всякой формальности и, несмотря на то, — собственно потому, что смирны, незлобивы и боятся, чтобы их не затронули, — сами первые формалисты» (18, 32). Более того, среди героев-мечтателей в художественных произведениях Достоевского подавляющее большинство вообще не имеют никакой служебной деятельности.
Отошедший от действительности мечтатель с его развитой фантазией - фигура, художественно восприимчивая. «Они любят читать, и читать всякие книги, даже серьезные, специальные, но обыкновенно со второй, третьей страницы бросают чтение, ибо удовлетворились вполне. Фантазия их, подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, впечатление настроено, и целый мечтательный мир, с радостями, с горестями, с адом и раем, с пленительнейшими женщинами, с геройскими подвигами, с благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с преступлениями и всякими ужасами, вдруг овладевает всем бытием мечтателя» (18, 33).
Но эта одаренность чисто абстрактная, никак не совместимая с жизнью, лишенная беспрерывного самосозерцания в природе и насущной действительности. «Ему естественно начинает казаться, что наслаждения, доставляемые его своевольной фантазиею, полнее, роскошнее, любовнее настоящей жизни. Наконец, в заблуждении своем он совершенно теряет то нравственное чутье, которым человек способен оценить всю красоту настоящего, он сбивается, теряется, упускает моменты действительного счастья и, в апатии, лениво складывает руки и не хочет знать, что жизнь человеческая есть беспрерывное самосозерцание в природе и в насущной действительности» (18, 34).
Внутренне отделенные от действительности герои-мечтатели изолированы от нее и внешне. «Селятся они большею частию в глубоком уединении, по неприступным углам, как будто таясь в них от людей и света...» (18, 33). Именно в столь знаковых для творчества Достоевского углах возникают мечты, «мысли» и «мыслишки», «сокровенные идейки» героев- мечтателей.
Здесь же, в «Петербургской летописи», Достоевский выводит прямо противоположный мечтательному тип. Этому характеру свойственна чрезмерная деловитость. «Это очень напоминает того аккуратного немца, который, выезжая из Берлина, преспокойно заметил в дорожной книжке своей: «В проезд через Нюремберг, не забыть жениться». У немца, конечно, прежде всего была в голове какая-нибудь система, и он не почувствовал безобразия факта, из благодарности к ней» (18, 30). Мечтатель, испытывающий тяжелое и враждебное впечатление от действительности, чувствителен к ней. Отчуждение от действительности мечтателя происходит из-за «слабого сердца». Его антипод, оставаясь в действительности, действуя, бесчувствен к ней.
В противовес герою-мечтателю, наделенному сильным сознанием индивидуальности, этот персонаж ее теряет, растворяясь в действительности. «Дайте, например, какое-нибудь дело аккуратному, систематическому немцу, дело, противное всем его стремлениям и наклонностям, и растолкуйте только ему, что эта деятельность выведет его на дорогу, прокормит, например, и его и семейство его, выведет в люди, доведет до желаемой цели и т.д., и немец тотчас примется за дело, даже беспрекословно окончит его, даже введет какую-нибудь особенную, новую систему в свое занятие. Но хорошо ли это? Отчасти и нет; потому что в этом случае человек доходит до другой, ужасающей крайности, до флегматической неподвижности, иногда совершенно исключающей человека и включающей на место его систему, обязанность, формулу...» (18, 32). Это отчуждение внутреннее, а не внешнее, как у мечтателя. Эти два характера, выведенные Достоевским в начале творческого пути, предзнаменуют собой более поздних романтиков и деятелей.
Герои-мечтатели в художественных произведениях Достоевского «до каторги» не выходят из рамок характеристик, данных этому типу в «Петербургских летописях». Они отражают и дополняют характер, выведенный в «Летописях».
Первый художественный образ героя-мечтателя (Ордынов) выходит из-под пера Достоевского в неудавшейся, по мнению многих критиков, повести «Хозяйка» (1847). Какой-либо социальный детерминизм в двух первых произведениях Достоевского о мечтателях отсутствовал. Мистическая атмосфера «Хозяйки» делала неясной связь изображенной в нем картины с действительностью. Но для обрисовки мечтательного персонажа, выпадающего из действительности, такой колорит был подходящим.
Все ранние герои-мечтатели Достоевского принципиально одиноки. Их одиночество всегда метафизическое, которое еще может дополняться внешним, социальным. Так и мечтатель «Хозяйки» Ордынов «в своем заветном, золотом уголке одичал, не замечая того; ему покамест и в голову не приходило, что есть другая жизнь - шумная, гремящая» (1, 265). В повести неоднократно повторяется, что этот герой «одинок и чужд всему миру, один в чужом (курсив мой - С.К.) углу» (1, 279).
Мечтатель как «петербургский» характер
Мечтатель Достоевского - порождение Петербурга. Неспроста писатель впервые о нем заговорил в «Петербургских летописях». «А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский (курсив мой - С.К.), это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками...» (18, 32). Уже здесь между мечтателем и городом улавливается близкое родство. Петербург - антропоморфный город.
В «Белых ночах» Петербург одновременно и фантастичен, и прозаичен, но таков и его герой. «Есть в Петербурге довольно странные уголки... В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь. Непохожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас в наше серьезное- пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального и вместе с тем — (увы, Настенька) — тускло- прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого... В этих углах проживают странные люди - мечтатели» (2, 112). Образ Петербурга, доходящий в свое прозаичности до фантастичности, станет ведущим и в «Преступлении и наказании».
Петербург - город, который для его персонажей играет роль, опять- таки подобную той роли, которую по отношению к Катерине исполняет в «Хозяйке» Мурин. Подобно Мурину, Петербург удерживает своих пленников всей мощью своей магнетической власти и, погружая их в абстрактные идеи и мечты, лишает их возможности отличать реальное от ирреального.
В то же время Петербург оказывается для Мечтателя единственным близким «существом». Город-греза становится единственным близким знакомым для одинокого и грезящего наяву Мечтателя. «... Вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мною делается .. . Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком с Петербургом...» (2, 102). Петербург, построенный на тысячах человеческих жертв и тем самым разъединенный с народом, разделяет с ним и мечтателей-интеллигентов.
Петербург - город изменчивых состояний, и каждое его колебание влечет к изменению и в состоянии души мечтателя. Многолюдный город способен внезапно опустеть, и это тотчас отражается на мечтателе «Хозяйки» Ордынове, который тут же начинает остро откликаться на новую, исходящую от города чувственную волну. «Всюду было безлюдно и пускурсив мой -С.К.у, все смотрело как-то угрюмо и неприятно(курсив мой-С.К.)...» (1, 267).
В повести «Слабое сердце» фантастический, невероятный Петербург завладевает сознанием героя-мечтателя, завораживает его и, в конечном счете, сводит с ума. История Васи Шумкова — повесть петербургского безумия.
Петербург — город-марево и тогда, когда он ясно призрачен в белые ночи, и тогда, когда он погружен в мутность, дымность, мгляность. В любом случае, его «атмосфера» никогда не предоставляет возможности чистого видения. Он «походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно- синему небу» (2, 48). Наделенный чувствительной мечтательностью человек всегда объят в этом городе безотчетной тревогой. И эта безотчетность нередко и приводит его к сумасшествию. «Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе незнакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума (курсив мой -С. К) его бедный, не вынесший своего счастия Вася».
Однако только в этом городе, где созданы все условия для искаженного видения, можно и прозреть. «Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел (курсив мой -С.К), во что-то новое в эту минуту...» (2. 48).
На Мечтателя оказывает влияние не только город как целое, но вся петербургская топография: дома, улицы, мосты, квартиры и т. д. Прежде всего она служит тем ориентиром, который позволяет найти общую точку между романным и реальным пространствами. Герои Достоевского постоянно перемещаются по городу и находятся в постоянном с ним взаимодействии. И здесь все чрезвычайно значимо. К примеру, такое бытовое событие, как смена жилья, обретает у Достоевского важное сюжетное значение.
Не склонный к мечтаниям друг Васи Шумкова при мысли о новом жилище тоже начинает мечтать. «Аркадий Иванович вообще говорить не умел, мечтать тоже совсем не любил; теперь же тотчас пустился и в мечтания самые веселые, самые свежие, самые радужные! ... Три... нет, две комнаты, нам больше не нужно. Я даже думаю, Вася, что я сегодня вздор говорил, денег достанет; чего! Я как взглянул в ее глазки, так тотчас расчел, что достанет. Все для нее! Ух, как будем работать! Теперь, Вася, можно рискнуть и заплатить рублей двадцать пять за квартиру. Квартира, брат, все/ Хорошие комнаты... да тут и человек весел и мечтания радуэ/сные (курсив мой - С.К.)\» (2, 29).
Петербургские дома, проникнутые участием одинокого Мечтателя, одушевляются. «Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье? И я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его господи!..» (2, 103).
В «Неточке Незвановой» новый дом, в котором оказывается героиня, подвигает ее к мечте о лучшей жизни: «...Этот богатый дом с красными занавесами и встреча возле него с батюшкою, который хотел что-то показать в нем, пришли на помощь моему воображению. И тотчас же сложилось в моих догадках, что мы переселимся именно в этот дом и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве. С этих пор, по вечерам, я с напряженным любопытством смотрела из окна на этот волшебный для меня дом, припоминала съезд, припоминала гостей, таких нарядных, каких я никогда еще не видала; мне чудились эти звуки сладкой музыки, вылетавшие из окон; я всматривалась в тени людей, мелькавшие на занавесах окон, и все старалась угадать, что такое там делается, — и все казалось мне, что там рай и всегдашний праздник» (2, 163).
Позднее, в «Записках из подполья» Петербург предстанет у Достоевского «самым отвлеченным и умышленным городом на всем земном шаре». Таким же он будет и в «Преступлении и наказании», где породит одного из самых умышленных героев в мировой литературе.
Влияние Петербурга на мечтательного склада героев для самих этих героев протекает незаметно. Как правило, его фиксирует посторонний взгляд. Свидригайлов глубже других постигает тайну Петербурга. «Да вот еще: я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге» (6, 357).
Глазами Свидригайлова мы видим Раскольникова со стороны, и его поведение, его психофизиологическая моторика имеет явственные психопатологические черты: «...я уже несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дома - еще держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни перед собою, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой, причем иногда вы высвобождаете руку и декламируете, наконец останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень нехорошо-с. Может быть, вас кое-кто и замечает, кроме меня, а уж это невыгодно» (6, 357).
Погруженного в свои мысли Раскольникова Зосимов диагностирует как «мономана». «На тревожный же и робкий вопрос Пульхерии Александровны насчет «будто бы некоторых подозрений в помешательстве» он отвечал с спокойною и откровенною усмешкой, что слова его слишком преувеличены; что, конечно, в больном заметна какая-то неподвижная мысль, что-то обличающее мономанию...» (6, 159).
«Подпольный» человек: между мечтателем и идеологом
«Записки из подполья» открывают новый этап в творчестве Достоевского. Подпольный человек происходит от тех мечтателей в творчестве Достоевского, которые появлялись в «Белых ночах», «Хозяйке» и некоторых других ранних произведениях писателя. В герое «Записок из подполья» мечтательство переходит в другую форму. «Между «мечтательством» и «подпольем» была очень тонкая перегородка. Стоило перейти это незаметное «чуть-чуть», как герой-«мечтатель» становился «подпольным парадоксалистом» . Поэтому в «Записках из подполья», где мечтательность, как и в «Белых ночах», раскрывается и обосновывается наиболее полно, и сама эта мечтательность другая - «подпольная».
В «Записках из подполья» герой-мечтатель Достоевского начинает оперировать идеями. И ему необходимы силы и характер, которых не было у ранних мечтателей, чтобы воплотить идеи в жизнь. «Достоевский видит изъян своих сентиментальных мечтателей не в позиции, а в том, что им не хватает силы на то, чтобы сделать эту позицию постоянным жизненным принципом» . Но сам подпольный человек, как и ранние мечтатели, остается бесхарактерным, отчужденным от жизни не-деятелем. «Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным; человек же с характером, деятель, - существом по преимуществу ограниченным» (5, 100).
Каковы же причины отчуждения от жизни Подпольного человека? Очевидно, что эти причины уже не те же самые, которые отчуждали от жизни Мечтателя, очевидно, что они другие. Но вот, какие другие? Попробуем в этом разобраться. Первое, что отличает подпольного человека от мечтателя, так это его обиженность на жизнь. Раздражающими факторами для него становятся все: от законов физики и математики («стены», в его терминологии) - до офицера, гремящего саблей, вследствие чего герой идеологически не может принять жизнь.
Другая причина невхождения в жизнь подпольного героя - поглощенность рефлексией, теоретическим отношением к жизни. Усиленное сознавание разлагает любые основания для действия до бесконечности. «Ведь чтоб начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно, и чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого познания и мышления» (5, 108).
Мечта и сознавание в чистом виде выпадают из причинно- следственного мира, у них нет ни начала, ни конца. Мечта легко подхватывает на своем бреющем полете все, что встречает, она не знает необходимости, но это незнание лишает присущую ей свободу статуса подлинности.
Природа сознавания сложнее. Сознавание оказывается сознаванием причин. Потому оно само вне причин. С другой стороны, оно порождено необходимостью. Страдающий подпольный человек не может не сознавать. «Страдание - да ведь это единственная причина сознания» (5, 119). И именно эта необходимость сознавать не позволяет человеку из подполья бросить рефлексию. «То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже в каменной- то стене как будто чем-то сам виноват, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого (разрядка моя.— С. К); что предмета не находится, а может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, — неизвестно что и неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше неизвестно, тем больше болит!» (5, 106). Из этой пустоты неизвестности Подпольный герой черпает свою диалектику совместимости математического и живого. Он понимает, что у его боли есть причина, следовательно, сама эта боль может быть математически разложена. В действительности же причина боли неизвестна, и боль становится чем-то живым.
Подпольный человек не верит в возможность отбросить сознавание и начать жить «слепо», ведь с утратой сознания лишается смысла и жизнь. «А попробуй увлекись своим чувством слепо, без рассуждений, без первоначальной причины, отгоняя сознание хоть на это время; возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки. Послезавтра, это уж самый поздний срок, самого себя начнешь презирать за то, что самого себя зазна- мо надул. В результате: мыльный пузырь и инерция» (5, 109).
Идеологичностъ является тем качеством подпольного человека, которое отделяет его от жизни. Все идеи, которыми оперирует в своих рассуждениях подпольный человек, суть реакции его самости на жизнь или на мнения оппонентов. И все новые, представляемые подпольным человеком идеологии являются инерцией реакции.
Как реакции на жизнь идеи внутренне зависимы от нее. И выходом из этой полностью охватившей подпольного человека «реакционности» и зависимости от жизни могла бы быть легкая, возникающая из резервов души, подхватывающая жизнь в своем полете фантазия. И подпольный человек начинал мечтать.
Вместе с природой рационального, усиленно рефлектирующего существа в подпольном человеке уживается природа пылко тоскующего по жизни и деятельности мечтателя. «Мечты особенно слаще и сильнее приходили ко мне после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами. .. . Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, совсем готовой (какой именно я никогда не знал, но, главное, - совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет божий чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке» (5, 132).
И, пресытившись мечтой, подпольный человек пытается удовлетворить жажду живой жизни. «Больше трех месяцев я никак не в состоянии был сряду мечтать и начинал ощущать непреодолимую потребность ринуться в общество. Ринуться в общество означало у меня сходить в гости к моему столоначальнику, Антону Антонычу Сеточкину. Это был единственный мой постоянный знакомый во всю мою жизнь, и я даже сам удивляюсь теперь этому обстоятельству» (5, 134). В эти редкие мгновения счастья подпольный мечтатель обретал благодушное желание счастья всем людям. «Но и к нему я ходил разве только тогда, когда уж наступала такая полоса, а мечты мои доходили до такого счастия, что надо было непременно и немедленно обняться с людьми и со всем человечеством; а для этого надо было иметь хоть одного человека в наличности, действительно существующего» (5, 134).
Но дискретный ум подпольного человека не может долго вынести чувства общности, которое возникало в мечтательном состоянии. «Больше двух-трех гостей, и все тех же самых, я никогда там не видывал. Толковали про акциз, про торги в Сенате, о жалованье, о производстве, о его превосходительстве, о средстве нравиться и проч., и проч. Я имел терпение высиживать подле этих людей дураком часа по четыре и их слушать, сам не смея и не умея ни о чем с ними заговорить. Я тупел, по нескольку раз принимался потеть, надо мной носился паралич; но это было хорошо и полезно. Возвратясь домой, я на некоторое время откладывал желание обняться со всем человечеством» (5, 134).
Мечтатель и его отец: на пути к живой жизни
В романе «Подросток» (тематически возвращающегося к истокам «мечтательства» у Достоевского ) процесс трансформации героя- мечтателя обретает свое завершение. И как итоговое произведение для этого типа героя роман объединяет многие мотивы, связанные с образом мечтателя. Аркадий Долгорукий, во многом, — мечтатель синтеза. Соединение в судьбе Аркадия многих черт героев-мечтателей приводит к созданию совершенно особенного образа. В этом смысле Аркадий Долгорукий — мечтатель типичный и уникальный.
В «Подростке» начинают взаимодействовать по-новому две главные особенности этого типа — мечтательность и способность к восприятию и созданию идей. Эти две способности героя-мечтателя совмещаются в персонажах, начиная с «Записок из подполья». В чистых мечтателях ранних произведений Достоевского (кроме Ордынова) такое сочетание отсутствовало. В героях второго творческого периода, несмотря на совмещение мечтательности и идеологичности, можно говорить о преобладании одной из тенденций (в частности - идеологичности). В «Подростке» же мы можем говорить о диалектическом взаимодействии двух вышеуказанных способностей мечтателя.
В разделе, посвященном «Неточке Незвановой», вкратце уже говорилось о схожести композиций двух произведений и судеб подростков- мечтателей в них. Эти два героя, оказываясь изначально не одинокими (как, например, Мечтатель или подпольный человек), обнаруживали свою внутреннюю, экзистенциальную оставленность всеми, которая у Подростка обнаруживалась и внешне. Аркадий рос ребенком, выброшенным из семьи, предоставленным себе и своим мечтаниям. «Если я и сказал, что все семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. ... Вот почему и случилось, что до двадцатого года я почти не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком» (13, 14). Тематическая домината «Подростка», как ее видит С. Г. Бочаров, — «социально-экзистенциальное одиночество героя из случайного семейства, выпавшего из вековых устойчивых жизненных... связей и скреп» .
Оставленность всеми, как и у Неточки Незвановой, создает предпосылку для развития у Аркадия такой мечтательности, из которой возникла идея. «Месяц назад, то есть за месяц до девятнадцатого сентября, я, в Москве, порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. ... В уединении мечтательной и многолетней моей московской жизни она (идея - С.К.) создалась у меня еще с шестого класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка; но с появлением этой главной и все поглотившей во мне идеи мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму: из глупых сделались разумными» (13, 14- 15).
Идея становится главным в жизни героя-мечтателя, служит панцирем, с помощью которого он защищается от действительности. «Посмотрю, что будет, - рассуждал я, — во всяком случае я связываюсь с ними только на время, может быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этот шаг, хотя бы и условный и малый, все-таки отдалит меня от главного, то тотчас с ними порву, брошу все и уйду в свою скорлупу». Именно в скорлупу! «Спрячусь в нее как черепаха»; сравнение это очень мне нравилось» (13, 15).
Отличие Аркадия от других героев-мечтателей в том, что притяжение идеи (не в его рассуждениях, а в действительности) оказывается равновеликим притяжению жизни. Этот идеолог, завершающий путь мечтательного типа к самосозерцанию в действительности, ближе других подходит к жизни. «Я буду не один, - продолжал я раскидывать, ходя как угорелый все эти последние дни в Москве, - никогда теперь уже не буду один, как в столько ужасных лет до сих пор: со мной будет моя идея, которой я никогда не изменю, даже и в том случае, если б они мне все там понравились, и дали мне счастье, и я прожил бы с ними хоть десять лет!» Вот это-то впечатление, замечу вперед, вот именно эта-то двойственность планов и целей моих .. . эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одною из главнейших причин многих неосторожностей, наделанных в году, многих мерзостей, многих даже низостей и, уж разумеется, глупостей» (13, 15-16).
Судьба Аркадия Долгорукого в «Подростке» имеет много общего с судьбой Неточки Незвановой. Их семьи формируются при причудливом перемещении обстоятельств. Музыкант Ефимов, выполняющий функции отца- воспитателя Неточки, приходится ей отчимом. О судьбе ее настоящего отца, давшего Неточке фамилию «Незванова», в произведении неизвестно ровным счетом ничего. Так «двойное отцовство» оборачивается тем, что ни один из «отцов» не является им вполне.
У повествователя «Подростка» также обнаруживается два отца. Макар Иванович Долгорукий - юридический отец Аркадия, имя и фамилию которого он наследует. Имени же своего отца по крови Андрея Петровича Версилова подросток никак не наследует. «Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой - Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я - законнорожденный, хотя я, в высшей степени, незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению» (13, 6).
В семейных связях Неточки и Аркадия начало отцовства выведено из состояния устойчивости, что соответствующим образом сказывается и на самих молодых героях. Как сын Макара Ивановича Аркадий законен юридически, но не действителен. Как сын Версилова Аркадий действителен, но не законен. Расколотость между действительностью и законом, присутствующая в «двойном отцовстве», продолжается и в характере Подростка. Будучи «законнорожденным» и «незаконным сыном» в одно и то же время, Аркадий оказывается героем взаимоисключающих статусов. И таким образом миражным, неопределенным героем, который не может однозначно ответить на вопрос: «Кто я?». Миражный герой оказывается склонен к порождению миражных фантазий и идей.
Фамилия героя «Подростка» Долгорукий отсылает нас к древнему дворянскому роду. Но это дворянство оказывается миражным, спародированным. « — Как твоя фамилия? - Долгорукий. — Князь Долгорукий? - Нет, просто Долгорукий. - А, просто! Дурак» (13,7).
Чувство оставленности и сиротства, даже обиды на одного из отцов делали его фигуру особенно притягательной для подростка- мечтателя как в «Неточке Незвановой», так и в «Подростке». Взросшие в состоянии безотцовщины, подростки «обожествляли» образ отца. «Каждая мечта моя, с самого детства," отзывалась им: витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою все мое будущее, все расчеты мои на жизнь, - и это случилось само собою, это шло вместе с ростом» (13, 16). «Не встреться он мне тогда — мой ум, мой склад мыслей, моя судьба, наверно, были бы иные, несмотря даже на предопределенный мне судьбою характер, которого я бы все-таки не избегнул» (13, 62).
Искусственное превознесение, чрезмерная идеализация, которой подвергали Неточка и Аркадий образы отцов, становилась со временем для них очевидной. И обожествленный образ, переставший соответствовать необходимым требованиям и идеалам, свергался с высокого пьедестала мира мечты Подростка, подобно ставшему неугодным идолу . «Я сказал уже, что он остался в мечтах моих в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего только в девять каких-нибудь лет с тех пор...» (13, 17). «Но ведь оказывается, что этот человек - лишь мечта моя, мечта моя с детских лет. Это я сам его таким выдумал, а на деле оказался другой, упавший столь ниже моей фантазии. Я приехал к человеку чистому, а не этому» (13, 62).
В мечтаниях Подростка (и это ново!) «идея» и «мечта-чувство» об отце совмещаются, овевая новым ореолом образ героя-мечтателя. Если связь Раскольникова с действительностью была абстрактной, а жизнь служила полем для идейного эксперимента, то Аркадий Долгорукий соединен с жизнью через живые чувств-эмоций, отбрасывающие идейно- математические расчеты. В Аркадии проникновенность к другому челове- ку_действенна. «Но не то смешно, когда я мечтал прежде «под одеялом», а то, что и приехал сюда для него же, опять-таки для этого выдуманного человека, почти забыв мои главные цели. Я ехал помочь ему сокрушить клевету, раздавить врагов» (13, 63).
В «Подростке» герой-мечтатель оказывается непосредственно, а не через идею связанным с судьбами многих персонажей. Более того, судьбы этих персонажей во многом в руках героя-мечтателя. Эти персонажи вызывают у героя эмоциональные реакции не в свете его идеи (как, например, у Раскольникова с его семьей, Разумихиным, Порфирием, которых он избегает, чтобы осмыслить идею или преступление), но сами по себе. Как Подросток, оставляя на втором плане идею, ехал в Петербург по вызову Версилова под влиянием чувства, мы уже видели.