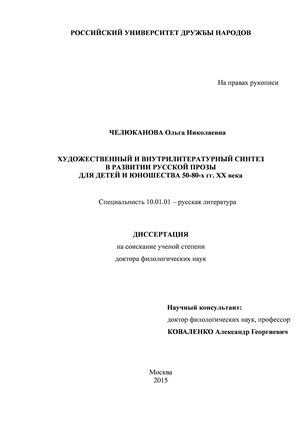Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Эстетические приоритеты в детской и юношеской литературе 1950 – 80-х годов ХХ века: культурный и литературный контекст 19
1.1. Традиции и ключевые направления в освоении опыта детской литературы 1900–1940-х гг. 19
1.2. Доминантные тенденции реализации потенциала многоаспектного синтеза в русской детской литературе в 1950-1960-е годы 61
1.3. Динамика и ключевые векторы стилевых исканий и открытий детской и юношеской литературы в 1970-1980-е годы 81
Выводы по I главе 102
Глава II. Внутрилитературный синтез как жанрообразующий фактор в детской и юношеской прозе 1950 – 1980-х годов и формирование индивидуального стиля детского писателя 106
2.1. Жанр литературной сказки как кумулятивный феномен в литературе для детей и прозе Валерия Медведева 106
2.2. Фантастическое и сказочное в повести для детей 175
2.3. Взаимообусловленность психологического и лирического содержательных планов в прозе, представляющей мир глазами ребенка 197
2.4. Образ любви и способы воплощения драматического конфликта в прозе для подростков 1960-1970-х гг. 231
2.5. Юмористическая составляющая и синтез жанров в прозе для детей 268
Выводы по II главе 279
Глава III. Художественный синтез в детской и юношеской прозе 50-80-х годов ХХ века 283
3.1. Образ музыки в прозаических произведениях для детей 284
3.2. Экфрасис как основа художественного синтеза в русской детской литературе. Синтез литературы и живописи 309
3.3. Способы претворения кинематографических идей и форм в прозе для детей 351
Выводы по III главе 360
Заключение 363
Библиография 377
- Доминантные тенденции реализации потенциала многоаспектного синтеза в русской детской литературе в 1950-1960-е годы
- Динамика и ключевые векторы стилевых исканий и открытий детской и юношеской литературы в 1970-1980-е годы
- Фантастическое и сказочное в повести для детей
- Экфрасис как основа художественного синтеза в русской детской литературе. Синтез литературы и живописи
Доминантные тенденции реализации потенциала многоаспектного синтеза в русской детской литературе в 1950-1960-е годы
Художественный стиль 1950–1970-х годов в своем формировании опирался на традиции классической литературы, причем осознание «наследования этих традиций» осуществлялось и осознавалось контекстной преемственностью открытий, принадлежавших в новых социальных условиях таким писателям, как Аркадий Гайдар (1904–1941), Лев Кассиль (1907–1970), Леонид Пантелеев (1908–1987), Анатолий Рыбаков (1911–1998) и др. Успех художественного произведения у юных читателей во многом обусловлен преемственной связью с традицией, классической, литературной с одной стороны, и фольклорной — с другой. То, что М.М. Бахтин называет «памятью жанра», важно было не только и не столько в рецептивном плане, сколько с сущностно-онтологическом. Спустя десятилетия исследователи констатируют тот факт, что в лучших своих произведениях советская литература потому и выросла в образцовую детскую литературу, что опиралась на традицию, которая гарантирует прочную нравственную основу, значимую для детской книги, и как следствие — читательскую востребованность.
Как правило, детскую литературу принято рассматривать, в первую очередь, с точки зрения проблематики, при этом художественная архитектоника зачастую остается неисследованной. Кроме того, до сих пор сохраняется тенденция идеологического подхода к анализу произведений «советской» литературы. В центре внимания оказывается идеологический компонент, а не словесно-художественная сторона произведения. При «переакцентировке приоритетов в сторону социологических проблем (…) проблемы поэтики и стилистики, проблемы художественности автоматически сдвигаются на периферию внимания» [Минералов 1999, 4]. Подобный подход со временем должен уйти в прошлое, поскольку любая эпоха дает самые разнообразные в художественном отношении образцы, уровень которых зависит в первую очередь от таланта автора.
Сегодня «актуализировался подход к литературе для детей в аспекте конкретной исторической социокультурной ситуации, в прямой связи с эстетикой, общей теорией культуры» [Русская литература для детей 1997, 201]. Переломные процессы, происходящие в социально-экономической структуре России, оказывали влияние на развитие общественной мысли, науки, просвещения, литературы и других видов искусства.
Наряду с этим писатели 1900–1940-х годов «не могли не питаться от источника классического наследия, не могли полностью отрешиться от истоков многовековой национальной культуры» [Минералова, Основина, Рыбаков 2006, 12]. Проблемно-тематическими узлами детской литературы первой трети ХХ века были те же, что и в ХIХ: ведущий среди них — воспитание нравственного человека, обладающего социально-одобряемым набором моральных качеств. Литература для детей продолжала развиваться как составная часть общей национальной культуры.
В начале ХХ века активно развивались традиции классического художественного наследия. Эстетические критерии этого направления базировались на высоких гуманистических идеалах. Талантливыми признавались произведения, утверждающие синтез идеалов добра и красоты, выражающие веру в человека. Эстетика этого направления ценила добро, честь, ответственность, гражданскую самоотверженность.
На литературное творчество сильное влияние оказало бурное развитие театральной жизни: театры всего мира переживали на рубеже ХIХ–ХХ веков стремительный взлет, складывалась новаторская для того времени концепция режиссерского театра. Российский драматический театр, отражая общемировые тенденции, представал в процессе масштабного художественного поиска, проявившегося в огромном разнообразии эстетических направлений [Власова 2010].
Значимым событием рубежа веков было основание Московского Художественного театра (1898), оказавшего большую силу влияния не только на российское общество — велико его мировое звучание и воздействие на художественную культуру разных стран. На рубеже веков МХТ без преувеличения был главным художественным камертоном всей творческой интеллигенции Москвы, а во многом и всей России. Множество новых имен режиссеров и актеров, легендарная система Станиславского, постоянный творческий поиск, неординарные художественно-выразительные решения питали русское искусство в целом. Малый и Александрийский театр в Петербурге также стимулировали развитие искусства театра в России. Начало столетия было отмечено достижениями в области русской музыкальной культуры. На ниве просвещения служили такие музыкальные таланты, как Н.А. Римский-Корсаков, И.С. Глазунов, А.Т. Гречанинов, А.К. Лядов, С.И. Танеев, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов. Это не могло не стимулировать общественную активность музыкальной культуры. В творчестве С.В. Рахманинова, продолжившего традиции П.И. Чайковского и А.П. Бородина, органично слилась эмоционально-эстетическая энергия музыки и сила воздействия поэтического слова. Особенно ярко это проявилось в его произведениях вокально-симфонической музыки «Весна» на текст Н.А. Некрасова; поэма для оркестра, хора и солистов «Колокола» на слова Э. По в переводе Бальмонта. Синтез авторской и народной музыки укреплял патриотизм. Росла культура оперного искусства: Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова. Усиливался авторитет русского балета, развивалось танцевальное искусство. Это было время достижения серьезных высот в развитии духовном, научном и техническом. Все это оказало существенное влияние на сознание общества, на его художественные приоритеты. Исключением не стала и литература, в том числе детская.
Динамика и ключевые векторы стилевых исканий и открытий детской и юношеской литературы в 1970-1980-е годы
А любая машина, компьютер, обогнав человеческий интеллект, никогда не смогут вместить его душу, а потому далеки от совершенства. «Кстати, это еще Эйнштейн (хотя и «физик» — О.Ч.) говорил, — крикнул Маслов, — что любое, самое великое открытие стоит меньше и дешевле проявления человеческих качеств» [Медведев 1983, 159]. Аналогичная проблема поставлена в повести А. Алексина «Безумная Евдокия» (1976). В семье одаренной девочки Оли все было поставлено на развитие ее таланта, а духовное созревание было упущено. В результате это больно ударило по ее близким: обострилась серьезная болезнь матери, осталась без ответа трепетная любовь одноклассника, попрано дружеское чувство близкой подруги. В словах мудрой учительницы пророчески звучит: «Жить только собой – это полбеды. (…) Гораздо страшнее, живя только собой, затрагивать походя и чужие судьбы» [Алексин 1978, 28]. Показывая одноклассников Юрия увлеченными каждый своим делом, Медведев преследует еще одну цель. Он показывает, что обладая своим «уклоном», ребята не ставят его «во главу угла», не противопоставляют себя другим. А, по замечанию одноклассника Виктора Сметанина, «чем лучше Юра Иванов учится, чем больше он знает, тем хуже себя он ведет. И становится агрессивнее и агрессивнее» [Медведев 1983, 165]. Распределяя окружающих на людей, достойных земного притяжения и недостойных его, Юрий на поверку сам оказывается не таким уж «псипом». Компьютер, которому подросток безоговорочно доверяет, констатирует: «Иванов несовместим ни с одним космонавтом». Это означало, что Юрий переоценил свои возможности. И вот что любопытно и важно: если Иванов вдруг обнаруживал какие-нибудь недостатки в своих одноклассниках, то тут же причислял их к «ченеземпрам», не допуская для них возможности исправления (хотя и «недостатки» в его представлении не всегда совпадали с объективным положением вещей). 147 А одноклассники, обнаружив звездную «болезнь» своего приятеля, оказались куда гуманнее и мудрее. Они не списали его на духовную инвалидность, а совместными усилиями стали бороться за исцеление «бесчувственного» Юрия, предлагая самые разнообразные рецепты. Однако и отец, и школьные товарищи облекают свои попытки перевоспитать одноклассника в такие непопулярные для подростков формы, как авторитаризм, дидактизм и назидательность. Именно они активно осуждались педагогами в 1960 – 1970-е годы.
Медведев, всегда внимательно следивший за современными дискуссиями, разворачивающимися на страницах газет и журналов, не мог не откликнуться на волновавший и его спор педагогов и литературоведов. Его интересовала проблема, некогда затронутая Сухомлинским в книге «Рождение гражданина» и ставшая актуальной в эти годы: «воспитание» или «рождение» личности. Давление, волевые способы воздействия на ребенка или допущение «элементов самопроизвольности, взращивания ростков, эмбрионов, заложенных в самой природе человека» [Сухомлинский 1979, 45]. Исходя из этого, становится понятным идейно-психологический портрет Тани Тополевой в повести. Он определяет точку зрения Медведева в обострившейся полемике.
Таня, как и другие, замечает душевное нездоровье Юры. Искренне желая помочь запутавшемуся в себе однокласснику, она не стала прибегать к раздражающим детей назиданиям. Она «исцеляет» товарища своего рода сказкой. Сказочность пронизывает в целом реалистическую повесть В.В. Медведева. Она проявляется не только в доведенном до условности образе главного героя. На уровне другого, значимого в идейно-психологическом плане, образа Тани Тополевой являют себя реминисценции сказочных функций и прообразов. Кроме того, автор с помощью Тани включает Юру в необычную игру, создав вокруг нее своеобразный ореол сказочной фантастичности, сознательно мистифицируя и главного героя, и читателя. Одновременно писатель тонко вплетает в повесть элементы детектива. Юмор в дневнике Юрия — особое средство изображения его характера. С одной стороны, чувство юмора — это проявление чувственной сферы (бездушные инопланетяне и роботообразные существа и сверхкосмонавты (по Юрию Иванову) такого чувства не испытывают). А значит, герой не утратил важной человеческой эмоциональной способности. С другой — его юмор в большинстве случаев балансирует на грани языковой игры, что демонстрирует явный интеллектуальный потенциал Юрия. Например:
«Я прислушался к своему пульсу и к артериальному давлению, проверил аппетит — он у меня был сейчас просто волчий — и подумал: "Всё в норме, всё в абсолютной норме, самочувствие сверхкосмонавта Юрия Иванова прекрасное!"
Затем я опять хотел погрузиться в изучение ораторского искусства и красноречия, но Кутырев опять отвлёк меня. — Слушай, Иванов, — сказал он как-то тускло и без особых красочных прилагательных, которые он обычно любит употреблять. — Я, значит, и группа товарищей решили называть наш кинолюбительский кружок "Весёлый тир". Знаешь, вот есть фотоохота — это когда человек стреляет по животному миру не из ружья, а из фотоаппарата. Так вот мы тоже решили стрелять по живым мишеням, но из киноаппарата. Как ты на это посмотришь?
Фантастическое и сказочное в повести для детей
Название повести «Карюха» обладает выраженной семантической емкостью. Этот образ с широким семантическим полем и многоуровневой ассоциативностью содержит в своей структуре мотивы выбора, смирения, выступает как средство персонификации и конкретизации образа судьбы. Напрашивающееся созвучие «карюха» — «горюха» рождает мотив горькой судьбы, что подкрепляется говорящей символической цветовой семантикой лошадиной клички (Карюха — производное от «карий» — коричневый — земной). В образе Карюхи обнаруживаются черты женского, материнского начала, роднящего ее и с женщиной-матерью, и с землей-матушкой, вводящего этот образ в широкий контекст русской прозы с выраженными мотивами русской земли, хлеба насущного, содержащимися в семантике самого понятия «карюха»-«краюха». Имя-кличка лошади, вынесенное в заглавие, не только создает своеобразные «читательские ожидания» в плане повествовательно-сюжетном, оно формирует психологический подтекст повести. Подобный художественный прием мы наблюдаем в произведениях «Каштанка» А. Чехова, «Кусака» Л. Андреева, «Хорошее отношение к лошадям» В. Маяковского, «Корова» А. Платонова и др.
С другой стороны, символика произведения формирует двуплановость развертывания содержания: повествовательный, сюжетный, событийный план прочитывается сквозь мифопоэтический, символический. Именно через призму мифопоэтики показана тема детства. Породистый жеребенок Майка предстает как символ детства, искалеченного тяготами крестьянской жизни. Знаками несвободы, насилия, которые ведомы жеребенку, являются узда, плеть, а волки, зарезавшие Майку, напоминают о губящих ребенка человеческих пороках. Трагическая гибель жеребенка воспринимается читателем как обретение свободы, без которой немыслимо детство. Несомненно, обращение к образу жеребенка у М. Алексеева имеет самую 222 короткую традицию в русской советской литературе: «Жеребенок» М.А.Шолохова, «Корова» А.П. Платонова, но у названных классиков в название не вынесено «имя». Другая эпоха, индивидуальность писателя, по-другому маркируемый стиль.
Образ детства воплощен в повести в разнообразных образах. Так, сад представляет собой одну из ипостасей формирующейся детской души. Во многом символична сцена, когда юный герой, от лица которого ведется повествование, и его друг-ровесник Колька, взгромоздившись на яблоню, поедают ее кислые плоды. В какой-то момент Колька, поддавшись искушению (награда за риск — краюха хлеба), прыгает с высокой яблони на землю.
Автор намекает на зыбкость чистого, высокого начала в подростке: соблазны, искушения жизни тянут человека к земле, а семантически емкий образ яблока олицетворяет еще и соблазн. Падение Кольки в плане символическом можно истолковать и как нравственное падение — мысль о хлебе насущном затмевает духовное, трепетное отношение к жизни как дару Божьему. А небольшая ранка на ноге — прообраз серьезных страданий, которые грозят ему. В этом эпизоде возникает имя Сократа, с которым связано желание ребят пофилософствовать — проявить своеволие в отношении к Истине. Сад — еще и символическая реализация райского сада: яблоки, которые срывают дети, кислые, незрелые, что намекает на греховно-искусительный смысл образа и напрасность предпринятого пути к соблазну. Все это в контексте детских размышлений порождает аллюзию «конец света»: для голодных ребятишек весь мир перестает существовать после братского раздела краюхи.
Впрочем, вряд ли стоит абсолютизировать символическое, доводя его до известных аллегорий, поскольку символическое обязательно содержит в себе как план реальных, в подробностях описанных событий, так и план символических значений, которые не отменяют реалистических смыслов, а только усиливают их. Более того, при освоении символики произведения необходимо видеть ироническую, шаржированную интерпретацию символико-патетических значений, поскольку отношение к христианской образности остается или эстетизированно-патетическим, или притчево-ироническим, и нет никаких оснований полагать, что в культуре, прямо декларирующей неприятие христианской религиозности, в произведениях для подрастающего поколения эти самые религиозные ценности и будут поставлены во главу угла.
В повести перекликаются и античные образы, закрепленные в культурном сознании и в речи, и христианские представления о человеческом пути. С одной стороны, судьба как рок — нечто неотвратимое, независящее от человека, изначально предпосланное свыше в понимании античной культуры и романтического мировидения. Знаки судьбы, фиксируемые речью, представляющие собой скорее суеверные знаки, чем маркированные языческие смыслы, проходят через все произведение и угадываются на уровне примет (заяц перебежал дорогу), говорящих мифологем (прялка, ворона, свинья, сорока, солнце).
Христианский сюжет повести скрыт в подтексте. Однако линия грехопадения и страдания-искупления безусловно откроется читателю. Внешняя композиция — членение повести на двенадцать глав — содержит аллюзию на сакральную символику числа двенадцать. «Русский роман, — писал Ю. Лотман, — начиная с Гоголя, ставит проблему не изменения положения героя, а преображения его внутренней сущности, или переделки окружающей его жизни, или, наконец, и того и другого»
Экфрасис как основа художественного синтеза в русской детской литературе. Синтез литературы и живописи
Представления мальчика о музыке ограничиваются фантазиями и передаются через образы и впечатления, более доступные для ребенка — зрительные, вкусовые, тактильные.
«Я представил себя в черном фраке и с галстучком, как у франта или у офицера в кино. А в руках у меня скрипка, желтая, как сливочное масло. Лизни — вкусное. А я не лижу, стою на сцене и смычком по струнам вожу и такую выскрипываю музыку! А в зале, прямо напротив меня, сидит враг мой первейший — Юрка-рыжий и губы от зависти облизывает» [Лиханов 1985, 11].
Музыкальные упражнения мальчика поначалу не имеют ничего общего с настоящей музыкой. Для него это своеобразная игра, в которой неприятное и утомительное занятие метонимически подменяется другим: «Жать на педали мне особенно нравилось, это напоминало автомобиль — сцепления и тормоза, — и, увлекаясь этим, представляя, что я шофер, а вовсе никакой не музыкант, я забывал об остальном» [Там же, 24].
Не удивительно, что учеба ему никак не удается: «Я пыхтел, обливаясь потом, краснел с макушки до пяток, нажимал клавиши, лихорадочно пытаясь вспомнить, как это делается, но рояль издавал какие-то чужеродные звуки, вовсе не напоминавшие музыку» [Там же, 27].
Первое эмоциональное, глубокое восприятие настоящей музыки связано для героя с девочкой Ниной, которая, напротив, имеет музыкальный слух и хорошо играет на пианино: «Старенькое, обшарпанное пианино стонало всеми струнами, рождая удивительные звуки. Я не знал, что играет Нинка, но это походило на море. Волны то накатывались на меня, сверкая брызгами, то отступали, успокаиваясь, и все это было в музыке. (…) Нинка играла, а волны все катились, и вот море уже бушевало. Меня будто мороз по коже продрал – стало холодно и торжественно. (…) я знал, я чувствовал, что эта удивительная и неожиданная музыка имеет отношение ко мне» [Там же, 30-31].
Музыка оказывается для героя не средством самовыражения, а точкой преодоления, обстоятельством, которое мешает жить и которое необходимо побороть. Девочка Нинка своей игрой помогла ему понять, что музыка доступна и необходима не всем, что музыка — это радость, а не рабство. Более того, преодолев зависимость от музыки, мальчик находит в себе и внутренние силы для того, чтобы стать самим собой.
«Еще вчера я был рабом музыки. Я мучился, я бился головой в дверь, не зная, что она никогда не откроется для меня. Сегодня в школе я понял, что есть вещи важнее музыки. Например, когда человек говорит сам себе правду. Пусть эта правда не такая легкая. Но это важнее музыки. Это заставляет человека быть самим собой. И если человек сказал сам себе правду один раз, если он сумел сделать это, он скажет ее себе снова.
И я сказал. Я понял, что, отказавшись от музыки, найдя в себе силу сделать это, сказав самому себе правду один раз, я скажу ее снова. Я был рабом музыки. Я перестал быть им. Я был рабом Юрки. Теперь я ничей не раб» [Лиханов 2005, 36].
С музыкой в рассказе сравниваются «немузыкальные» проявления творческих способностей — например, такой, казалось бы, непоэтичный талант, как кулинарный, оказывается, с точки зрения автора, родственным музыкальному дару:
«Пирог был для бабушки высшей точкой ее душевного вдохновения, как, скажем, контрапункт для композитора. … В то время, о котором идет речь, пирогов с тающей верхней корочкой бабушке печь не приходилось, но она не унывала, доставала в обмен на довоенные жакеты или стоптанные туфли ржаной мучицы, но себе не изменяла. Ведь не может же композитор перестать сочинять музыку. Даже в самое трудное время…» [Там же, 20].
В повести В.П. Крапивина «Колыбельная для брата» одним из наиболее ярких образных средств явился синтез музыки и литературы, нашедший отражение на разных уровнях строения художественного текста. На этот художественный симбиоз намекает уже название повести, 301 подчеркивая ее семантическую многоплановость. Жанровые особенности колыбельной как музыкального произведения становятся системообразующим фактором литературного жанра повести.
Колыбельная, наряду с традиционными для нее функциями, издавна играла роль заговора против злых сил. В колыбельной слышатся отзвуки и древних мифов, и христианской веры в Ангела-хранителя. «Колыбельная песня — своего рода прелюдия к музыкальной симфонии детства. Пением песен приучают младенца различать тональность слов, интонационный строй родной речи, а подрастающий ребенок, уже научившийся понимать смысл некоторых слов, овладевает и некоторыми элементами содержания этих песен» [Аникин 1957, 89].
Колыбельная — это песня, так или иначе программирующая, формирующая нравственные ориентиры, ценности. Ребенок, для которого предназначена колыбельная, готов впитать в себя как доброе, так и злое. Исследователи-фольклористы отмечают, что в колыбельной «отчетливо видны черты заклинаний» [Минералова 2002, 30]. Колыбельные песни есть практически у всех народов мира. В некоторых культурах было принято, чтобы мать сразу после рождения сочиняла ребенку особую «личную» песню, которая бы сопровождала его всю жизнь. Таким образом, колыбельная в силу своей педагогической, эмоциональной и духовно нравственной заданности предполагает ассимиляцию к заложенным в ней ценностям, ориентирам. Колыбельная несет философскую, субстанциональную проблематику, выстраивая событийный ряд повести во вневременную вертикаль.