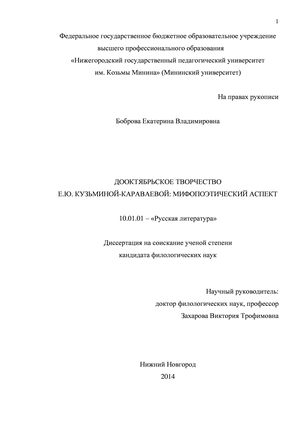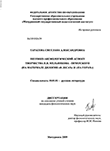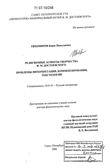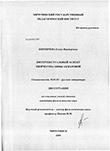Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Прорицание прошлого по «черепкам»: скифские мотивы и мифопоэтическая образность сборника Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки» (1912) .25
1.1. Сборник Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки» в зеркале «скифства» начала ХХ века и его место в культурной среде Серебряного века 25
1.2. В поисках «Иерусалима»: начало пути в «святой простор». Особенности пространственно-временного строения сборника «Скифские черепки». Мифопоэтические образы башня, дерево и корабль как «духовные вертикали» и точки пересечения пространств и миров 35
1.3. Мотивные цепочки и многозначность прочтения архетипических образов сборника «Скифские черепки» 43
1.4. «Но глядит он, мудрый, строже »: «пристальный» взгляд и «стальная» рука. Цикл «Невзирающий»: возможные источники .58
1.5. Жанровые особенности сборника «Скифские черепки» .67
1.6. Тип лирического героя в сборнике «Скифские черепки» 76
1.7. Выводы первой главы 81
Глава II. На распутье: выбор духовного пути за сакральной звездой к «последней высоте». Мифопоэтика сборника Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Дорога» 84
2.1. «Дорога» как знак духовной эволюции человека в поэтическом творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (история создания и роль сборника) 84
2.2. Жанровое своеобразие сборника «Дороги» как отражение религиозно-мифологических исканий поэта и осмысления духовного бытия человека .86
2.3. Художественное воплощение ключевых мифологем (пахарь, сад, город, земля, роза) и мотивов (странничество, бездомность, скитальчество) в сборнике «Дороги» 99
2.4. Выводы второй главы 120
Глава III. « Путь на Высоту»: соединение «черепков» памяти, любви, искусства в единое целое через веру. Мифопоэтическая образность сборника Е.Ю. Кузьминой-Караваевой «Руфь» 122
3.1. Библейский образ Руфи как воплощение страдальческого русского духовного пути в поэтическом творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой 122
3.2. Реализация мотива смерти как «исхода» через мифологемы зимы, снега, зеркала, стекла 125
3.3. Война как земная проекция горних битв Добра и
Зла .134
3.4. Апокалиптические и библейские мотивы (труда, жатвы, Страшного суда) в сборнике «Руфь». Лейтмотив подвижничества, апостольского служения и вестничества. Миф о Поэте .137
3.5. Трансформация и переосмысление традиционных жанров молитвы, псалма, плача как эволюция духовно-религиозного мировоззрения Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. 150
3.6. Выводы третьей главы 164
Заключение 166
Библиографический список
- В поисках «Иерусалима»: начало пути в «святой простор». Особенности пространственно-временного строения сборника «Скифские черепки». Мифопоэтические образы башня, дерево и корабль как «духовные вертикали» и точки пересечения пространств и миров
- Жанровое своеобразие сборника «Дороги» как отражение религиозно-мифологических исканий поэта и осмысления духовного бытия человека
- Реализация мотива смерти как «исхода» через мифологемы зимы, снега, зеркала, стекла
- Апокалиптические и библейские мотивы (труда, жатвы, Страшного суда) в сборнике «Руфь». Лейтмотив подвижничества, апостольского служения и вестничества. Миф о Поэте
Введение к работе
Эпоха Серебряного века это время мучительного исторического «перевала», эпоха великих надежд и «крушений»1. Художественное и историческое полотно Серебряного века многослойно и противоречиво: на нем переплелись многочисленные литературные течения, индивидуальные нетрадиционные стили, изощренный эстетизм и глубокая религиозность, парадоксальное сочетание старого и нового, уходящего и зарождающегося. Из этих контрастов рождалась гармония противоположностей и противоречий русского Ренессанса с ее единым началом и заветом – стремлением к синтезу. А. Блок в статье «О театре» писал, что «нет согласия не только между отдельными людьми, но и в каждой отдельной душе выросли преграды, которые нужно рушить во имя цельности и единства»2.
Н. Бердяев говорил, что «русская литература ренессансная по духу
своему. Мы творим от горя и страдания»3. Но модели восприятия
окружающей действительности, воплощенные в художественных
произведениях творцов Серебряного века в преломлении мифопоэтических мотивов, отражают субъективный взгляд на мир и являются уникальными у каждого яркого художника рубежа веков.
Судьба Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (м. Мария) отличается
неординарностью, яркостью и сложными противоречиями. Ее жизнь и творчество являют собой удивительное сочетание глубокого религиозного чувства, бунтарства и смирения, постоянного поиска собственного творческого и духовного пути.
Именно процесс духовной эволюции позволил Кузьминой-Караваевой за несколько лет (1912–1917) пройти сложный путь от начинающей поэтессы круга Гумилева, увлеченной скифской темой и эстетикой акмеизма, до
1 Об этом: Белый А. Кризис сознания и Генрих Ибсен / А. Белый // Белый, А. Символизм как
миропонимание. – М.: Республика, 1994. – С. 210–237; Блок A.A. Крушение гуманизма / А.А. Блок // Блок,
А.А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. – Л.: Худож. лит., 1982. – С. 327–347.
2 Блок А.А. О театре. Статьи 1906–1908 гг. / А.А. Блок // Блок А.А. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 12. – Л.:
Советский писатель, 1956. – С. 37.
3 Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – М.: Мысль, 1990. – С.143.
4 серьезного философа и лирика, работающего в жанре духовной поэзии. Уже тогда определилось ее движение к христианским ценностям и вере. Это придало творчеству Кузьминой-Караваевой особую значимость, что обусловило его актуальность в наше время.
Степень изученности темы. Достижения современного
литературоведения позволяют считать общий уровень знаний о
Е.Ю. Кузьминой-Караваевой сравнительно высоким, но при этом многие проблемы ее творчества нуждаются в дальнейшей разработке и конкретизации: поэтическое творчество не получило полноценного осмысления, не раскрыта его роль в общем литературном процессе и развитии русской религиозной мысли. После возвращения имени Е.Ю. Кузьминой-Караваевой из забвения исследователей в большей степени стала привлекать ее неординарная героическая личность, разносторонняя деятельность в эмиграции.
В период 50-70-х годов о м. Марии выходят материалы биографического
характера таких авторов, как К.Мочульский, Т.Манухина, Ю. Терапиано.
Появляются исследования творчества Кузьминой-Караваевой в связи с
творчеством других поэтов Серебряного века (в частности с А.Блоком). На
этом этапе можно выделить исследования Д.Е. Максимова,
И.А. Кривошеина. «Началом историографии о матери Марии... можно считать статью И.А. Кривошеина «Мать Мария» в «Журнале Московской патриархии» (1970, № 5), <…> представляющую многоликий творческий облик матери Марии».
Исследования 80-х годов таких авторов, как Н. Алигер, Е. Богат, С. Гаккель, А.С. Сытова, А.Н. Шустов и Е.Н. Микулина, представляют собой ценные источники знаний о биографии Кузьминой-Караваевой. С. Гаккель освещает факты биографии Кузьминой-Караваевой, особенности её монашеского служения «в миру», также приводит краткую библиографию её трудов. Во многом исследования этого времени способствовали созданию образа легендарной личности м. Марии. Ключевым моментом данного этапа
5 стал выход на экраны фильма С.Н.Колосова «Мать Мария» (1982). В 1987 году выходит ряд книг о м. Марии таких авторов, как Н. Веленгурин, С. Кайдаш, А.Лавров, А. Мень, Б. Плюханов. Ведущая роль в исследовании жизни и творчества Кузьминой-Караваевой принадлежит А.Н. Шустову, автору многочисленных литературоведческих работ, вступительных статей и комментариев в основных изданиях о Кузьминой-Караваевой.
В конце 1990-х годов появляются работы Т.Н. Емельяновой о творчестве Кузьминой-Караваевой. В диссертации «Типология жанра мистерии в английской и русской драматургии первой половины XX века (Ч. Уильямс, Дороти Сэйерс, К. Фрай и Е. Ю. Кузьмина-Караваева)» и ряде публикаций исследовательница проанализировала христианское творчество и мировидение матери Марии. Исследуя мистерию «Анна», Т.В. Емельянова пришла выводу о синтезе восточных и западных традиций в ее творчестве.
Большое значение имеют работы Г.И. Беневича, который рассматривает религиозную прозу Кузьминой-Караваевой в широком историко-культурном контексте. В книге «Мать Мария» содержится наиболее полное описание этапов жизненного пути Кузьминой-Караваевой, анализируется ряд ее неопубликованных произведений.
Знаковыми событиями стали создание К. Кривошеиной в 2000 году сайта [.], содержащего подробный и качественный материал по биографии и творчеству Е. Кузьминой-Караваевой. В 2001 году увидело свет собрание поэтических и прозаических текстов Е. Кузьминой-Караваевой «Равнина русская» с комментариями А.Н. Шустова.
О творческом наследии матери Марии написаны диссертационные исследования. Кандидатская диссертация «Поэтическое творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой» М.В. Юрьевой (2005 г.) раскрывает своеобразие ранней лирики Кузьминой-Караваевой, а также религиозно-философскую публицистику эмигрантского периода. В диссертации М.В. Юрьевой представлен «литературоведческий подход и анализируется художественно-
6
философская система Кузьминой-Караваевой»4. Во Введении к диссертации
отмечено, что «в отечественном литературоведении нет пока ни одного
исследования, системно анализирующего разнородное в жанровом отношении
лирическое наследие Кузьминой-Караваевой, отсутствует анализ поэтической
системы. За скобками остается вопрос о «непунктирности», гармоничности
творческого роста»5. М.В. Юрьева анализирует художественный мир книги
стихов 1937 года, прослеживает функционирование лирических мотивов в
религиозно-философской публицистике матери Марии, православной
монахини и общественного деятеля.
В докторской диссертации «Поэты маргинального сознания»
С.Н. Буниной (2007 г.) одна глава посвящена философии жизнетворчества и организации «Православного дела». В работе, в частности, отмечено, что «и М. Волошин, и Е. Гуро, и Е. Кузьмина-Караваева задавались вопросом своей «совместимости» с основным руслом литературы того времени, разрабатывая проблему ее исторических и символических границ. Переживание предельности открывшегося им опыта стало для каждого из поэтов своеобразным «культурным комплексом», проявившимся в пренебрежении условностями литературного быта в пользу сосредоточенной внутренней работы»6.
В кандидатской диссертации «Трансформация сакральных жанров в
творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой» М.Н. Овчинниковой (2012 г.)
рассматриваются «сакральные жанры в творчестве Е.Ю. Кузьминой-
Караваевой 1930-х – 1940-х гг. в контексте традиций и новаторства,
выявляются изменения функций канонических жанров в ходе эволюции всей
художественной системы Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, намечается
ближайший историко-культурный контекст творчества данного автора, а
4 Юрьева М.В. Поэтическое творчество Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: дис. ... к.филол.н.: 10.01.01 / М.В.
Юрьева. – Таганрог: Кубан. гос. ун-т, 2004. – С. 15.
5 Там же.
6 Бунина С.Н. Поэты маргинального сознания в русской литературе начала XX века (М. Волошин, Е. Гуро,
Е. Кузьмина-Караваева): автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.01. / С.Н. Бунина. – М., 2006. – С. 7.
7
также его рефлексия в поэзии конца XX – XXI вв»7. Здесь представлен
анализ таких сакральных жанров, как псалом и молитва. Отмечен
синтетический характер творчества Е.Ю. Кузьминой-Караваевой, а
обращение к 1930-1940-м гг. мотивировано тем, что «именно в этот период ее творчество достигло своей зрелости, приобрело философскую глубину»8.
В диссертациях М.В. Юрьевой, М.Н. Овчинниковой анализируется тематическая и образная парадигма лирических тестов ранних сборников.
Г.И. Беневич, М.В. Юрьева, М.Н. Овчинникова отмечали в исследованиях, что лирическая героиня «Скифских черепков» – alter ago поэта. В настоящей работе предпринята попытка уйти от этого предположения и рассмотреть типы лирической героини в сборнике «Скифские черепки».
Таким образом, из обзора научной литературы видно, что жанровое
своеобразие сборника «Скифские черепки» не становилось предметом
самостоятельного исследования. В реферируемой диссертации доказывается,
что жанр «скифских черепков» можно определить как лирические фрагменты; в
сборнике «Дороги» прослеживается влияние богослужебных
песнопений и церковной литургии, обращение к тексту Откровения на уровне мотивов; эпиграфы к циклам сборника «Руфь», отсылающие к тексту-источнику (Библии), дают ключ к смысловой структуре текста и указывают путь интерпретации.
Актуальность предпринятого исследования обусловлена
необходимостью воссоздания мифопоэтической картины мира
Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. Детальный анализ недостаточно изученного дооктябрьского поэтического наследия поэтессы помогает раскрыть трансформацию ключевых мифологем, полноценно осмыслить и исследовать мифопоэтическое сознание Кузьминой-Караваевой, оценить ее вклад в литературу рубежа XIX–XX веков.
7 Овчинникова М.В. Трансформация сакральных жанров в творчестве Е.Ю. Кузьминой-Караваевой:
автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / М.В. Овчинникова. – Екатеринбург, 2012. – С. 3.
8 Там же. С. 4.
Цель данного диссертационного исследования – рассмотреть эволюцию
философско-эстетического содержания дооктябрьского творчества
Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в мифопоэтическом аспекте, выявить особые качества поэтики и функционирования архетипической образности.
Цель исследования связана с решением следующих задач:
– проанализировать поэтические сборники Е.Ю. Кузьминой-Караваевой дооктябрьского периода творчества «Скифские черепки», «Дорога» и «Руфь» с точки зрения мифопоэтической образности для определения ее роли в воплощении авторского замысла;
– опираясь на поэтические тексты сборников, обнаружить основные архетипические образы, определить степень их трансформации по сравнению с традиционными значениями и обозначить их функции в развитии идеи произведения;
– выявить сложные ассоциативные связи, определяющие рождение образа в творчестве Кузьминой-Караваевой, и дифференцировать природу образа с точки зрения происхождения (архаическая, библейская, авторская);
– выяснить, как синтезированные жанры (фрагмент, цикл, поэма) связаны с развитием и изменением философских, идейных и религиозных взглядов Кузьминой-Караваевой: от фрагментарности до целостности мировосприятия.
Предметом исследования являются содержание и способы
репрезентации мифопоэтической образности в художественном мире поэтессы. Объект исследования настоящей диссертации – поэтические произведения Е.Ю. Кузьминой-Караваевой дооктябрьского периода. Сборники «Скифские черепки» (1912), «Дороги» (1914), «Руфь» (1916) представляют начало пути поэта-модерниста Кузьминой-Караваевой к религиозной духовной поэзии монахини Марии.
Исследованию мифа посвящено много работ отечественных и зарубежных ученых. Это призывает определиться с приоритетными для данного исследования направлениями. Миф – понятие междисциплинарное,
9
его изучением занимается целый ряд наук. Можно, хотя и условно, выделить
разные концептуальные подходы к проблеме мифа. Это понимание мифа как
психологического явления (Э. Тайлор выдвинул на первый план
методологическое основание общности мифов, единый «метод»
мифотворчества, так называемый «принцип ассоциации»9). Как следствие некогда существовавших архаических ритуалов миф рассматривали Д. Вико, М. Вебер. М.Мюллер, А.А. Потебня рассматривали миф как явление языка. А. Потебня понимал под мифологией «всякий случай, в котором язык, ставши независимой силой, воздействует на дух вместо того, чтобы согласно с его собственною (настоящею) целью служить только осуществлением и внешним выражением духа»10.
К. Леви-Стросс, М. Элиаде воспринимали миф как сложно организованную знаковую систему, особый язык, надстраивающийся над естественным языком. К. Леви-Стросс считал, что «миф – это категория нашего мышления» и «развертывание мифа непрерывно»11. В своих трудах он выявлял механизмы мифологического мышления, бинарные оппозиции.
Наиболее близки нам труды Дж. Фрезера, которые открыли механизмы анализа текста посредством системы мифологических лейтмотивов, и исследования А.Ф. Лосева, который считал миф личностной формой, выражающей мировоззрение, в том числе и индивидуальное, что позволяет сопоставлять образный мир произведения и определенные мифологические структуры. «Миф есть развернутое магическое имя»12, – писал А.Ф. Лосев, диалектически связывая личность и миф с понятием «чуда».
Необходимо подчеркнуть, что среди современных ученых нет единства
в осмыслении природы мифа. Многообразие трактовок понятия
обнаруживает его неисчерпаемость и глубокий потенциал. Художники
9 Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор; пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989. – С. 94.
10Потебня А.А. Слово и миф / А.А. Потебня; сост., подгот. текста и примеч. А.Л. Топоркова; предисл. А.К.
Байбурина; журн. «Вопр. философии» и др. – М.: Правда, 1989. – С. 250.
11 Леви-Строс К. Структурная антропология / К. Леви-Стросс; пер. с фр. под ред. и с примеч. В.В. Иванова. –
М.: Наука, 1985. – С. 535.
12Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. –
С. 93.
10
Серебряного века часто «внедряли» в свои творения образы
мифологического происхождения, что способствовало возвращению к мифу
и возрастанию интереса к мифологизации философских,
культурологических, социальных процессов эпохи. Авторское
мифологизирование стало принципом русской литературы рубежа ХIХ и ХХ веков, своеобразной частью духовного бытия. Миф привлекал писателей не просто как исходный материал, но как «воспоминание <…> о космическом таинстве»13, «переплавление <...> образов истории в нечто имманентное»14, древний миф «помнится, как в вещей памяти снов»15. Т.А. Шарыпина указала, что «причины глобального интереса деятелей культуры и искусства XX века к образам и сюжетам греческой мифологии обусловлены самой спецификой мифомышления и мифологического образа, всегда обращенного к человеку, его внутренней сути в противовес дегуманизирующему началу»16. «Перетекание» (З.Г. Минц) мифа в литературу осуществлялось, с одной стороны, через воскрешение древней мифологии и через неомифологизм – с другой. Неомифологизм понимается как создание «второй поэтической действительности»17, когда произведение приобретает черты «текста-мифа»18. Неомифологизм стал предметом изучения З.Г. Минц, К.Ф. Пчелинцева, В.П. Руднев, С.П. Толкачев и др. Исследования в области мифопоэтики на сегодняшний день приобретают все большую актуальность ввиду ее особенной значимости при анализе литературных произведений XX–XXI веков. Поэтому становится необходимым конкретизировать сущность названной области.
13 Иванов В.И. Родное и вселенское / В.И. Иванов. – М.: Республика, 1994. – С. 158.
14 Белый А. Символизм как миропонимание / А. Белый; сост., вступ. ст. и прим. Л.А. Сугай. – М.:
Республика, 1994. – С. 423.
15 Мережковский Д.С. Вечные спутники. Роман. Стихотворения. Литературные портреты. Дневник / Д.С.
Мережковский; сост., примеч. Т. Прокопова; вступ. ст. Н. Солнцевой. – М.: Школа-Пресс, 1996. – С. 537.
16 Шарыпина Т.А. К проблеме восприятия античных сюжетов и образов в современном процессе обучения.
Проблемы мифологизации в зарубежной литературе XIX–XX вв.: мат-лы спецкурса / Т.А. Шарыпина. –
Н. Новгород: изд-во ННГУ, 1995. – С. 6.
17 Максимов Д.Е. О мифопоэтическом начале в лирике Блока / Д.Е. Максимов // Максимов, Д.Е. Русские
поэты начала века. – Л.: Сов. писатель. Ленингр. отделение, 1986. – С. 203–204.
18 Минц 3.Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов / З.Г. Минц //
Блоковский сборник, III. Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 459. – Тарту, Тарт. ун-т, 1979. – С. 76.
Термин «мифопоэтика» может иметь два различных определения,
первое из которых характеризует ее как «художественную систему,
основанную на мотивированном обращении к мифологическим моделям, к
поэтике мифа», второе же подразумевает под собой «метод исследования
таких явлений литературы, которые ориентированы на мифопоэтические модели»19.
Под мифопоэтическим началом в данном исследовании понимается, вслед за Д. Максимовым, «воспоминание о древнем мифе, о сумрачных движениях первобытного сознания»20. Мифопоэтическая образность в произведении «представлена образами-понятиями, где закреплены и обозначены мельчайшие особенности»21, она достигается соединением символических и конкретных образов благодаря особой памяти, «очень точной и весьма эффективной»22, отсылающей к чему-то другому, акцентируя нюансы (оттенки, детали, частности) чего-то общего и известного, не требующего особого упоминания. Говоря о мифопоэтической образности, автор работы имеет в виду устойчивую приверженность автора к определенным художественным средствам: мотивам, системе мотивов, лейтмотивам, мифологемам.
Таким образом, в понимании и анализе мотивов данное исследование близко к морфологическому подходу, разработанному В.Я. Проппом, который углубил семантическую трактовку мотива, разграничив его аспекты. Опираясь на труды Н.Д. Тамарченко, автор диссертации понимает мотив как элемент сюжета словесного художественного произведения, т. е. как событие или ситуацию, рассмотренные с точки зрения их повторяемости или традиционности. Трактовка мотива как простейшей устойчивой схемы
19 Крылов В.Н. Мифопоэтика в литературно-критических статьях русских символистов // II Международные
Бодуэновские чтения. Казанская лингвистическая школа: традиции и современность (Казань, 11–13 декабря
2003 г.): тр. и мат-лы: в 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. К.Р. Галиуллина, Г.А. Николаева. – Казань, 2003. – С. 163.
20 Максимов Д.Е. О мифопоэтическом начале в лирике Блока / Д.Е. Максимов // Максимов, Д.Е. Русские
поэты начала века. – Л.: Сов. писатель. Ленингр. отделение, 1986. – С. 203.
21 Леви-Брюль Л. Операции и приемы пралогического мышления / Л. Леви-Брюль // Леви-Брюль, Л.
Сверхъестественное в первобытном мышлении: в пер. – М.: Педагогика-пресс, 1994. – С. 111.
22 Там же. С.73.
12
восходит к работам А.Н.Веселовского. И автор, по мнению А.Н.
Веселовского, комбинирует известные ему мотивы. Б.Томашевский отмечал, что задачей литературного произведения является «сопоставление отдельных мотивов и словесных образов»23. Устойчивое сцепление мотивов и создает «инвариант» большого количества сюжетов. Ведущий мотив в одном или во многих произведениях писателя может определяться как лейтмотив. Н.Д. Тамарченко выделил трехуровневую структуру мотива, которая позволяет интерпретировать не только основной образ, но и его вариант. О.М. Фрейденберг считала, что «мотив есть образная интерпретация сюжетной схемы»24.
В современном литературоведении сохраняется устойчивый интерес к
изучению мифопоэтического аспекта произведений. В этой связи можно
отметить труды таких исследователей, как М.С. Анисимова,
Н.Г. Дементьева, В.В. Заманская, H.H. Иванов, Г.П. Козубовская,
В.Н. Крылов, В.Ю. Михайлин, Я.В. Погребная, И.С. Приходько и И.П. Смирнов.
Г.П. Козубовская выделяет три мифа русской культуры начала ХХ века:
миф как сон, миф как игра, миф как мировоззрение. М. Анисимова в своем
исследовании предлагает выделить два центральных подхода в
определении сущности мифологемы: с точки зрения синхронии и с точки зрения диахронии. Синхронический подход к мифологеме М. Анисимова связывает «с поиском и анализом мифологем не только художественных, но и социально-исторических и политических»25. Основным тенденциям художественного мифотворчества, характерным для литературного процесса первой трети XX века, посвящены исследования С.Н. Пяткина26.
23Томашевский Б.В. Поэтика: Краткий курс / Томашевский Б. В. – М.: СС, 1996. – С. 71.
24 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / О.М. Фрейденберг. – М.: Лабиринт, 1997. – С. 222.
25 Анисимова М.С., Захарова, В.Т. Мифологема «дом» и ее художественное воплощение в
автобиографической прозе русского Зарубежья / В.Т. Захарова, М.С. Анисимова. – Н. Новгород: НГПУ,
2004. – С. 17.
26 Пяткин С.Н. Пушкин в художественном сознании Есенина / С.Н. Пяткин. – Арзамас: АГПИ им. А.П.
Гайдара, 2007. – 368 с.
13
В таком понимании мифологема может быть осмыслена как «модель
неких сущностных представлений автора», «художнически сотворенный,
субъективированный, конкретный и одновременно обобщенный
вневременной образ, имеющий онтологическое значение, принимающий черты легендарности»27.
Существенным является и то, что миф всегда подразумевает личностный аспект, его словесная форма всегда проходит сквозь призму самосознания, и именно поэтому «миф есть в словах данная личностная история»28.
С учетом неординарности личности и мифопоэтического сознания, а также сложного пути духовного развития Е.Ю. Кузьминой-Караваевой автор исследования считает целесообразным в своей работе использовать труды представителей русского религиозного Ренессанса, затрагивающие проблемы национальной духовности (Н.А. Бердяева, С.В. Булгакова, И.А. Ильина, Н.О. Лосского, В.В. Розанова, В.С. Соловьева, Г.В. Флоровского).
Поставленные в работе задачи обусловили применение структурно-
типологического, историко-функционального и культурно-исторического
методов исследования. В исследовании поэтики ранних сборников
Кузьминой-Караваевой анализируются мифологемы в контексте
произведения и творчества, выявляя степень их трансформации, что позволяет сделать вывод о роли архаических элементов в тексте. Продуктивной видится для исследования поэтического наследия Кузьминой-Караваевой знаковая система Ю. Лотмана.
Гипотеза исследования. Наиболее существенной чертой поэтического
мира Кузьминой-Караваевой является мифопоэтическая образность.
Использованные яркие мифологические образы, имеющие глубокую архетипическую природу, трансформируясь в сознании автора и воплощаясь
27 Захарова В.Т. Образ храма в мифопоэтическом комплексе «Родина» у писателей русского зарубежья (И.
Бунин, Б. Зайцев, Л. Зуров) / В.Т. Захарова // Православие в контексте отечественной и мировой литературы:
сб. ст. / Под ред. Г.А. Пучковой; АГПИ им. А.П. Гайдара, Всемирный Русский Народный Собор, СП России.
– Арзамас, 2006. –
С. 530.
28 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. –
С. 151.
14
в новом варианте, рождают в стихотворениях и подсознании читателей
философский подтекст, насыщенный культурными аналогиями,
вневременным, бытийным смыслом. Это позволяет поэту не только объяснить социальные катастрофы современности и выразить свое отношение к действительности, но и приблизиться к решению онтологических проблем бытия и определиться с выбором своего жизненного и духовного пути.
Положения, выносимые на защиту
1. Особое смыслообразующее значение в раннем периоде творчества
Е.Ю. Кузьминой-Караваевой приобретает мифопоэтическая образность и
глубокий философско-религиозный подтекст. Мифопоэтическая образность,
восходящая к культурно-историческому, фольклорно-поэтическому и
религиозному комплексу, раскрывает конкретно-исторический,
символический, метафизический, экзистенциальный план произведений.
2. Особенностью раннего творчества Е.Ю. Кузьминой-Караваевой
является философско-мировоззренческий, культурно-исторический синтез,
отразившийся в поэтике сборников знаковой насыщенностью образов,
предельно уплотненным и концентрированным повествованием и
возрождением культуры мифотворчества.
3. Мифологизация сборников приводит к усложнению их структуры, что
находит отражение и в применении разной степени циклизации и спаянности
стихотворных фрагментов внутри синтетического жанра лирического цикла,
поэмы и сборника стихов. Метафорические цепочки и реализованные
метафоры, лейтмотивы, повторы, символическая значимость эпиграфов и
подзаголовков, ритмизация являются стержневыми элементами образной
структуры текста, выполняют функции сюжетообразующих
мифопоэтических смысловых доминант или «ключей», дешифрующих его
мифопоэтическое содержание.
4. Краеугольным камнем в творческом и духовном становлении
Кузьминой-Караваевой является поиск своего творческого и личного пути,
15 дороги к Богу. В сборнике «Скифские черепки» Кузьмина-Караваева посредством обращения к древнему прошлому своей Родины, к Праземле апеллирует к киммерийскому мифу и отказывается от него навсегда. В сборнике лирическая героиня проходит крещение «огнем и мечом» и принимает веру в «невзирающего» царя-Христа.
-
Сборники «Скифские черепки», «Дороги» и «Руфь» являются единым метатекстом, при этом в «Скифских черепках» принципом контрапункта заявлены основные мотивы, которые будут развиваться в последующих сборниках. Фрагменты «Скифских черепков» являются своеобразным ключом, открывающим замысел автора – показать пути к христианской вере (путь насильственного крещения «огнем и мечом», путь пророка, путь волхва, путь апостола, путь Христа на Голгофу и путь стояния у креста Богородицы) и понять, какой путь к обретению Бога является наиболее трудным, чтобы далее следовать ему.
-
Синтез является основной чертой мышления Кузьминой-Караваевой. Это позволяет соотнести поэтические произведения Елизаветы Юрьевны с ее живописными работами, в которых автор тоже осуществлял поиск своего собственного стиля и пути. Кузьмина-Караваева применяла в построении мифопоэтических образов, фрагментов, циклов, сборников приемы, свойственные древним иконописцам. Иконописность поэтических фрагментов позволяет сложить из них единую поэму-фреску.
Научная новизна. Диссертация является одной из первых попыток
изучения дооктябрьского творчества Е.Ю. Кузьминой-Караваевой в
мифопоэтическом аспекте. Впервые выявлены особенности
функционирования архетипических образов, обозначен путь духовно-нравственных исканий автора.
Теоретическая значимость определяется введением новых
исследовательских подходов по отношению к раннему творчеству Е.Ю. Кузьминой-Караваевой: изучение типа художественного сознания
16 поэта, выявление синтезированных жанров в её творчестве, изучение сюжетообразующих мифопоэтических доминант.
Практическая значимость работы обусловлена недостаточной степенью изученности духовно-религиозных и философских основ ранней лирики Кузьминой-Караваевой. Выводы, полученные в результате исследования, могут внести вклад в постижение своеобразия сложного духовного пути будущей матери Марии, ее феноменальной личности, сформировавшейся в культурной обстановке Серебряного века, с ее направленностью на возрождение традиционных христианских ценностей. Материалы диссертации могут быть применены как в высшей школе, так и в школьной практике.
Апробация работы проводилась в форме докладов на следующих
конференциях: 1. Международная конференция молодых ученых «Проблемы
языковой картины мира на современном этапе» (март 2010 г., Нижний
Новгород); 2.Международная научная конференция «Язык, литература,
культура и современные глобализационные процессы» (апрель 2010г., Нижний
Новгород); 3. ХХ Рождественские православно-философские чтения «Русская
Православная Церковь и современное российское общество» (январь 2011г.,
Нижний Новгород); 4.Международная научная конференция «Язык,
литература и культура на рубеже ХХ и XIX вв.» (октябрь 2011 г., Нижний
Новгород); 5. III Литературная конференция «Нижегородский текст русской
словесности - 2011», посвящённая 210-летию со дня рождения Владимира Даля
(октябрь 2011 г., Нижний Новгород); 6. 50-я Международная научная
студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс» (апрель 2012, Новосибирск); 7. XVII Международная научная конференция «Пушкинские чтения-2012» «Живые» традиции в литературе: жанр, автор, герой, текст» (июнь 2012 г., Санкт-Петербург); 8. II Международная польская конференция молодых ученых «Przestrzen kulturowa Slowian», Люблинский католический университет им. Павла II (апрель 2012 г., Люблин, Польша); 9. ХХI Рождественские православно-философские чтения «Русская Православная
17 Церковь и отечественная государственность» (январь 2012 г., Нижний Новгород).10. Публикация в журнале «Мир науки, культуры, образования №5 (42)» (октябрь 2013 г., г. Горно-Алтайск).
Этапы подготовки диссертации и результаты исследования обсуждались
на заседаниях кафедры классической и современной литературы
Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина. Основные положения работы нашли отражение в 10 публикациях автора, из которых 3 - в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
В поисках «Иерусалима»: начало пути в «святой простор». Особенности пространственно-временного строения сборника «Скифские черепки». Мифопоэтические образы башня, дерево и корабль как «духовные вертикали» и точки пересечения пространств и миров
Здесь можно увидеть перекличку со стихотворением И. Анненского «Петербург», в котором город становится символом страшной силы, все – яд, все – «отрава бесплодных хотений» [1, с. 324]. (Ср.: А.С. Пушкин: «Скука, холод и гранит...» [77, с. 122].) Таким образом, подобная перекличка с предшественниками и современниками рождает ассоциации с обретением вечной памяти, тесно связанной с воспоминанием и припоминанием. (Ср. также: «Фосфорическое пятно туманно и бешено проносилось по небу; притуманилась невская даль… За Невою, темнея, вставали громадные здания островов и – бросали в туманы светившие очи – беззвучно, мучительно: и казалось, что – плачут» [12, с. 13].) Хазен-Леве отмечает, что «память количественно и качественно преобладает над воспоминанием» [590, с. 263]. Мотив памяти вступает в сложные отношения с воспоминанием и забыванием. «Понятием “память” обозначаются сложные психические явления; воспроизведение прежде бывших в сознании образов, … к памяти же следует отнести и запоминание, забвение и сохранение представлений» [560, с. 32]. Память противостоит времени и его движению. В этом отношении нужно вспомнить М. Волошина, который писал: «…Для человечества воспоминание – все. Это единственная дверь в бесконечность…» [28, с. 136]. Это свойство памяти тематизируется с помощью мифологемы «вечность»: «Я не забуду… // Пусть жало огня мою память язвит» [78, с. 40]. В сборнике «Скифские черепки» сон соотносится с памятью и воспоминанием, отражая те же механизмы: узнавание – повторение – называние. Воспоминание – это та самая дверь, через которую можно войти в бесконечность. Это возвращение к времени, когда у человека были по-детски простые отношения с Богом, это заключает в себя поиск Бога и своей личности. В «Скифских черепках» этот поиск как начало пути дан через сновидение и бессонницу. Мотив сна-воспоминания связан с учением Платона, как «сон души» [274, с. 7], но в нем присутствует «припоминание героем своего общеродового прошлого» [321, с. 172]. В «Скифских черепках» представлен и мотив «сна-забвения». В сборнике мотивы сна-воспоминания и сна-забвения, находясь в сложных отношениях, рождают ассоциации с древним мифом о реке забвения и смерти (Лете) и с предыдущей литературной традицией. В частности, у А.С. Пушкина «сон-забвение» связан с отрешением от мира и пробуждением творчества через воспоминания [136], а у М.Ю. Лермонтова – с вдохновением и оцепенением [245, с. 305]. Необходимо отметить, что в стихотворениях сборника наблюдаются колебания между памятью и припоминанием, сном и бессонницей, воспоминанием и забвением. Происходит склеивание нескольких мотивов, перетекание одного сна в другой, что в литературной традиции обозначено как «сон во сне» (ярким примером является стихотворение М.Ю. Лермонтова «Сон», композицию которого В. Соловьев определил как «сон в кубе» [245, с. 305]). Такая структура отражает мифологические представления о сновидении как о возвращении к своему довременному бытию на земле.
В древних культурах корабль был символом человеческой жизни, плывущей к пристани – смерти, обозначал мистическую смерть, ведущую к духовному возрождению и посвящению. Как «посредник между нижним и верхним мирами корабль несет идею вертикальности и высоты» [152, с. 786]. Мифологема «корабль» в поэтическом тексте сборника представлена образами «корабль» и «парус». «Корабль» реализует атрибут реального мира и атрибут мира мертвых. Архетипический образ корабля может указывать на языческий миф (корабль – символ движения, путешествия и воскрешения) и христианскую идею креста: «Перекладины на мачтах сосновых – // Кресты на могилах отцов» [78, с. 38]. «Мачта» и «перекладина» получают религиозное звучание. Два архетипических образа в «Скифских черепках» связаны с путешествием, пересечением границ: корабль, отправляющийся в плавание, и белый конь, несущий всадника по степи (Прилож. 1, рис. 29, 30). Оба образа несут семантику смерти. Выше в работе упоминалось о том, что Киммерия представлялась эллинам страной, граничащей с царством мертвых, окутанной мглой. Кузьмина-Караваева подчеркивает «призрачность» морей. Во-первых, создается ассоциация с «призраком» (неслучайно один из следующих стихотворений носит название «царство-призрак»), призрачность создается при помощи образа тумана и дыма (белый, серый цвет). Но здесь можно увидеть аналогию с «прозрачностью» морской глади. В стихотворении неоднократно упоминается морское дно («мелькает дно»). Отмечен «свет» и «луч зари», освещающие «путь», «дно» сквозь туман и дым (Прилож. 1, рис. 31). Автор подчеркивает направление «готовых к отплытию гонцов»: «морское дно – вот цель конечная» [78, с. 38]. «Прозрачность» и «призрачность» рождает ассоциации с «зеркальностью». Корабль не погружается на дно, можно предположить, что маршрут корабля проходит вдоль «береговой земли». И в следующем стихотворении «Немеркнущие крылья» развивается мотив «крылатости» и мотив освещенности – «немеркнущие». Автор диссертации предполагает, что образовался мотивный комплекс морского странствия, особым коррелятом к которому выступает мотив полета.
Жанровое своеобразие сборника «Дороги» как отражение религиозно-мифологических исканий поэта и осмысления духовного бытия человека
Символично цветовое решение (теплые оттенки с центром на золотистых тонах) для выражения идеи неземного света, царства и священства.
В рисунках Кузьминой-Караваевой периода 1913–1915 годов есть сходство с описанными выше произведениями («Пророки», «Ангелы трубящие», «Добрый пастырь», «Материнство», 1912–1916 годы, (Прилож. 1, рис. 50): ровный фон, игра коричневых и синих теней, четкий контур изображения, подчеркивающий статику, каменность фигур, как на фресках. Автор данного исследования предполагает, что в цикле «Невзирающий» образ Христа является ключевым, необходимо сопоставить мотивы цикла с текстом Библии, с Откровением Иисуса. «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю» (Откр. 2:26–28); «Он мужеского пола. Ему надлежит пасти народы жезлом железным. Сокрушать ослушников, как глиняные сосуды» (Откр. 19:9–17). И далее: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует» (Откр. 19:11). Ср.: «Опершись на ручку высокого жезла, // Ответил: “Иду, завершается бой! // Но помни в победе, в веках я с тобой...”» [78, с. 40]; «Я весь путь, весь путь держалась за стремя владыки; // Конь белый летел, как птица» [78, с. 30].
«Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого» (Откр. 19:12). Ср.: «Неведомый, нездешний человек // Пришел в мои родные степи» [78, с. 36]; «Нездешний и неведомый нам царь // Восстал один на наше племя» [78, с. 36].
«Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: “Слово Божие”. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы» (Откр. 19:13, 15). Ср.: «Молю: мечом меня ударь. // Наш светлый, дивный господин, // Перед тобой мы в доле равной, // … Цари, казни и награждай один» [78, с. 36].
«Я, как слепая, бродила, ища уверений; // Сердце давно говорило мне: верь. // Закрылась железная дверь; // Нету надежд и нету сомнений» [78, с. 35–36]. Дверь является двойным символом, означая одновременно защиту и доступ. Порог двери символизирует границу и переход. Христос говорил: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин. 10:9). В мифопоэтической символике двери ассоциируются с символикой апокалиптического и эсхатологического раскрытия, откровения. Образ двери ясно объясняется другим, сходным сравнением, используемым Иисусом: «Я есмь путь... никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Цикл «Невзирающий» – отражение сложных внутренних перипетий и блужданий автора, покидающего лабиринт кружений в попытке найти путь. И последнее стихотворение цикла открывает дверь в «святой простор»: «Все ж, – мой святой простор» [78, с. 37]. Нужно отметить несколько важных образов. Песок служит символом бесчисленного множества, олицетворяет нестабильность, указывает на пустыню. Одним из важнейших локативных маркеров сакрального пространства в духовных стихах является пустыня. Как заметила С.Е. Никитина, «на земле есть пространство, в физическом смысле принадлежащее земле, а в духовном – небу. Это пустыня – место, имеющее райские атрибуты, место спасения, противопоставленное остальной земле – прелестному злому миру» [480, с. 183]. Действительно, пустыня в духовных стихах сочетает в себе свойства разных локусов, имеет разные смысловые грани. Прежде всего пустыня – это место спасения, место совершения аскетического подвига (Прилож. 1, рис. 51, 52). Пустыня, кроме того, сближается с матерью сырой землей и воспринимается как символ материнского начала, на что указывал Г.П. Федотов: «Христианизируясь, подчиняясь закону аскезы, – пишет Г.П. Федотов, – мать-земля превращается в пустыню – девственную мать, спасаться в которую идет младой царевич Иосаф» [572, с. 72]. Мотив пустыни, являющийся одним из вариативных проявлений мотива земли, чрезвычайно значим в художественной системе «Скифских черепков». Н.Е. Меднис отмечает, что, «с одной стороны, пустыня в Библии – пространство сакральное, царство духа, аскезы. ... С другой стороны, пустыня – это место гибели для непросветленных духом, и потому она страшит их как иномир» [462, с. 163–164].
Тень – это темная сущность, двойник человека, эквивалент его души. Дым соотносится с воздухом и огнем, является символом соотношения между землей и небом, подобно «столпу огненному» Ветхого Завета, указывая путь к спасению. Основные значения следа: смирение; дорога, преодоленная путником; божественное присутствие некоего предшественника, пророка – провозвестника воли Божией. Описание «дерева в дыму» является абсолютной вертикалью, соединяющей землю и небо, а «призрачность морей» – горизонталью. Мифологема Мировое древо соединяет пространства и времена – верх и низ, прошлое и будущее. Можно увидеть перекличку со строками 1-го Давидова псалма о праведном муже, что «подобен дереву, посаженному при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». Строки понимаются как предзнаменование Христа и Церкви [529, с. 49]. В сборнике «Скифские черепки» Древо – символ сакральной ценности, и в этом его основное значение. Цикл «У пристани» обозначает границу входа лирической героини в пространство мореплавательского мифа [78, с. 37–38]. Море – стихия потенциально опасная для человека, однако и море, будучи маркировано сакральным символом, приобретает признаки священного пространства. Таким символом в цикле является корабль.
Реализация мотива смерти как «исхода» через мифологемы зимы, снега, зеркала, стекла
Стихотворения объединены образом лирического героя, который определил свой путь. Это не широкая дорога, по которой идет большинство людей, а узкая тропа: «Я пойду горами кизиловыми, // Одинокою звериною тропой, // Так зорями идут лиловыми // Звери дикие на водопой» [78, с. 51]. Кузьмина-Караваева вносит евангельское значение широкого и узкого пути: «Входите тесными вратами… узок путь, ведущий в жизнь» [Мф. 7:13–14]. Здесь так же важно понимание метафизического смысла. Блаженный Феофилакт писал: «Узкими вратами Господь называет искушения… узкий путь… это путь скорбей и лишений, но зато он ведет к жизни святой» [263, с. 456]. Узкий путь труден, связан с подвигом, с любовью к близким, с движением к идеалу, борьбой с искушениями.
«Наш путь среди могил, // Но к вечности нетленной // Вот вестник протрубил, // Вот в сердце знак священный» [78, с. 48]; «Я не знаю. Только путь окрашен // И отмечен красным, тайным знаком; // И гонец неведомый не страшен, // Сочетая нас последним браком» [78, с. 48]; «Крутую изберу дорогу, // Покой мой светлый возлюбив. // Избрав мой путь, конец избрала: // Там, где кружат одни орлы, // Я подыму свое забрало // На желтом выступе скалы» [78, с. 51]. Архетипический образ орла связан с мифологемой Солнце. В мифологии выступает как самостоятельный «персонаж тотемистического происхождения» [466, с. 345]. Орел связан с вершиной мирового древа. В целом ряде стихотворений цикла «Дороги» орел соотнесен с недоступным для других пространством гор. Это согласуется с древними представлениями о божественном величии, царственности орла, причастного тайнам древности. Орел изначально близок с мифологическими героями, владыками и царями, «выступает зачинателем царской, греческой шаманской традиций» [463, с. 102]. Сакральный характер образа орла проявляется в употреблении его как знака Иоанна Богослова, несущего слово Христово. Отметим, что полет орла сравнивают с «параллелью вознесению Христа» [393, с. 65]. Но с орлом ассоциируют и «падальщика, отмечая его прожорливость» [222, с. 58]. Неслучайным кажется и то, что в стихотворениях сборника Кузьмина-Караваева всегда употребляет образ орла во множественном числе и вместе с глаголом «кружат», подчеркивая мотив смерти. Но мотивная цепочка (орлы – кружение – крылья – полет – высота) указывает на то, что путь героини лежит в «святой простор», где лишь «полет и орлы», через страдания и смерть к духовному возрождению (Прилож. 2, рис. 25).
«Никому не стану я рассказывать // О путях к последней высоте» [78, с.51]. Здесь автор также прибегает к образу пространственного предела (обрыва, пропасти), столь характерного для исповедальной лирики. «Пусть снятся мне сны о далеком, // Пусть срывы опасны, – // Я выну отравное жало, / Над пропастью крылья расправлю // И сны все забуду» [78, с. 42]; «Пусть с каждым шагом путь отвесней // Со мною – песнь; во мне – покой» [78, с. 51].
В сборнике «Дороги» появляется мотив претворения: виноградная лоза трудами человека превращается в вино, хлеб – в зерно. Этот путь указан Христом: «Я есмь хлеб жизни» [Ин. 6:35]; «приходящий найдет во Мне и истину, и путь» [138, с. 476]. «Духовное странничество» «по миру» и «в поисках Бога» [540, с. 42] нашло отражение в сборнике Кузьминой-Караваевой «Дороги», где раскрываются главные особенности и сокровенные черты русского национального характера, таинственные стихии русской души (в которой «есть много греховного и буйного, но она никогда не перестает слышать таинственный зов к правде, никогда не теряет способности глядеть на мир в свете вечности» [373, с. 220]), духовный склад русского человека в его классическом выражении (основой которого, по утверждению Н. Бердяева, является «совмещение противоположностей»), православное мироощущение русского народа.
Несмотря на глубину проблематики «Дорог», создается впечатление, что Кузьмина-Караваева как-то «небрежно» относится к оформлению стиха: ритмические перебои, погрешности рифмы. Т.В. Емельянова правомерно замечает, что «характерной чертой ее (К.-К.) стихов является их “неровность”. ... Елизавета Юрьевна никогда не “отделывала” своих стихов. ... Однако в этом, думается, и свидетельство их подлинности, – “традиционные”, “общие” места нужны автору как импульс, разбег, после чего она устремляется вверх, достигая большого уровня высоты, – не поэтического мастерства, не технической изощренности, – но глубины чувства, прорыва к сущности, к Богу» [364, с. 152–153].
Из вышесказанного следует, что книга «Дороги» является результатом серьезной творческой работы, к сожалению, не воспринятой А. Блоком: «Прорыв к христианству им был не оценен и не понят» [319, с. 31].
Кузьмина-Караваева относит сборник «Дороги» к жанру лирической поэмы, в центре которой находится внутренний мир лирической героини. Вопрос о жанровой специфике лирической поэмы остается еще во многом не проясненным. Лирическая поэма развивалась параллельно с лирическим циклом. В поэме «Дороги» традиционные жанрообразующие принципы взаимодействуют с нетрадиционными. Как и в большинстве лирических поэм, в поэме Кузьминой-Караваевой организующую роль играет исповедь лирического героя. Указанные черты характерны исповедальному жанру, определение которого в религиозной литературе часто отождествляется с жанром покаяния. Отметим, что в сборнике «Дороги» в жанровом и мотивном отношении стихотворения сближаются с духовными стихами и литургической поэзией.
Образ дороги в сборнике выражает нравственную позицию лирической героини, ее внутренние ориентиры. Раскрываются главные особенности и сокровенные черты русского национального характера (одним из важнейших типов которого, как отмечает А. Амфитеатров, является «тип святогрешного праведника»), таинственные стихии русской души (в которой, по словам В. Зеньковского, «есть много греховного греховного и буйного, но она никогда не перестает слышать таинственный зов к правде, никогда не теряет способности глядеть на мир в свете вечности»), духовность и православное мироощущение русского человека (основой которого, по утверждению Н. Бердяева, является «совмещение противоположностей»).
Апокалиптические и библейские мотивы (труда, жатвы, Страшного суда) в сборнике «Руфь». Лейтмотив подвижничества, апостольского служения и вестничества. Миф о Поэте
В сборнике «Руфь» возникают стихотворения, приближенные к жанру псалма. Книгой Псалтирь человечество восторгается уже множество веков. К ней обращаются поэты, писатели, художники, музыканты, ученые. Книга Псалтирь расположена в самой середине Священного Писания. Вплоть до XIX века Псалтирь была самой обиходной книгой у русского человека. Возвышенная поэтическая и молитвенная выразительность псалмов стала близкой православному читателю, для которого пение псалмов – это выражение глубины душевных переживаний. Творцы русской поэзии восхищались Псалтирью и делали поэтические переложения псалмов. Г. Чистяков пишет: «Псалмы входят в Ветхий Завет и представляют собой книгу из ста пятидесяти молитв… Молитва… – это единственный способ приблизиться к Создателю, припасть к Его коленям, попросить о помощи» [90, с. 15].
Псалом – это жанр библейской духовной поэзии, который исторически по-разному интерпретируется.
Многие поэты ХХ века Псалтирь рассматривают как единое целое, как библейский песенный цикл. Почти во всех псалмовых произведениях ХХ века наблюдается тенденция воплощения идеи восхождения от мрака к свету, от плача к ликованию. Традиция стихотворного переложения псалмов была продолжена и в XX веке В.Я. Брюсовым, К.Д. Бальмонтом, Ф.А. Сологубом, С.А. Соловьевым, В. Ивановым, Н. Клюевым и др.
В ХХ веке преобладают вариации, произведения по мотивам Псалтири, формально и содержательно обновленные, которые имеют лишь тематические точки соприкосновения с сакральным ветхозаветным источником. Книга псалмов становится средством выражения внутреннего мира поэта, его мировосприятия, политических и морально-этических взглядов. Важными исследованиями о специфике жанра стихотворного переложения псалмов являются работы С.С. Аверинцева [299–301], Л.Ф. Луцевич [448, с. 10–11], Н. Никольского [482], Е. В. Семеновой [520, с. 15].
Литературная традиция духовной русской поэзии начинается с переложения псалмов (Симеон Полоцкий. Псалтирь рифмованная, 1680). Все 150 псалмов Давида зазвучали в иной огласовке на книжном витиеватом языке. Дальнейшее развитие русской религиозной поэзии связано, однако, не с начинанием Симеона, язык которого был приближен к церковному, но с ориентированным на французскую и немецкую поэзию творчеством М.В. Ломоносова, переложившего псалмы 1, 14, 26, 34, 70, 103, 116, 143, 145 и создавшего «особую поэтику, ясно различимую от общелитературной, но так же ясно отличимую от церковного языка» [241, с. 332]. Псалмы перелагали многие отечественные поэты от Г.Р. Державина и Ф.Н. Глинки до поэтов Нового и Новейшего времени – Б.А. Садовского, С.С. Аверинцева (Шестопсалмие, 1989).
В оригинальных духовных стихотворениях исстари ведущее место занимала тема восхваления Творца. Духовная русская поэзия приемлет все стилистические приемы поэзии светской, использует разнообразные жанровые структуры, ритмический рисунок, мелодии и тональность, все богатство лексики.
Своеобразие текста Псалтири и ее псалмов, в особенности пророческого, мессианского содержания, подробно освещено в книге Л.П. Клименко [392].
Вхождение и трансформацию сакрального текста можно проследить в творчестве Кузьминой-Караваевой. В основу каждого цикла из сборника «Руфь» автор закладывал «зерно» со Святого Писания, но по-своему 153 обрабатывал тему, опираясь на литературную и народнопоэтическую традиции.
Наследуя Книгу псалмов, сохранив композиционные, лексические особенности сакрального текста, поэтесса предоставила ему общественное звучание. Важным компонентом ее художественных перепевов является подтекст. Вводятся апокалиптические образы жатвы, шестой чаши гнева, открывающихся дверей тайн, разворачивающихся свитков земных деяний, раскрывающихся гробниц и восставших на Суд мертвых.
Поэт отбирал для перевода псалмы, наиболее соответствующие его мироощущению: тема уравнивающей всех смерти, космогонические и эсхатологические картины, темы духовной брани, справедливого и милостивого Вышнего Суда, – делая акцент на описаниях совершенства сотворенного Богом мира, страшных катастроф, ожидающих неправедных, и отвлекаясь от проблемы выбора верного пути, призывов уповать лишь на помощь Всевышнего, звучащих в Давидовых песнопениях.
Ощущение внезапности, неподвластности человеку происходящего создается анафорическими параллельными синтаксическими конструкциями, окольцовывающие повторы усиливают сознание неизбежности Божественного присутствия. Взгляд Кузьминой-Караваевой на Вселенную – это взгляд с высоты.