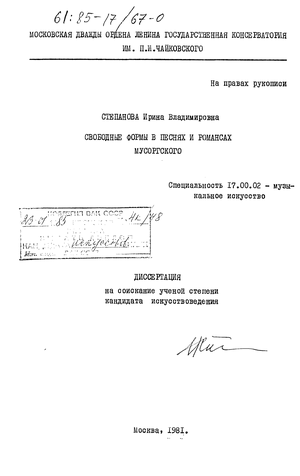Содержание к диссертации
Введение
Глава I
Раздел I. Философско-эстетические и психологические предпосылки музыкального мышления Мусоргского 15
Раздел 2. Слово, изображение и символ в системе художественного видения Мусоргского
Глава II
Раздел I. Традиционная форма и степень отхода от нее 60
Раздел 2, Контраст и повторность. Жанровое смешение 1№
Раздел 3 Тема и развитие. Горизонталь и вертикаль 123
Заключение 148
Список литературы
Приложения. Нотные примеры 162
- Философско-эстетические и психологические предпосылки музыкального мышления Мусоргского
- Слово, изображение и символ в системе художественного видения Мусоргского
- Традиционная форма и степень отхода от нее
Введение к работе
"...границы искусства в религии художника равняются застою".
М.П.Мусоргский
Творчеству великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского вот уже на протяжении многих десятилетий сопутствует неизменный» все возрастающий интерес. Слушательское и исследовательское отношение к его наследию не может быть охарактеризовано как ровное» спокойное и почтительное отношение к наследию признанного классика» непреходящая общественная ценность произведений которого установлена раз и навсегда. Б творчестве, да и в самой фигуре композитора еще многое остается непознанным, и уже по одной этой причине заинтриговывающим» привлекательным. Его внутренние законы и механизмы до сих пор почти не разгаданы, поддаются раскрытию с чрезвычайной трудностью. И это - несмотря на общепризнанную демократичность» доходчивость сочинений Мусоргского, обусловленную их образно-эмоциональной силой» обращением к слову» программностью.
Трудность дешифровки в той или иной мере неизбежна для произведений» нарушающих художественные нормативы своей эпохи. Творчество Мусоргского можно определить как неканоническое» заметив» что это понятие в приложении к Мусоргскому требует некоторых пояснений. Музыка XIX века ныне рассматривается теорией как искусство неканоническое в целом» отражающее» в первую очередь» личностную позицию художника» "В то же время ряд особенностей - лейтмотивная система» вариа-
ционное развитие» принципы мотивной разработки» монотематизм» тематизм сонатного аллегро - безусловно» и исторически» и онтологически связан с эстетическим принципом канона» который не исчезает» но отходит как бы на второй план в условиях иного контекста" (49» 4).
Композиторы» соотечественники и современники Мусоргского широко иопользовали эти канонические принципы» но использовали в условиях Русской национальной школы» по-своему преломлявшей любой европейский принцип. Таким образом» "канонический фон"» на котором творчество Мусоргского выявляется как неканоническое» сам по себе достаточно сложен» отчего возрастает и степень "неканоничности" его искусства.
Истории музыки известны случаи» когда художник неканонического типа создает, между тем» свою "внутреннюю" каноническую систему. К Мусоргскому это не относится. Он находит себя» свою индивидуальность словно каждый раз заново» не боясь иногда потратить годы на сочинение. Отсутствие канонов внутри собственного творчества» превалирование общей эволюционной направленности делают фигуру Муооргского принципиально близкой одному из распространенных типов современного художника (Стравинский» Пикассо).
Радикальный разрыв композитора с традицией» конечно» не остался незамеченным современниками, он пугал даже друзей Мусоргского» искренне стремившихся "пригладить" его творчество» подсказать» направить на "путь истинный"» что всегда встречало с его стороны решительное сопротивление. Не случайно в "Летописи" Римский-Корсаков писал: "Так он без них (контрапункта и гармонии - И.С.) и прожил» возводя для собственного утешения
овое незнание в доблесть» а технику других - в рутину и консерватизм" (115» 73). "Ультрановатор-реалист Модест Петрович" - так называл Мусоргского Бородин» характеризуя его хотя и иронически» но очень точно.
Мусоргский отстаивал себя» свое слово в искусстве самоотверженно, наперекор общественному мнению» любого рода критике - доброжелательной или чаще недоброжелательной. В наброске его автобиографии есть примечательные строки: "Ни по характеру своих композиций» ни по своим музыкальным воззрениям Мусоргский не принадлежит ни к одному из существующих музыкальных кружков... Признавая» что в области искусотва только художники-реформаторы» как Палеотрина» Бах, Глюк» Бетховен, Берлиоз, Лист, создавали законы искусству, он не считает эти законы за непреложные» а прогревсирующими и видоизменяющимися, как и весь духовный мир человека" (91, 27Q). И уже более откровенно - в письме к Стасову: "Не желаю оправдываться даже примером великих людей. Я сам по себе, сам человек - как есть, и вот мое оправдание перед самим собой..." (91, 173). В этом высказывании - весь Мусоргский.
Какой бы аспект творчества композитора мы ни взяли, он» как правило, обнаруживает существенные расхождения с общепринятыми нормативами, пуоть даже не жесткими. Эти расхождения всегда четко осознавались автором. К примеру, об открытых им новых формах речитатива, "жизненной мелодии" Мусоргский писал: "Я хотел бы назвать это осмысленною, оправданною мелодией. И тешит меня работа: вдруг, нежданно-несказанно, пропето будет враждебное классической мелодии
(столь излюбленной) и сразу всем и каждому понятное. Если достигну - почту завоеванием в искусстве... (разрядка моя -И.С.)". (91, 227). Классическая мелодия по Мусоргскому, выражаясь современным языком» - установка, в восприятии которой присутствует момент условности, механичности, неизбежно отрицательно сказывающийся на объеме доносимого до слушателя содержания. Преодолением этой установки он стремится завоевать максимум доходчивости *'.
Нетепичен и подход Мусоргского к фольклору. "И Глинка, и Мусоргский, - пишет А.Милка, - в своем творчестве использовали (для каждого - различные) особенности фольклора, которые» хотя и были довольно устойчивыми явлениями в народной музыке, однако казались неприемлемыми в рамках нормативного языка профессиональной музыки своего времени" (87, 163). То же самое можно отнести и к его гармонии, фактуре, тематизму, принципам формообразования» оперной эстетике и т.д.
Названная черта творчества Мусоргского - следствие аклаосичности его художественного мышления; "Эстетический критерий, определяющий преобладание "классических" или "неклассических" тенденций в том или ином явлении искусства» - говорит И.Барсова во введении к "Симфониям Густава Малера, - обусловливается прежде всего выбором объекта изображения" (12, 12). Если искусство стремится "схватить явление жизни прежде всего "в состоянии его изменения, не завер-
х/ Интересно, что Мусоргский хочет преодолеть установки только в рамках классической традиции. Народное творчество он воспринимает как лишенное канонов, подвижное и живое.
шенной еще метаморфозы» в стадии смерти и рождения» роста и становления"» то тут вступают в силу... неклассические закономерности художественного мышления" (там же) Л
Мусоргский - не просто гениальный композитор» это -великий ум» великий критический ум» сравнимый с лучшими литературными умами Роосии. "Среди всех русских композиторов XIX века Мусоргский единственен в своем прямом» "есте-ствоиспытательском" отношении к жизненным явлениям» в своей отзывчивости на все "веяния"... той сложнейшей эпохи, в которую суждено ему было творить" (112» 103). Он обладал даром острого видения "незавершенных" еще метаморфоз» смотрел на жизнь глазами провидца. Своим творчеством Мусоргский стремился передать и донести это видение до каждого» в чем для него заключалась главная цель сочинительства» воспринимавшегося им как перст божий» как крест» как веление или предписание судьбы. Любая» замеченная в жизни дисгармония» диссонанс неизбежно находили отражение; зачастую он писал не то» что "хотел"» а то» что "надо" было писать, вернее, "хотел то» что было надо". Отвергая самую мысль о специфичности музыкального содержания» он не признавал существования немузыкальных сюжетов, явлений. Недаром Асафьев говорил» что "Мусоргский углублял и расширял» как никто из окружавших его друзей-композиторов, объем понятия музыкального содержания" (б, 24). Собственно с поиска нового со-
*' В книге дано прекрасное сравнение двух художников - Малера и Достоевского, величайших представителей аклассического направления в искусстве. Кстати, творчестзо и того» и другого обнаруживает глубокое внутреннее родство искусству Мусоргского, родство» вполне достойное подробного рассмотрения в специальной работе.
держания и начинается Мусоргский как неповторимая художественная личность: "Форма и характер моего сочинения российски и самобытны"» "Сколько свежих» нетронутых искусством сторон кишит в русской натуре» ох» сколько! и каких сочных, славных. Частицу того, что дала мне жизнь» я изобразил... в музыкальных образах", "Тончайшие черты природы человека и человеческих масс» назойливое ковыряние в этих малоизведанных странах и завоевание их - вот настоящее призвание художника, "К новым берегам" (91 - 88, 100, 141).
Раскрепощение образного мышления - первооснова и фундамент искусства Мусоргского. ^ Оно деавтоматизировало процесс сочинения как в крупном плане,(Чг так и в деталях. Иначе говоря, раскрепощение образного мышле- ния повлекло за собой и раскрепощение технической стороны творчества композитора» которое особенно рельефно проявилось в свободе формообразования.
В книге Б.Христиансена "Философия искусства" содержится
выразительное сравнение произведений, ориентированных на кано
нические системы, и произведений, основанных на нарушении бы- ;
тующих правил. Первые» по мнению автора, сами себя не объясни- |
ют и интуитивно рассчитывают на бытующие нормы восприятия. \
"Они плывут, скорее, вместе с потоком обычаев своего времени" (146» 208). Другие произведения несут интегрирующий стержень в себе, имеют внутреннюю норму, заключенну в собственной.структуре. К таковым относится подавляющее большинство произведений Мусоргского во всех, без исключения, областях его творчества.
Желание определить этот интегрирующий стержень» найти код к расшифровке творческих методов Мусоргского естественно» как естественно стремление раскрыть секрет сильнейшего воздействия его музыки. Путь к более глубокому пониманию природы его искусства» думается» неразрывно связан с поиском новых методов и аспектов анализа» ибо методы традиционные обнаруживают в сочинениях композитора скорее нарушение классических принципов формообразования» гармонии и т.д.» чем выявляют их сокровенное\ ядро. Одним из аспектов» избранных в данной работе» является эстетика Мусоргского как отправной момент для рассмотрения его/ произведений. Но под эстетикой имеются в виду не просто художественные взгляды композитора» которые давно изучены, а сумма духовных факторов, которые так или иначе влияли-на характер и результат творческого процесса Мусоргского. Среди этих разнообразнейших факторов-человеческая натура, склад! психики композитора; мировоззрение и жизненная философия; соб- ; отвенно эстетические воззрения, включая подход к фольклору, взаимосвязи поэтического текста и музыки, художественному пространству и времени и т.д. и т.п.
Любой из названных факторов имеет свою проекцию на форму» определяет некоторые собственно технические» структурные моменты творчества Мусоргского. Возьмем хотя бы трактовку композитором проблемы национального. Понимание Мусоргским национального своеобразия по глубине» свободе от идеализации» любования внешними признаками не имеет аналогов в русской музыке XIX века. Национальное для него-существо русской натуры, сохранившей свою специфику на протяжении столетий, которую сам Мусоргский ощущал в себе очень остро. Поэтому он стремится отыскать черты прошед-
шего б настоящем» а сквозь призму настоящего увидеть прошедшее. Отсюда интерес номпозитора к русской иотории» к православию и язычеству» магии и расколу. Отсюда и пристрастие к крестьянской тематике» в которой Мусоргский справедливо видел корни русского» его изначальность. Отсюда стремление воссоздать круг типических жизненных состояний - ситуаций» раскрывающих русский характер.
С этими особенностями эстетического мировоззрения тесно связаны такие принципы искусства Мусоргского, как обращение к древнейшим пластам и жанрам народной музыки; стремление "воспроизвести в себе тот процесс» посредством которого с незапамятных времен творилось русское народное пение" (102» 319); не цитирование» а "присвоение" фольклорного материала с присущими ему принципами формообразования (работа о попевками» новое понимание тематизма и т.д.).
Точно так же проецируется на форму любой другой из вышеперечисленных эстетических факторов, в результате чего ф о р-м а Мусоргского предстает в виде своеобразного магического центра» преломляющего все нюансы и индивиду-1 альные черты художественного видения композитора. Ее - форму Мусоргского - можно было бы определить как "форму сверху", ибо .1 целое и конкретные детали заданы в ней эстетическими посылками» над которыми всегда возвышалась самобытная идея сочинения. Пусть это сравнение покажется далеким» но в данном смысле творческая личность Мусоргского сродни Бетховену. Тот не отказ от апробированных путей* от заполнения форм-схем» та же основополагающая роль эстетического фактора. Автор одного из последних исследований бетховенского творчества А.Климовицкий отмечал» что
Бетховен "всегда исходил из некоей идеи произведения» и реализовал он ее уже за бумагой. "Когда я пишу инструментальную музыку» - признавался композитор, - то целое всегда стоит перед моими глазами"... для Бетховена характерно не \ моцартовское отсеивание деталей» уже имеющихся в "корзине j памяти", а создание их - исходя из специфической» резко / индивидуализированной идеи целого" (57» 38). В подобном ( творческом процессе и заключена первопричина происшедшего в обоих случаях разрыва с традицией» "перешагивания" рамок направлений» к которым композиторы первоначально принадлежали. Не случайно и Бетховен» и Мусоргский занимают в истории музыки некое рубежное положение» как провозвестники искусства будущих эпох.
Анализ структурных деталей и компонентов музыкальной формы Мусоргского дает возможность двоякого решения поставленной проблемы взаимоотношения эстетики и формы: рассмотрев ние формы как преломления эстетических принципов или прочте-\ ние эстетики через музыкальную форму. Мы попытаемся сочетать оба ракурса» осветив преимущественно те эстетические принци-п ы» которые представляются нам наиболее существенными. Сознательно оставлен в стороне важнейший вопрос об идейно-политических взглядах Мусоргского» оставлен по причине его широкой многоаспектной разработки отечественным музыкознанием» обратившим» едва ли не в первую очередь» свое внимание на социальную чуткость и отзывчивость композитора.
Проблематика диссертации распространяется на все без
исключения области творчества Мусоргского *', но ее музыкальный материал ограничен песнями и романсами. Такое ограничение было сделано сознательно» ибо камерная вокальная музыка» как известно» тяготеет к свободе формообразования. Об этом наглядно свидетельствует уже романтическая вокальная лирика» в особенности 7)иллАЯо^о/ьал^ц $JMf Шуберта» Шумана» песни Брамса» позднее - вокальные миниатюры Малера» Вольфа и Дебюсси. В русской музыке образцы сквозной формы встречаются в романсовом творчестве Глинки» Даргомыжокого, на рубеже XIX и XX веков - у Рахманинова. Однако тенденция к свободе формообразования в вокальной музыке у разных композиторов реализуется далеко не идентично. Свободные формы Мусоргского не похожи на свободные формы Шуберта или Рахманирова» как» скажем» сонатная форма симфонических произведений Чайковского не похожа на сонатную форму Бородина и т.д. Притом разными авторами совершенно по-разному прочитывается тот или иной поэтический текст» послуживший импульсом к свободной форме.
Тема диссертации потребовала помимо работ, посвященных жизни и творчеству Мусоргского, привлечения трудов по психологии творчества и музыкального восприятия 2Л по теории стихо-
у Тенденция к свободе формообразования» обусловленная эстетическими факторами и предпосылками» наблюдаетоя у Мусоргского и в оперном жанре ("Хованщина"), и в фортепианной музыке ("Картинки с выставки"), и в симфонической ("Ночь на Лысой горе ").
2/ "Психология искусства" Л.Выготского, "О психологии музыкального восприятия" Е.Назайкинского, "О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки" В.Медушевского и т.д.
сложения ''Л Кроме того» колоссальная роль внемузыкальных факторов» сюжетность большинства произведений композитора обусловили необходимость обращения к смежным областям искусствознания - поэтике» литературоведению, киноведению. Акцент был сделан на работах М.Бахтина ("Проблемы поэтики Достоевского"), Ю.Тынянова ("Поэтика. История литературы. Кино")» С.Эйзенштейна ("Неравнодушная природа"» "Вертикальный монтаж"), ЮДотмана ("Анализ поэтического текста") и др., чьи теоретические положения в силу высокой теоретической значимости получают сейчас широкую научную разработку.
*' Б.Эйхенбаум. "Мелодика русского лирического стиха"; В.Жирмунский. "Композиция лирических стихотворений"; А.Квятков-ский. "Поэтический словарь"; сборники "Поэзия и музыка", "Слово и образ" и др.
Философско-эстетические и психологические предпосылки музыкального мышления Мусоргского
"С первых творческих шагов Мусоргского сочинение музыки было для него делом» неразрывно связанным с сокровеннейшими процессами в его душевной жизни и сознании. Можно назвать немного художников» произведения которых исходили бы из таких глубин» были бы такой органической частью авторской лисности"» - пишет М.Пекелис (92» Щ . Личность композитора во всех ее проявлениях - это такой же уникальный феномен» как и его творчество. Их параллельное рассмотрение могло бы дать интересные результаты для музыкознания .
В личности и творчестве Мусоргокого есть черта» во многом определяющая самобытность его человеческого облика и музыкального гения. Это - врожденная наклонность к полярным состояниям» на первый взгляд исключающим друг друга. Проявляется она универсально» по самым различным направлениям» в любой сфере
жизненной и музыкальной деятельности. И Лапшин» в частности» пишет о свойственной Мусоргскому двуликости. Приведем его рассуждения по этому поводу» не исключая и тех мест» которые сейчас могут показаться не совсем верными. Он подчеркивает: "не двуличность» а двуликость душевного склада » подобная той» которую Переверзев метко указал у Достоевского ("Творчество Достоевского"). Натура Мусоргского по существу двойственна: экзальтированный мечтатель и цинический скептик» человек громадного самолюбия и "скромный Мусорянин"» как он себя называет» намекая на имя Модест и подчеркивая слово "скромный"; бунтарь» презирающий существующий порядок вещей и исполнительный чиновник» обреченный "швырять под суд лесничих"; нежно любящая и привязчивая душа и натура» в то же время способная страстно ненавидеть; народолюбец и человек» низко ценящий людскую породу. Душе Мусоргского органически свойственна контрастность переживаний - одновременных и последовательных. Мусоргский мог одновременно, как Достоевский» "созерцать две бездны" - веры и без-верья... Здесь весьма замечательно указание (имеется в виду письмо к Балакиреву - И.О.) на наклонность к контрастным сопоставлениям идеала и его отрицания - Бога и дьявола, "Мадонны и Содома" - черта» характерная для сильно эмотивных натур..." (67, 238-239).
Подобными контрастами пронизано и творчество Мусоргского. Так» один из них заключен в том, что стимул к созданию произведений у Мусоргского всегда внемузыкален» тогда как сам мир -от глобальных основ до мельчайших подробностей - композитор воспринимает сквозь звуковую призму. Литература о Мусоргском справедливо отмечает» с одной стороны» предельную конкретность его музыки, с другой - ее высочайшую духовность, силу ее обобщений. Для всего творческого пути композитора характерно параллельное сочинение произведений, противоположных по замыслу, средствам воплощения (см.: 106, 23). Разительный пример - почти одновременное сочинение цикла "Без солнца" и "Рассвета на Москве-реке".
Сказанное дает повод рассматривать контрастность как изначально свойственную Мусоргскому черту личности и художественного мышления, черту, нередко принимающую форму парадокса1/. На это указывает опять же И.Лапшин, который видит зависимость парадоксов мысли» представлений и чувствований от присущих Мусоргскому парадоксов воли 2 . Правомерность высказанного более полувека назад мнения подтверждается хотя бы тем фактом, что само слово "парадокс" все чаще встречается в том или ином контексте в последних работах о композиторе.
Слово, изображение и символ в системе художественного видения Мусоргского
В творчестве Мусоргского внемузыкальным или экстрамузыкальным факторам принадлежит особая роль. Она определена не только сугубо специфичной для его художественного гения конкретностью музыкального мышления» но и областью творческих интересов» которые врацались вокруг фактов и явлений живой действительности1/. Жизнь со всеми ее повседневными реалиями (обычно "выводимыми за скобки" другими композиторами) была для Мусоргского главным объектом внимания и сферой воспроизведения. Жизнь» в бесчисленности ее конкретных негативных и позитивных сторон» есть» по Мусоргскому» первейшая и самодовлеющая ценность. Эмоция» оторванная от жизненного факта» ее породившего, бесомысленна. Дать их в неразрывном единстве» увенчанном авторским словом» авторским отношением - одна из высших целей композитора. При этом обнаруживается довольно устойчивая закономерность: творческая потенция и художественная значимость произведений Мусоргокого всегда находятся в прямой зависимости от сипы воздействия на него того иди иного жизненного прообраза.
Следствие этого - почти абсолютное преобладание в музыкальном наодедии композитора произведений программных или с текстом. Вот почему нам кажется целесообразным выделение в особый раздел вопросов» связанных с внемузыкальными факторами. Их наличие не столько облегчает анализ его произведений» сколько вызывает необходимость в постановке и применении новых методологических принципов. И прежде всего потому, что взаимоотношение феноменов "слово - музыка"» "музыкальное изображение и символ - музыкальная форма" приобретает у Мусоргокого неповторимые черты,
Проблемы соотношения слова и музыки сравнительно недавно стали получать в нашем музыкознании серьезную научную разработку. Обращение к ним связано с общей тенденцией к изучению смежных областей искусства и их взаимодействия в смешанных синтетических видах и жанрах. Среди работ, посвященных данной проблематике, надо прежде всего назвать статьи Е.Ручьевокой и капитальный труд "Музыка и поэтическое слово" В.Васиной-Гроссман, оостоящий из трех частей. (Ритмика. Интонация. Компози ция). Значительный интерес представляет собой и вышедший в 1973 году сборник "Поэзия и музыка11.
В этих работах налицо процесс выкристаллизовывания теории камерной вокальной музыки» рассматривающей специфику» а также границы взаимопроникновения музыки и слова. Не излагая ооновные тезисы этой теории» остановимся лишь на одном из них» базисном» имеющем первостепенное значение для анализа вокальных жанров Мусоргского: о п р и н - \ ципиальной невозможности полного слияния слова и музыки. Положение это тем более важно» что среди музыковедов еще довольно распространено мнение» будто форы вокальной музыки (на деле тяготеющие к большей свободе» чем в музыке инструментальной) зависимы от текста и "следуют" за ним. Тем, самым музыке отводится пассивная роль в сфере вокального формообразования. Между тем уже в "Музыкальной форме как процесс" Б.Асафьев писал: "... область ЯлмС (.романса et .) никогда не может быть полной гармонией» союзом между поэзией и музыкой. Это скорее "договор о взаимопомощи"? а то и "поле брани"» единоборство. И тут-то и заключается интерес, притягательность и смысл эволюции данных форм. Возникаюпіее порой единство - всегда результат борьбы» если оно не "механистично"» не формально. Стоит только понять простой факт: не из родственности» а из соперничества интонаций поэзии и музыки возникают и развиваются Іилсі/ и родственные жанры..." (7» 233-234).
Это положение прекрасно конкретизирует Е.Ручьевская: "В вокальной музыке мы имеем дело со сложными взаимоотношениями текста и музыки как в "плане содержания"» так и в "плане выражения". Обыденное представление» будто музыка углубляет текст» раскрывает его содержание» не отражает сущности этих взаимоотношений. В действительности музыка никогда не раскрывает то же самое содержание» которое несет в себе текст» но вносит свое собственное содержание... Наличие в музыкальном материале константного инварианта» неизменяемого звукового объекта - в вербальном тексте это явление не имеет аналогии - уже говорит о неизбежности расхождений и развитии семантических уровней текота и музыки. (Добавим: не только семантических» но и конструктивных - И.О.). В то же время вариабельность тематизма» способность его к преобразованиям делает возможным адекватное тексту развитие» гибкое схождение и расхождение драматургических планов. При этом музыка создает своими средствами свой - музыкальный - план содержания, соотнесенный» но н е совпадающий (разрядка моя. - И.С.) с содержанием текста" (118, П7-ІІ8).
Итак» содержа в себе основные образные посылки и композиционные ориентиры» поэтичеокий текст» тем не менее» не может и заведомо не предопределяет тот или иной тип образно-конотрук-тивного музыкального решения. Каждый романс или песня есть авторская интерпретация поэтичеокого текста.
Вернемся к Мусоргскому. В его творчестве встречаются романсы, написанные на тексты» к которым обращались и другие композиторы. Таковы» например "Из слез моих выросло много" и "Желание" Гейне» пушкинская "Ночь"» использованные Шуманом» Чайковским» Рубинштейном. Сравнение этих романсов демонстрирует не только различие подходов к одному и тому же первоисточнику» различие» доходящее порой до противоположности» но и некие закономерности трактовки поэтического текста Мусоргскими, Наиболее ярко они просматриваются в форме. Если романсы Шумана» Чайковского и Рубинштейна написаны в какой-либо из традиционных форм» то у Мусоргского каждый раз возникает неповторимое композиционное решение.
Так» "Из слез моих выросло много" Шумана - простая ре-призная двухчастная форма» без каких-либо отклонений от ее обычной структуры. "Из слез моих выросло много" Мусоргского -двухчастная форма» которую невозможно отнести ни к простым» ни к сложным. Части несоизмеримы по масштабам (23 + 12 + 4 такта коды)» резко контрастны по фактуре» ритму ( и %), тональности (& и Ъ д )» к тому же вторая часть начинается и построена по типу развивающей середины» но развивающей абсолютно новый (!) тематический материал.
Желание" Гейне. У Чайковского это простая трехчастная форма с серединой развивающего типа. У Мусоргского - форма» представление о которой» как и о большинстве его романсов и песен» можно дать лишь с помощью последовательного описания Первая строфа текста соответствует в ней начальному периоду» две другие подобны как бы двум серединам, кая:дая из которых развивает предшествующий материал. Собственно реприза отсутствует. Чисто инструментальная кода построена на новом тематическом материале.
Традиционная форма и степень отхода от нее
При всех новациях в области формообразования традиционная форма не есть нечто абсолютно чуждое для камерно-вокального творчества Мусоргокого. В нем встречается немало примеров трехчаст-ности» а еще чаще - куплетной и вариационной форм. Однако в большинстве случаев композитор трансформирует традиционную форму t порою мало заметно» порой очень значительно. Нередко именно характер этих изменений, независимо от их масштаба» убедительно подтверждает атипичность» ненормативность композиционных принципов .
В наименьшей степени модификации затрагивают трех -чаотную форму. Но не потому» что Мусоргский рассматривал ее как наиболее совершенную или имеющую какие-либо преимущества перед другими. Каждое обращение к ней обусловлено особыми причинами. Один из самых строгих ее образцов - "Классик". Трех-частность здесь трактована в духе общей пародийной направленности сочинения» пропорции ее нарочито, подчеркнуто соразмерны и уравновешенны. В том месте, где положено» - в точке золотого сечения» перед репризой - находится кульминация с непременным для мажорной пьесы минорным омрачением; в репризе восстанавливается первоначальный темп» спокойная просветленность. Сама трехчастная композиция выступает как своеобразный предмет изображения - как пародия на архитектоническую стройность» "классичность" музыкального построения.
Использование трехчастной формы в "Светик Савишне" и "Сиротке" продиктовано иными мотивами. Исключительная самобытность этих произведений» не имеющих аналогов в русском классическом наследии» связана с применением некоторых» почти не вводимых в профессиональную музыку XIX века специфических форм народного речитирования. В качестве ведущего принципа Мусоргский выбирает для названных пьес импровизацию» типичную для бытования многих жанров устной народной традиции. При этом композитор безошибочно выбирает и тип импровизации - на синтаксическом масштабном уровне - основанный на множественности однотипных единиц структуры, бесчисленных вариантных изменениях начальной формулы-по-певки. Сама же полевка есть речевой аналог: в "Савишне" -просьба-причет» в "Сиротке" - плач. Обе формулы отличает чрезвычайно простое мелодическое строение» позволяющее наиболее рельефно преподнести основную смысловую интонацию и дающее простор для гибких модификаций» а также необыкновенно яркая агогика. /Пример 12-а» б).
Импровизационный ток мелодического развития Мусоргский» тем не менее» ограничивает рамками строгой конструкции - четкой трехчастной формой» как бы накладываемой на него "сверху". Такое сочетание импровизационности и композиционных принципов типовых форм» введение некоего стабилизующего момента весьма характерно для импровизационности на синтаксическом уровне (см.: 15). Оно придает вольному течению мысли драматургическую направленность» как бы используя при этом опыт традиционных форм.
Из пяти песен на слова А.Толстого в трехчастной форме написаны четыре: "Не божиим громом ударило". "Горними тихо летела душа небесами"» "Спесь"» "Раосевается. расступается"» и во всех случаях форма почти не отступает от схемы. Этот, как бы не обозначенный композитором» вокальный цикл создавался в годы» отмеченные поисками интонационной и конструктивной ясности» поисками, принесшими такие блистательные результаты в "Хованщине"» "Песнях и плясках смерти". Для позднего периода творчества Мусоргского, начиная с последних двух пьес "Детской", вообще характерно усиление роли собственно музыкально-логических факторов (см.: 98). В песнях на слова А.Толстого эта тенденция представлена в крайнем, обнаженном виде» что отчасти было навеяно и качеством поэтических текстов: стилизация под народную поэзию» которая» видимо» и привлекла к ним композитора. Но образный строй этих текстов отличается свойственной А.Толстому высокой отепенью обобщенности. В них мало конкретных характеристических деталей» за которые всегда "цеплялась" мысль и фантазия композитора» для Мусоргского они» если можно так выразиться» чересчур обтекаемы, "гладки". Отсюда и некоторые отрицательные черты цикла - однотипность интонаций» кочующих из одной пьесы в другую» а также необычная для Мусоргского традиционность конструкции (песни "Не божиим громом ударило"» "Рас-севается» расступаетоя").
Гораздо более значительные изменения прзтерпевает у Мусоргского куплетная форма. Ее коррекции - правило для песенно-романсового творчества» почти не знающее исключений. К куплету композитор обращается часто. Композиционные принципы этой простейшей и древнейшей формы оказались особенно близкими ему среди прочих типовых структур: повторность исходного тематического материала служила Мусоргскому удобной канвой» на которую каждый раз наносился новый "орнамент".
Так» "Козел", на первый взгляд, построек в обычной куплетной форме, без значительных отклонений. Главный признак куплета - тематический повтор - налицо, второй куплет почти дословно повторяет первый (изменены только комментирующие реплики). Однако налицо и существенное отступление от нормативной куплетной формы» обусловленное разрастанием» усложнением внутренней структуры каждого куплета. Она не имеет ничего общего с типичными для куплета структурами периодичностей» периода» либо одной из разновидностей простой двухчастной формы. Куплет тут дробен» многосоставен» фрагменты относительно развернутые рассекаются декламационными вставками ("Вдруг навстречу ей козел!", "сущий чорт").