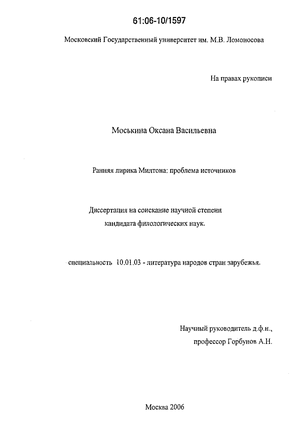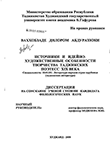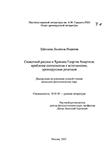Содержание к диссертации
Введение
2. Глава I. «Рождественская ода» Милтона и ее источники с. 19
3. Глава II. Источники поэмы-диптиха "L'Allegro" и "II Penseroso" с. 68
4. Глава III. Траурная элегия «Люсидас» с. 131
5. Заключение с. 194
6. Библиография с. 202
- «Рождественская ода» Милтона и ее источники
- Источники поэмы-диптиха "L'Allegro" и "II Penseroso"
- Траурная элегия «Люсидас»
Введение к работе
1. Введение
Выбор темы данного диссертационного исследования обусловлен недостаточной изученностью ранней лирики Джона Милтона в отечественной науке, а также отсутствием в российском и зарубежном литературоведении работ, систематически и всесторонне освещающих вопросы взаимодействия Милтона с творчеством его предшественников (Чосера, Шекспира, Спенсера и других английских поэтов). Научная новизна данной работы заключается в попытке максимально полно реконструировать литературные и культурные связи ранних стихотворений Милтона с текстами разных эпох, от античности до современных ему произведений, по возможности охватив различные области западноевропейской культуры от поэзии и изобразительного искусства до алхимии и богословия. Цель данного диссертационного исследования -выявление наиболее значимых источников ранней лирики Милтона, оказавших глубокое воздействие на становление молодого поэта, а также определение характера взаимодействия Милтона с литературной традицией в лице его предшественников.
Большинство критических работ, затрагивающих проблему источников Милтона, сосредоточивается на ограниченном круге художественных объектов (например, античных источниках латинских стихотворений Милтона1). Подобные критические труды, как правило, исчерпывающе освещают затронутую проблему, но не дают разностороннего представления об источниках лирики Милтона в целом, не выстраивают картины его творческой эволюции и формирования его стиля, философских и эстетических взглядов, образной системы. Кроме того, большая часть работ о Милтоне построена на материале его эпических поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», а его ранние произведения оказываются на периферии исследования. Научная новизна предпринятого в данной работе исследования заключается в обращении к ранним, малоизученным текстам, без анализа которых невозможно реконструировать творческую эволюцию Милтона и оценить своеобразие его поэтического пути.
Актуальность выбранной темы определяется еще и растущим интересом к проблемам межтекстового взаимодействия. В современной науке она разрабатывается преимущественно в рамках теории интертекстуальности, применение которой оправдано только по отношению к постмодернистским текстам. Использование понятия интертекста при анализе произведений эпохи Возрождения и XVII века кажется нам необоснованным, поскольку оно противоречит концепции художественного творчества в эти периоды, а также ведет к нивелированию роли автора-субъекта и излишней модернизации самого произведения. Более актуальными при изучении западноевропейской словесности указанных эпох оказываются такие понятия, как влияние, преемственность, заимствование, отражающие характер взаимодействия отдельных писателей или школ. Реконструирование литературных связей и поиск источников таких значимых и масштабных авторов, как Милтон или Шекспир, в творчестве которых отражались все ведущие тенденции современного им искусства, является важным этапом в создании истории национальных литератур и описании литературной традиции данной страны или эпохи.
До XIX века к анализу источников прибегали преимущественно историки и комментаторы религиозных текстов, в частности, Ветхого Завета. Интерес к проблеме источников литературного произведения оформился в самостоятельную теорию лишь в XIX веке, в рамках позитивистских течений в литературоведении. Эта теория активно использовалась Вильгельмом Шерером и его последователями, стремившимися перенести в гуманитарную сферу принципы естественных наук. Хотя исследования Шерера, посвященные истории германской литературы, в частности, «Фаусту» Гете2, внесли свой вклад в становление немецкого и западноевропейского литературоведения, теория источников была скомпрометирована теми крайностями, к которым был склонен позитивистский подход к литературоведению.
Шерер выстроил свою историко-генетическую концепцию художественного творчества на основе понятия причинности, заимствованного из естествознания, и свел анализ произведения к текстологическому разбору, игнорируя идейно-философскую сторону художественного творчества. Рудольф Унгер (1876-1942), представитель духовно-исторической школы в Германии, назвал увлечение поиском источников, заимствований и аналогий «филологизмом». В своей работе «Философские проблемы новейшего литературоведения» (Philosophische Probieme in der neueren Literaturwissenschaft, 1908) Унгер стремился подчеркнуть, что культурно-исторические изыскания не должны являться самоцелью критической деятельности в ущерб постижению духовной или философской основы произведения; «позитивистское пренебрежение к органическим взаимосвязям проявилось в той чрезмерной заботе, которая стала уделяться прослеживанию литературных влияний, заимствований, реминисценций, созвучий и т.д. ... Подобные изыскания имеют ценность всегда лишь в той мере, в какой помогают достичь глубокого понимания своеобразия внутреннего процесса художественного творчества и духовной истории создаваемых произведений»3.
Обращение к источникам и поиск заимствований, аналогий, влияний являются также частью культурно-исторического метода, разработанного Густавом Лансоном в его программной работе «Метод в истории литературы» («La methode de l histoire litteraire», 1892-1909). Хотя, по мнению Лансона, история литературы имеет целью характеристики отдельных писателей, и ориентирована на творческую индивидуальность каждого из них, он считает необходимым элементом литературоведческого исследования выявление источников произведения, а также тех предшественников изучаемого автора, которые оказали на него наибольшее влияние: «Самый оригинальный писатель все же в значительной мере -осадок предшествующих поколений и преемник современных движений: он на три четверти состоит из элементов, которые ему лично не присущи...» . При этом Лансон предостерегает от чрезмерного преувеличения роли замеченных параллелей, аналогий или признаков влияния одного писателя на другого . Само понятие «источники» он трактует очень широко: «Как было создано произведение? Из каких материалов? Это узнается путем изучения источников, это слово надо понимать в широком смысле: необходимо принимать во внимание не только явное подражание или грубую подделку, но и все отпечатки, все следы устной и книжной традиции, вплоть до самых тонких признаков внушения или окраски, которые могут быть уловлены»6. По мнению Лансона, к этому методу в той или иной форме прибегали такие исследователи, как Альфред и Морис Круазье, Гастон Буасье, Гастон Парис.
На русский язык «Метод в истории литературы» был переведен М. О. Гершезоном, что было одним из признаков растущего интереса русских ученых к проблеме литературного влияния и, как следствие, теории источников. Одними из первых на эту проблему обратили внимание представители культурно-исторической школы в лице А. Н. Веселовского, А. Н. Пыпина, Н. С. Тихонравова, Н. П. Дашкевича. Эти ученые занимались преимущественно международными литературными связями и влияниями, основанными на сходстве культурно-исторических условий различных народов. Исследование источников в рамках компаративизма носило характер вспомогательного метода для изучения происхождения сюжетов, мотивов, образов, жанров, присущих одновременно нескольким национальным литературам. В плоскость индивидуального творчества теорию влияний и заимствований перенесли сторонники психологического метода, объяснявшие факты сознательного или неосознанного заимствования сюжетов, мотивов или даже отдельных выражений «духовным родством художников, внутренней однозвучностью их индивидуальных переживаний»7, Подобное родство П. Н. Сакулин называл «конгениальностью»8 писателей, считая его достаточным основанием, чтобы проводить параллели между творчеством различных писателей и находить в произведениях более поздних авторов реминисценции из текстов их предшественников.
Литературоведческая практика представителей «психологизма» вызывала активную критику, которая была созвучна обвинениям в филологизме, выдвинутым Унгером в адрес слишком рьяных сторонников текстологического анализа: «Метод их анализа был текстологическим, но текстологизм почти всегда вырождался в буквализм. Совершенно игнорируя культурное окружение, эти исследователи ограничивались отыскиванием сходных выражений и отдельных слов. Стоило Лермонтову назвать луну «красной», и Родзевич9 победоносно отмечал здесь влияние В. Гюго, употреблявшего тот же эпитет. Они не представляли себе, что раз этот эпитет пришел в голову В, Гюго, он столь же легко мог прийти в голову Лермонтову. Они не пытались дифференцировать типы влияний, отделить здесь зерна серьезных воздействий от плевел случайных и мелких реминисценций»10. «Такое, как у Родзевича, механическое сопоставление отдельных строк ... отличается полным непониманием творческого процесса как единого и органического»11
Более системный характер приняли исследования по изучению реминисценций, заимствований и других форм межтекстового взаимодействия у формалистов. Например, в 1920-х гг. вопросом межтекстовых связей («схождений») занимался Б.В. Томашевский, выступая при этом против механического выискивания параллелей и заимствований, которое напоминает «некий вид литературного коллекционерства». Он утверждал, что необходимо дифференцировать разные типы текстового схождения, отделив «сознательную цитацию, намек, ссылку на творчество писателя» от «бессознательного воспроизведения литературного шаблона» и «случайного совпадения»12.
Работы русских формалистов, вместе с металингвистическими теориями М. М. Бахтина, подготовили появление теории интертекстуальности, сформулированной Ю. Кристевой в 1960-х и дополненной впоследствии Р. Бартом, Ж. Деррида и другими представителями постструктуралистской критики. В определении интертекста, данном Бартом, звучит критика теории источников, сохранявшей свою популярность в литературоведении первой половины XX века: «Как необходимое предварительное условие для любого текста, интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитации, даваемых без кавычек»13. В отличие от теории источников, механически фиксирующих присутствующие в произведении фрагменты других текстов в виде цитат, аллюзий и реминисценций, теория интертекстуальности раскрывает динамическое взаимодействие в тексте различных культурных кодов. При этом происхождение этих кодов и восстановление источника, из которого они попали в данный текст, не играет роли для анализа интертекста: дискурсы, в результате взаимодействия которых и образуется сам текст, многообразны и бесконечны, и принадлежат уже не какому-то конкретному автору или эпохе, но самой культуре: «...индивидуальный текст...служит одним из входов в разветвленную систему с множеством подобных ходов; воспользоваться этим входом значит увидеть ...целую перспективу (обрывки чьих-то речей, голоса, доносящиеся из недр других текстов и других кодов) с убегающим, отступающим, таинственно распахнутым горизонтом»14.
На первый взгляд кажется, что интертекстуальность, стремительно завоевавшая место ключевого понятия постмодернистской культуры, вытеснила теорию источников, которая не могла обеспечить объяснения динамической природы взаимодействия объектов искусства, отражая лишь некоторые аспекты генезиса литературного произведения. Многие литературоведы стали активно использовать понятие «интертекстуальности» применительно к текстам, написанным в эпоху Возрождения или Средневековья15. Однако постмодернистская поэтика слишком активно использовала эту концепцию для описания любых семиотических процессов второй половины ХХ-начала XXI века (интертекстуальность воспринимается как способ существования литературы и одновременно доминанта постмодернистского сознания), в результате чего понятие интертекста слишком размывается и становится малопригодным для практического применения в литературоведении.
Если в рамках теории источников происхождение текста объясняется генетически, то есть через воздействие текстов-предшественников на более поздние произведения, то интертекстуальность подразумевает взаимодействие всех текстов, включая еще не написанные, а также влияние более поздних текстов на предшествующие. Еще одним существенным отличием теории источников от интертекстуальности является (в рамках последней) активное отрицание роли автора-субъекта и вообще индивидуального начала в художественном произведении, «Смерть автора» подразумевает также отказ от идеи литературной традиции, преемственности, влияния, что противоречит самой концепции художественного творчества в традиционалистской культуре, ориентированной на нормативность, каноничность. При анализе произведений, написанных в эпоху «готового» слова, выявление источников произведения, установление литературных связей, влияний, заимствований является одним из наиболее плодотворных методов, а в ряде случаев даже незаменимым.
Реабилитация теории источников во второй половине XX века идет по линии отказа от механической регистрации признаков взаимодействия текста с его предшественниками к дифференциации типов этого взаимодействия, намеченной еще в работах Б.В. Томашевского. Учеными осознается потребность в разграничении способов, при помощи которых автор более позднего текста указывает на связь с произведениями другого (или других) авторов. Позитивисты, которые использовали метод выявления источников наряду с поиском аналогий, не разработали собственного терминологического аппарата для обозначения видов отсылок к текстам-источникам, используя такие термины, как цитата, аллюзия, реминисценция, заимствование, подражание, стилизация, пародия, переработка, перевод, плагиат. Поскольку в нашем исследовании мы планируем использовать некоторые из этих терминов16, необходимо хотя бы кратко проследить их эволюцию и определить их значение и сферу употребления на данный момент.
Наибольшие сложности при разграничении типов отсылок к текстам-источникам возникают в связи с терминами «цитата», «аллюзия» и «реминисценция». Камнем преткновения здесь становится вопрос о степени осознанности заимствования и перенесения фрагментов текста-источника в текст-реципиент.
Одна из первых попыток разграничить эти формы межтекстовых отношений была предпринята советскими литературоведами в одиннадцатитомной Литературной энциклопедии, издававшейся в Москве с 1929 по 1939 гг. Термин «реминисценция» используется здесь «для обозначения моментов бессознательного подражания в творчестве поэта, отличаемого от заимствования - сознательного подражания»17, и соотносится с методами психологической школы. Бессознательный характер реминисценции подчеркивается и в определении, данном «Литературным энциклопедическим словарем»: «реминисценция - в художественном тексте... черты, наводящие на воспоминания о другом произведении. Р. - нередко невольное воспроизведение автором чужих образов или ритмико-синтаксических ходов. В отличие от заимствования и подражания, Р. бывают смутными и неуловимыми, напоминая творческую манеру, характерный комплекс мотивов и тем какого-либо автора. Часто трудно уловить грань между осознанной установкой автора на заимствование чужого образа и его сознательной Р.»18
Таким образом, основным отличием реминисценции от аллюзии и цитаты является ее непроизвольный, неосознанный характер. Хотя эту особенность признают многие литературоведы19, в конце XX века поэтика реминисценций была переосмыслена под влиянием растущей популярности теории интертекста, что привело к смешению понятий и размыванию границ между понятиями реминисценции, цитаты, аллюзии.
Некоторые литературоведы склонны видеть выход из ситуации не в четком разграничении понятий и обозначаемых ими явлений, а в установлении между ними «родовых» отношений, объявляя цитату общим термином для обозначения трех видов отсылок: собственно цитаты, аллюзии и реминисценции . Этой точки зрения придерживается и В. Е. Хализев: «Наиболее распространенная форма реминисценции - цитата, точная или неточная; «закавыченная» или остающаяся неявной . Н.Н. Фатеева, автор нескольких монографий по теории интертекста, считает, что реминисценция и аллюзия могут переходить друг в друга, являясь разновидностями интертекста22. В статье молодого специалиста Д.С.Папкиной подведен неутешительный итог терминологических изысканий в этой области: «Граница между аллюзией и реминисценцией трудноустановима... Мы не проводим четкой границы между цитатой, аллюзией и реминисценцией, поскольку исследователи так и не пришли к единому мнению в разграничении данных явлений»23.
Хотя некоторые литературоведы предлагают объявить аллюзию и реминисценцию разновидностями цитаты, последняя слишком существенно отличается от других способов отсылки к текстам источникам. Ее своеобразие заключается в способе оформления: в отличие от реминисценции, аллюзии и других форм межтекстового взаимодействия, цитата обычно четко маркирована - указанием в тексте-реципиенте названия источника, кавычками или другим графическим способом. Кроме того, цитата, как правило, сохраняет предикацию, которая была установлена в тексте- источнике, тогда как в аллюзии элементы претекста могут быть изолированными друг от друга, рассредоточенными и не представляющими целостного высказывания, или же данными в неявном виде, соответственно, исходная предикация не сохранится, «Наиболее чистой формой прямой цитации можно считать цитаты с точной атрибуцией и тождественным воспроизведением образца»24. Если цитата не оформлена как таковая в тексте-реципиенте, но дословно воспроизводит фрагмент текста-источника, можно говорить о скрытой, или неявной (имплицитной) цитате. Все остальные случаи, которые определяются как неточные цитаты, и воспроизводят фрагменты текста-источника в произвольном порядке, следует рассматривать как варианты аллюзии.
«Рождественская ода» Милтона и ее источники
Стихотворение Джона Милтона «На утро Рождества Христова»41 (On the Morning of Christ s Nativity, 1629), по мнению критиков, завершает первый период в творчестве поэта, который можно назвать ученическим лишь условно; с самых ранних его произведений, написанных еще в отрочестве, своеобразие поэтической манеры Милтона проявилось во всей ее полноте, и в последующие годы эта манера лишь обогащалась и развивалась, как принято считать, не без влияния наиболее значимых поэтов предшествующего периода - Спенсера, Шекспира, Джонсона, Сильвестра, Джайлса-мл. и Финеаса Флетчеров.
Вопрос о литературном влиянии невозможно рассматривать без обращения к проблемам традиции и смежным проблемам заимствования, подражания, цитации и других форм взаимодействия текстов и их авторов. Традиция в литературе XVI- XVII века выступала в роли той питательной и плодотворной почвы, без которой невозможно было возникновение и существование литературных произведений, особенно поэтических. Поэт любого масштаба вряд ли мог представить свое творчество как вызов или отказ от традиции, воспринимая ее как необходимое условие существования поэзии в принципе. Собственно, новаторство в искусстве представляет собой в большинстве случаев не разрыв с традицией, а ее развитие, поэтому тесно с ней связано42. Оценить степень новаторства того или иного поэта невозможно без изучения роли традиции в формировании его творческой манеры, не проследив в его произведениях связи и параллели с другими текстами - современными или предшествующими - совокупность и взаимодействие которых и составляет, в конечном счете, литературную традицию.
Вышесказанное особенно актуально в отношении к творчеству Милтона, который считается подлинным новатором в области поэтического языка, образности, жанровых законов. Выявить степень и характер его поэтического новаторства можно, лишь используя в качестве фона английские и общеевропейские литературные традиции, а в качестве метода - текстологический анализ, который на примере связей милтоновских текстов с произведениями других поэтов позволяет выявить механизм взаимодействия его творчества с предшествующей традицией.
Стихотворение «На утро Рождества Христова» выбрано нами для анализа по двум причинам. В первую очередь, это не просто раннее произведение поэта, а одно из его первых стихотворений на английском языке. Во-вторых, жанровая природа стихотворения и выбранная Милтоном тема связывает этот текст с обширной традицией европейской религиозной поэзии, и, соответственно, предоставляет богатый материал для анализа, позволяя не ограничиваться в поиске источников только английской лирикой.
Тема Рождества Христова занимает в европейском изобразительном искусстве и литературе Средних веков и Возрождения одно из центральных мест. Но живописная традиция изображения Рождества более однородна, чем литературная, поскольку тесно связана с иконографией, каноны которой сложились уже в IX-XI веке. В отличие от изобразительного искусства, религиозная поэзия не позволяет нам говорить о четкой, оформившейся, жанрово однородной традиции «рождественской» лирики. Мотивы и образы, связанные с Рождеством Христовым, могли присутствовать в произведениях различных жанров; поиск источников милтоновской поэмы на этом фоне неизбежно превратился бы в каталогизацию евангельских мотивов в европейской духовной лирике. Тем не менее, Милтон, обращаясь к данной теме, не мог не осознавать, какой обширный корпус текстов и изображений окажется неизбежно вовлеченным в диалог с его поэмой: "Создавая это стихотворение, Милтон оказывается вовлеченным в широкий поток западноевропейских сочинений на эту тему... Его стихотворение соответствует европейской традиции, особенно по своему замыслу, возвышенному стилю, образной системе. Было бы безответственно игнорировать тот факт, что предшественники Милтона следовали за еще более ранними предшественниками ..." . Однако опора Милтона на традицию зачастую оказывается весьма избирательной: анализ потенциальных претекстов - западноевропейских лирических текстов, посвященных теме Рождества, - позволяет сделать выводы о сознательном отборе Милтоном наиболее значимых, ключевых произведений, отсылка к которым позволяет более полно раскрыть заложенные в его поэме идеи, нередко не вполне соответствующие традиционной трактовке сюжета,
Следует отметить, что в число рассматриваемых нами источников попадают также определенные произведения античных авторов, аллюзии на которые присутствуют в стихотворениях Милтона. Важнейшим источником такого рода отсылок является также текст Библии, с которым «Ода» взаимодействует двояким образом: напрямую, то есть через цитирование библейского текста, и через отсылки к стихотворениям, содержащим библейские аллюзии.
Источники поэмы-диптиха "L'Allegro" и "II Penseroso"
Датировка поэмы-диптиха «L Allegro» и «II Penseroso» не столь очевидна, как в случае с «Рождественской одой». Предположительно оба стихотворения были написаны в начале 30-х годов ("L Allegro" летом 1631 года, а "И Penseroso" через год), хотя рассматривается также дата 1629. В любом случае, поэма-диптих относится ко второму этапу творчества Милтона, совпавшему с окончанием Кембриджа и началом Гортонского периода, когда творческая манера Милтона становится более зрелой, а стиль обретает индивидуальность.
По сравнению с ранней лирикой Милтона стихотворения, написанные в начале тридцатых годов, носят более светский характер, и в большей степени связаны с традициями английского и европейского Ренессанса, в частности, с лирическими тенденциями, характерными для школ Спенсера и Джонсона. Показателен факт обращения Милтона к жанру, синтезирующему в себе черты различных ренессансных жанров и форм - пьесе-маске. Жанровая и образная связь с пьесами-масками, наметившаяся в ранних стихотворениях Милтона, в частности, в «Рождественской оде», играет важную роль в «L Allegro» и «II Penseroso», поскольку позволяет выявить в числе источников поэм-близнецов не только лирические, но и драматические произведения.
Обращение Милтона к разноплановым источникам при создании поэмы-диптиха делает жанр самих стихотворений менее однозначным - в обеих частях можно найти черты пасторальной поэмы, эмблемы, ноктюрна, при этом каждый из жанров обладает собственной традицией в английской и западноевропейской литературе, что позволяет рассматривать диптих в более широком контексте, представленном западноевропейской поэзией.
Две части поэмы, заглавия которых переводятся с итальянского как «веселый» и «задумчивый», написаны от лица двух лирических героев: Аллегро, избравшего своей покровительницей Радость, и Пенсерозо, посвятившего свою жизнь Меланхолии. Каждый из лирических героев, обладающий соответствующим характером и выбирающий времяпровождение по своему темпераменту, рассказывает об одном дне своей жизни.
В Аллегро и Пенсерозо, двух героях поэмы, можно увидеть контрастирующие стороны человеческой личности, две маски самого автора, или представителей двух типов темперамента. Ни одна из этих трактовок не является исчерпывающей, однако все они значительно расширяют спектр потенциальных источников поэмы, поскольку связывают ее с современной Милтону эссеистикой, медицинской и психологической мыслью, драматургией, а также западноевропейской традицией портретной живописи. С конца XV века в западноевропейской живописи получают большое распространение парные и двойные портреты .
Чаще всего на таких портретах изображали супругов или друзей, поэтому в них подчеркивалась идея гармонии и согласия, а не противопоставления, Контрастные портреты, портреты-диалоги, в которых два полярных характера, как две мелодии в музыке, находятся в контрапунктическом единстве, были более редкими, и, как правило, носили несколько обобщенный или аллегорический характер. Оценить степень знакомства Милтона с современной ему живописью довольно сложно, по крайней мере, в тексте поэм не содержится аллюзий на какие-либо знаменитые живописные полотна. Но если Милтону были известны какие-то примеры парных портретов, то он мог заимствовать из них идею контрастных портретных зарисовок, придав им нужную степень психологизма, или, напротив, аллегорической обобщенности.
Контрастные портреты нередко подчеркивали принадлежность изображенных на них лиц к различным типам темперамента. Примером могут служить картины и гравюры Альбрехта Дюрера, которые были широко известны в XVI веке и могли попасть в поле зрения Милтона, по крайней мере, это можно предполагать в отношении знаменитой дюреровской гравюры «Меланхолия» (Melancolia I, 1514), оказавшей огромное влияние на иконографию меланхолии в XVI-XVII веке. Не менее знаменитым был диптих Дюрера, изображавший библейских апостолов как представителей четырех типов темперамента (Иоанн сангвиник, Петр флегматик, Павел меланхолик и Марк холерик).
Траурная элегия «Люсидас»
Поэма «Люсидас», появившаяся в 1637-м году, представляет собой вершину раннего творчества Милтона и является, по мнению критиков, одной из самых совершенных элегий в английской литературе.
Поводом к созданию стихотворения стала трагическая гибель Эдварда Кинга, выпускника Кембриджского университета. Летом 1637 года Кинг отправился в Ирландию, но по пути в Честер корабль попал на рифы и затонул. Никому из пассажиров и экипажа спастись не удалось. Несколько месяцев спустя студентами и выпускниками Кембриджа был подготовлен сборник из тридцати шести траурных элегий, большей частью на латинском и греческом ("Justa Edouardo King Naufrago", 1638).
Столь быстрый отклик представителей университетских кругов вовсе не свидетельствует о том, что Эдвард Кинг занимал высокое общественное положение. О самом Кинге известно довольно мало, в основном, существующие сведения касаются тех лет, которые он провел в университете, где проявил себя как способный студент, отличающийся усердием в учебе и благочестием. В Крайст Колледж он поступил в 1626-м году в возрасте 14 лет, и в процессе обучения пользовался особым покровительством Карла I135.
Милтон был знаком с Кингом, поскольку они могли встречаться в университете, однако ничто в биографии Милтона и его упоминаниях об университетском периоде не предполагает дружбы с молодым священником. Тем не менее, именно ему Милтон посвятил свое самое выразительное и проникновенное стихотворение, значительно превосходящее по силе чувства его юношескую эпитафию родной племяннице, и даже латинскую элегию на смерть его горячо любимого и, в сущности, единственного друга Чарльза Диодати (Epitaphium Damonis, 1639). Вероятнее всего, в стихотворении, посвященному Кингу, Милтон не столько оплакивает гибель малознакомого юноши, сколько размышляет о трагической судьбе, часто выпадающей талантливым, одаренным свыше людям. Не случайно биографы подчеркивают определенное сходство жизненных обстоятельств молодого Милтона и Эдварда Кинга: оба успешно заканчивают Кембридж, всерьез задумываясь о духовной карьере (Кинг, в отличие от Милтона, реализует свое намерение стать англиканским священником), оба пишут стихи, хотя на этом поприще достижения Милтона уже несопоставимы с ученическими пробами пера Кинга. Как и молодой священник, Милтон собирался в ближайшее время совершить морское путешествие, поэтому неожиданная гибель Кинга не могла не навести его на размышления о возможной собственной смерти в самом расцвете сил, с невыполненными замыслами и творческими идеями. Милтона с самых ранних лет волнует идея осуществления своей миссии и служения Богу своим поэтическим даром. Он ощущает себя преемником Кинга, призванным заменить его на поприще, наиболее близком самому Милтону - поэтическом. Эта преемственность определяет и выбор жанра, поскольку большая часть траурных элегий, начиная с античности, посвящена умершим поэтам, и в них акцентируется идея наследования, продолжения поэтической миссии.
Пасторальная элегия, обладающая богатой историей и сформировавшимися традициями, как нельзя более точно соответствует замыслам Милтона. При создании «Люсидаса» он опирается не только на античную традицию стихотворений этого жанра, но и на западноевропейские (итальянские и английские) образцы элегии, а также обогащает текст библейскими мотивами. Его поэма становится синтезом нескольких жанровых и стилевых традиций, но главной, в конечном счете, оказывается христианская идея о спасении, воплощенная при помощи библейских образов и аллюзий. Анализ источников, на которые опирался Милтон при создании поэмы, помогает понять внутреннюю динамику текста и определить роль каждого из образных, жанровых и стилевых пластов внутри текста.
Следует отметить, что термин «пасторальная элегия» применительно к траурной античной лирике является неточным, потому что в классическую эпоху определение «элегический» относилось к поэтическому размеру , и не обязательно соотносилось с особым -траурным, грустным - настроением. Рассматривая тексты Феокрита и Вергилия, которые выступают основными античными источниками «Люсидаса», терминологически мы вообще имеем дело с идиллиями и эклогами, В эпоху Возрождения лирические тексты, выдержанные в пасторальном духе и посвященные смерти близкого человека или выдающегося общественного деятеля, могли называться также "a pastoral" "a monody", "an eclogue", "a lament" . Одним из первых термин «пасторальная элегия» использовал Эдмунд Спенсер в подзаголовке своего стихотворения на смерть Филиппа Сидни «Астрофил» (Astrophel. А Pastorall Elegie upon the Death of the Most Noble and Valorous Knight, Sir Philip Sidney, 1595) Этот текст оказался важным звеном в особой традиции «элегий на смерть поэта», после «Астрофила» и «Люсидаса» продолженной такими выдающимися поэтами, как Шелли, Теннисон и М. Арнолд. В свете этой традиции термин «пасторальная элегия» ретроспективно применяется также к стихотворениям античного периода и Ренессанса.