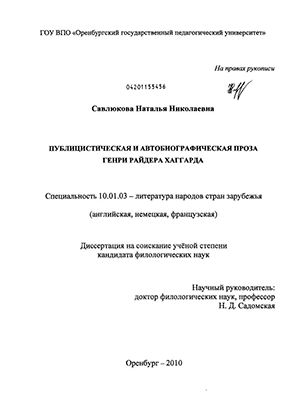Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Жанровый синкретизм публицистики Генри Райдера Хаггарда
1.1. Английская публицистика в литературном процессе викторианской эпохи
1.2. Традиции «наставлений мудрецов» в публицистике Г. Р. Хаггарда 22
Глава II. Путевая проза Г. Р. Хаггарда 63
1. Поэтика викторианской путевой прозы 63
2. Публицистичность путевой прозы Г. Р. Хаггарда
Глава III. Автобиографическая проза Генри Райдера Хаггарда: особенности проблематики и поэтики
1. Автобиография и дневник в системе жанров документальной литературы
2. «Дни моей жизни» и «Дневник Генри Райдера Хаггарда» в рамках тезаурусного подхода
Заключение 142
Библиографический список 1
- Традиции «наставлений мудрецов» в публицистике Г. Р. Хаггарда
- Поэтика викторианской путевой прозы
- Публицистичность путевой прозы Г. Р. Хаггарда
- «Дни моей жизни» и «Дневник Генри Райдера Хаггарда» в рамках тезаурусного подхода
Введение к работе
В российском литературоведении после возвращения интереса в 70-х – 80-х годах ХХ века к незаслуженно забытым произведениям английского писателя и публициста Генри Райдера Хаггарда (Henry Rider Haggard, 1856 – 1925) наблюдаются попытки определить его вклад в развитие английской литературы рубежа XIX – XX веков. Однако внимание исследователей главным образом обращено на произведения, вошедшие в классику жанров приключенческого и исторического романа. Проникнутая патриотическим пафосом публицистическая и автобиографическая проза Хаггарда, которую он ценил гораздо больше своей беллетристики, оказалась вне сферы внимания отечественных литературоведов. В зарубежном литературоведении отмечается рост интереса к небеллетристической прозе писателя, но исследователей больше интересуют философские взгляды Хаггарда и идейно-тематический анализ произведений, а не их поэтика.
Актуальность исследования обусловлена интересом современного литературоведения к гибридным жанрам и формам, к которым относится публицистическая и автобиографическая проза Г. Р. Хаггарда, появившаяся на рубеже XIX – XX веков – в период трансформации жанровой системы.
Научная новизна заключается в системном подходе к публицистической и автобиографической прозе Г. Р. Хаггарда с точки зрения проблемы жанровой идентификации, в определении доминирующих черт её поэтики и выявлении особой роли авторского сознания в формировании жанровой структуры небеллетристических произведений, не становившихся ранее предметом изучения в отечественном литературоведении.
Цель исследования – выявить своеобразие поэтики публицистической и автобиографической прозы Г. Р. Хаггарда в контексте викторианской non-fiction. Поставленная цель предопределяет необходимость решения следующих задач:
определить роль английской публицистики в литературном процессе викторианской эпохи, описать её жанровую систему;
проследить в публицистике Г. Р. Хаггарда влияние традиций «наставлений мудрецов»;
выделить основные черты поэтики викторианской путевой прозы;
обозначить поэтологические особенности путевых очерков Г. Р. Хаггарда;
охарактеризовать жанровое своеобразие автобиографии и дневника и их место в английской документальной литературе;
рассмотреть автобиографическую прозу Г. Р. Хаггарда с позиций тезаурусного подхода.
Объектом исследования выступает публицистическая и автобиографическая проза Г. Р. Хаггарда.
Предмет исследования: своеобразие публицистической и автобиографической прозы Г. Р. Хаггарда в контексте викторианской non-fiction и в свете особенностей тезауруса автора.
Материал исследования: тексты произведений Г. Р. Хаггарда «Военный танец зулусов» (1877), «Визит к Секукуэни» (1877), «Сетевайо и его белые соседи» (1882), «Год фермера» (1899), «Зимнее паломничество» (1901), «Потерявшиеся в вельде» (1902), «Сельская Англия» (1902), «Сельская Дания» (1911), «Дни моей жизни» (1926) и «Дневник сэра Генри Райдера Хаггарда» (1980).
Методология исследования определяется его комплексным характером, включающим три научных подхода, нашедших в последнее время широкое применение в гуманитарных науках: системный, историко-теоретический и тезаурусный.
Согласно системному подходу, основные положения которого изложены в монографиях В. Г. Зинченко, В. Г. Зусмана, З. И. Кирнозе, внутренняя организация произведений рассматривается как часть более общей системы – литературного процесса рубежа XIX – XX веков. Историко-теоретический подход, разрабатывавшийся в исследованиях Ю. Б. Виппера, Н. П. Михальской, Б. И. Пуришева позволяет изучать небеллетристическую прозу Г. Р. Хаггарда в контексте викторианской культуры. Содержание тезаурусного подхода, раскрытое в работах Вал. А. и Вл. А. Луковых, Н. В. Захарова, И. В. Вершинина, напротив, даёт возможность охарактеризовать субъективное восприятие автором этой культуры, выделить сложившиеся у него устойчивые культурные ориентиры, организующие структуру тезауруса. Сочетание указанных подходов позволяет провести многоаспектный анализ небеллетристической прозы Г. Р. Хаггарда и определить своеобразие его произведений; выявить влияние на них основных тенденций в развитии публицистики и автобиографической прозы викторианской эпохи и новаторские черты, обусловленные тезаурусом писателя.
Теоретико-методологической базой стали труды, посвящённые жизни и творчеству Г. Р. Хаггарда (Е. Д. Ибрагимова, Н. Д. Садомская, W. Burcey, S. Coan, M. Cohen, L. Chrisman, P. B. Ellis, A. Howkins, V. R. Katz, L. Stiebel, G. Teuli), Викторианской эпохе (А. Б. Давидсон, Н. А. Ерофеев, И. Д. Парфенов, E. Freedgood, J. Mackenzie, M. Moran, U. Pallua, R. Robinson), исследования в области документальной литературы (Л. Я. Гинзбург, Т. М. Колядич, Е. Г. Местергази, Я. И. Явчуковский), различных публицистических жанров (В. С. Барахов, В. М. Горохов, В. М. Гуминский, Н. М. Маслова, В. А. Михельсон, Е. П. Прохоров, М. С. Черепахов, C. Blanton, P. Fussel, J. Holloway, G. P. Landow, G. E. Mingay, L. H. Peterson), автобиографической прозы (Л. Я. Гаранин, О. Г. Егоров, Г. Г. Елизаветина, Л. Б. Караева, Т. М. Колядич, Н. А. Николина, В. Д. Оскоцкий, А. Г. Тартаковский, A. Cockshut, M. Hewitt, P. Lejeune), работы, в которых изложено основное содержание диалогической концепции (М. М. Бахтин, М. Н. Кожина, J. Bres, Р. Haillet), теории интертекстуальности (J. Kristeva, Н. А. Кузьмина, Н. А. Фатеева) и теории циклизации (М. Н. Дарвин, В. С. Киселёв, Ю. М. Лотман, Л. Е. Ляпина, В. И. Тюпа, J. Nigel). Особо следует отметить монографию Н. Д. Садомской, изучение которой позволило определить подходы для разработки проблем, заявленных в данной диссертации.
Теоретическая значимость диссертации состоит в определении особенностей проблематики и поэтики небеллетристических произведений Г. Р. Хаггарда, ранее не становившихся предметом изучения отечественных исследователей.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы для углубленного изучения не только творчества Г. Р. Хаггарда, но и викторианской публицистики, а также для разработки спецкурсов по английской литературе рубежа XIX – XX веков.
Основные положения, выносимые на защиту:
В викторианскую эпоху, отличавшуюся множеством перемен, происходивших во всех сферах жизни общества, стремительно развивалась аналитическая публицистика, которая, благодаря сочетанию публицистического, научного и беллетристического начал, не только выполняла функцию исследования и анализа событий и явлений, но и обладала художественной ценностью.
Г. Р. Хаггард расширяет традиционную тематику «прозы мудрецов», используя форму «наставлений» в обсуждении актуальных вопросов жизни британских колоний. Синтезируя основные поэтологические черты «наставлений» с элементами различных документальных, публицистических и беллетристических жанров, он создаёт циклы очерков, отличающиеся жанровым синкретизмом, многочисленными интертекстуальными связями и диалогичностью.
Своеобразие путевой прозы викторианской эпохи заключается в преобладании статусно-ориентированного повествования, влиянии на поэтику произведений приключенческой литературы и стереотипности образа Другого.
Обладая основными поэтологическими чертами, свойственными жанру путешествия в викторианскую эпоху, путевые очерки Г. Р. Хаггарда отличаются политизированностью и позитивным образом Другого, культура которого представляется ценной в силу её уникальности и самобытности.
Дневник и автобиография отличаются по форме, способу репрезентации окружающего мира, адресованности. Они выделяются в системе жанров документальной литературы предметом изображения и центральным положением образа «я» автора. Тенденция обращаться к социальной тематике и использовать в автобиографической прозе статусно-ориентированное повествование получила широкое распространение в викторианскую эпоху.
В автобиографии и дневнике Г. Р. Хаггарда отразились общие тенденции развития английской автобиографической прозы викторианского периода. Вместе с тем тезаурусный подход позволяет выявить своеобразие его автобиографических произведений, которое проявляется в сочетании в рамках одного произведения элементов разных жанров, особом внимании автора к доказательству фактов и включении его автобиографической прозы в гипертекст, объединяющий non-fiction писателя на идейно-тематическом и композиционном уровнях.
Апробация диссертационного исследования проходила в виде докладов на заседаниях кафедры мировой литературы Оренбургского государственного педагогического университета. Основные результаты работы отражены в докладах на международной научно-практической конференции «Русский язык как средство межкультурной коммуникации и консолидации современного общества». (Оренбург, 2007); ХХIХ преподавательской научно-практической конференции «Интеграция науки и образования как условие повышения качества подготовки специалистов». (Оренбург, 2008), международных научных конференциях «Литературный персонаж как форма воплощения авторских интенций» (Астрахань, 2009) и «Литература в диалоге культур – 8» (Ростов-на-Дону, 2010), XXII Пуришевских чтениях «История идей в жанровой истории» (Москва, 2010) и 7 публикациях.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, включающего 237 наименований, и приложения.
Традиции «наставлений мудрецов» в публицистике Г. Р. Хаггарда
Публицистические жанры достигают наибольшего могущества в эпохи крупных общественных потрясений [Бочаров, 1958: 76]. В Викторианскую эпоху - период энергичной экспансии, имперских амбиций и глубокой веры в великое будущее Великобритании - публицистика была средством осмысления проблем, с которыми английское общество сталкивалось на рубеже XIX — XX веков.
В российском литературоведении термин «публицистика» понимается предельно широко. «Публицистика» и «журналистика» часто использовались как синонимы в журналистской науке советского периода (Е. И. Журбина, Е. П. Прохоров). В. М. Горохов, Г. В. Лазутина, М. С. Черепахов, В. В. Учёнова предлагают разделять информационную журналистику и публицистику, признаками которой являются ярко выраженное авторское начало, концептуализм, масштабность выводов, истолкование общественных проблем. С. М. Виноградова определяет публицистику как «особый род литературы, посвященной общественно значимым проблемам и являющейся одной из самых высоких ступеней журналистского творчества» [Виноградова, 2000: 45].
Различные жанры публицистики объединяет предмет изображения — политическая, экономическая, нравственная, литературная жизнь общества — и специфичность цели - воздействие на общественное мнение.
Особое место занимает писательская публицистика, представляющая собой, по определению П. П. Каминского, «переходное явление, объединяющее публицистичность и художественность как способы мышления» [Каминский, 2007:97]. В ней сочетаются логико-понятийные формы и средства художественной выразительности.
Публицист использует различные методы, сочетая функции общественно-политического деятеля, исследователя и беллетриста, «максимально раскрываясь как конкретная биографическая личность» [Щелкунова, 2004: 138]. Оперативно откликаясь на злободневные темы своего времени, публицистика, тем не менее, не утрачивает актуальности и по прошествии поколений. Она не превращается исключительно в исторический источник, содержащий обширные фактические данные, излагающий позиции различных социальных групп, дающий зарисовки событий, характеров, быта, сведения о науке и культуре. Воспроизводя современную жизнь во всем её многообразии, публицистические произведения имеют не только историческую, но и художественную ценность [Boehmer, 1998: xlii].
В качестве родообразующей характеристики публицистики предлагается особый способ изображения действительности — публицистичность, под которой понимают позицию автора, обеспечивающую непосредственный контакт с аудиторией в выражении своих мыслей [Суровцев, 1986]. Из самой природы публицистики вытекает такое её свойство как диалогичность -«внутренняя форма публицистики, её глубинный смысл» [Ерёмина, 1987: 168], «родовая черта» [Стюфляева, 1982].
Основы теории диалогичности, заложенные М. М. Бахтиным, получили развитие как в отечественном, так и в зарубежном литературоведении (М. Н. Кожина, J. Bres, P. Haillet). Под диалогичностью письменной речи понимают «фундаментальное свойство письменных текстов, выражение в речи взаимодействия двух или нескольких позиций, многоголосия общения для достижения эффективности коммуникации в той или иной сфере» [Дускаева, 2004]. Это понятие связано с формированием особого типа адресата - не пассивного реципиента, которому представлена позиция автора, а «равноправного субъекта публицистического диалога» [Горохов, 2004: 137], следующего вместе с публицистом по всей цепи аргументов, рассуждений, выводов и сравнивающего авторскую точку зрения со своей собственной. Выражение диалогичности в тексте разнообразно по степени её эксплицированности. В одних случаях она затенена монологической манерой повествования, в других - представляет собой чистый диалог между упоминаемым лицом и автором, либо между автором и читателем [Кожина, 1986: 96].
Значительная доля «чужого» слова в публицистике (передача прямой речи героев, приведение комментируемых высказываний, выдержек из документов, перечисление оспариваемых аргументов "идейных" противников, рассказ о позиции общественных групп и т.д. [Горохов, 2004: 135] обусловливает её интертекстуальность — общее качество определённых текстов, подразумевающее такие диалогические отношения, при которых текст содержит конкретные и явные отсылки к предшествующим текстам. Данная трактовка интертекстуальности получила реализацию в исследованиях Н. А. Кузьминой, Н. А. Фатеевой, В. Е. Чернявской и др. Выделение интертекстуальных связей служит для более глубокого понимания сущности изучаемого текста, раскрытия его потенциальных подтекстовых смыслов [Лотман, 1998: 428].
Среди идейно-тематических разновидностей выделяют политическую, экономическую, морально-этическую, философскую, художественную публицистику. В процессе её эволюции сложились разные формы (событийно-информационная, аналитическая, сатирическая, полемическая, дискуссионная публицистика) и жанры (интервью, корреспонденция, комментарий, рецензия, передовая и проблемная статьи, воззвание, обозрение, путевые заметки, письмо, очерк, памфлет, фельетон и др.) [Прохоров, 1973: 214].
Вне зависимости от жанра произведения в non-fiction викторианского периода отмечается «постоянное стремление понять состояние современного общества» [Могап, 2006: 104]. Средствами осознания перемен, происходящих во всех сферах общественной жизни, выступали статистика, факты и их интерпретация [The Oxford, 2002: 404].
Поэтика викторианской путевой прозы
«Год фермера», как и другие публицистические произведения Хаггарда, отличается насыщенностью «чужими» текстами. В книгу включены финансовые документы, статистические данные, письма. Цитируя прессу, публицистические произведения («General Dictionary of Husbandry»; Henry Rew. «The Agricultural position of today», 1852), путевую литературу (Boswell. «Journal of a Tour to the Hebrides», 1771) научные труды {«замечательная книга о земляных червях» Чарльза Дарвина [Haggard, 1909: 91]. Хаггард вступает в диалог с их авторами, выражает своё отношение к прочитанному, даёт комментарии. Так, он рассуждает по поводу письма мистера Рида в газету «Тайме»: «Я знаю, что этого многоуважаемого джентльмена и знатока сельского хозяйства обвиняют в том, что у него слишком мрачное видение вещей, за это его даже прозвали «Иеремией». Однако если ещё более скромному пророку будет позволено высказать свои замечания, я должен признать, что согласен почти со всеми его сетованиями...» [Haggard, 1909: 445-446].
Поскольку «Год фермера» выходил сначала отдельными частями в прессе, Хаггард в процессе написания книги имел возможность держать обратную связь с читателями, включая в очерки пояснения по поводу их комментариев и замечаний. Он предупреждает читательскую реакцию, рассказывает поучительные истории, даёт советы, побуждая к активному восприятию цикла. Нередки случаи непосредственного обращения к аудитории: «Возможно, читатель помнит, что я писал о пожилой родственнице, присутствовавшей при посадке деревьев, растущих вокруг этого дома. Сегодня осенние листья падают на похоронные дроги, везущие её в последний путь» [Haggard, 1909: 372]. Хаггард даёт необходимые пояснения, подробно рассказывает читателям о концепции книги, выбранном им стиле, композиции произведения, его тематике. «Такие темы, как эти политические собрания, кажутся довольно тривиальными, но, по-моему, они представляют интерес и, возможно, те, кто прочтёт о них через одно - два столетия, когда всё совершенно изменится, будут придерживаться того же мнения. Как ценны, к счастью, дошедшие до нас обрывочные, неполные сведения о жизни и обычаях проишых поколений! Как старательно мы ищем в метрических книгах, судебных реестрах и других источниках что-то, представляющее человеческий интерес, позволяющее проникнуть в подлинную жизнь ушедших времён, но, увы! Бесконечные вереницы имён и дат мало что говорят» [Haggard, 1909: 177]. Диалог с читателем и многочисленные случаи «перехода» повествования к другим,субъектам речи свидетельствуют об условности дневниковой формы.
Помимо диалога с читателем в очерках цикла присутствует диалог автора с другими точками зрения. Например, он противопоставляет выводы из своих наблюдений и общепринятое мнение. «Хотя в среде людей, ничего не знающих об английском земледельце, модно считать его самым обычным дураком, он довёл возделывание земли до такого научного уровня, что ежедневно требуется его квалифицированный труд, без которого всё пропало бы» [Haggard, 1909: 129].
Документальный цикл отличается образностью, сближающей его с беллетристикой. Автор отбирает значимые детали и выстраивает их в определенной последовательности с мастерством художника-импрессиониста. Фиксируя мимолетные впечатления, отдельные черты, ситуации, мысли, он отражает саму жизнь во всем её разнообразии.
Хаггарду интересен духовный мир сельских жителей, он включает в свою книгу многочисленные пословицы, народные приметы, песню сборщиков урожая. Сценки из жизни, из судебной практики автора, описания праздников, выставок, технических новинок создают картину жизни сельской Англии конца XIX века. Учитывая, что многие занятия, привычные для людей, работающих на земле, не знакомы большей части читательской аудитории, Хаггард считает нужным давать пояснения. «Пахота, могу заверить читателя, — это одно из тех занятий, которые с виду кажутся намного легче, чем они есть на самом деле; как и создание приключенческих романов, по мнению непосвященных, является несложным искусством. Не обладающий должным опытом наблюдатель, глядя на человека с лошадьми, прогуливающегося туда-сюда по полю, готов прийти к мнению, что при наличии физической выносливости в его работе нет больших трудностей. Однако пусть он возьмёт пару лошадей и будет пахать, скажем, минут сорок, тогда он уйдёт с поля с возросшим уваэюением к мистеру Деревенщине» [Haggard, 1909: 106]. Писатель уважает всякий труд. Рассказывая о своих тщетных попытках дробить гранит, он приходит к выводу, что «должно быть, даже в дроблении камней есть скрытое искусство» [Haggard, 1909: 431].
В «Годе фермера» читатель встречается с целым рядом портретных зарисовок. Вот автор видит «любопытного деревенского персонажа по прозвищу Лохматый Джимми — причудливого вида колоритного старика с резкими чертами лица и развевающимися всклокоченными волосами серо-стального цвета» [Haggard, 1909: 182]. Он не только сохраняет простонародный говор Джимми, но и стремится описать непередаваемую местную интонацию. Поговорив о погоде, видах на урожай и обсудив политическую ситуацию, они расходятся, и автор погружается в размышления. «Это, подумал я, прекрасный пример контраста между старой и новой страной, счастливой судьбой тех, кто достаточно смел, чтобы порвать с прежней жизнью и искать счастья в Колониях. Отец, согнувшийся от тяжести прожитых лет, бедно одетый, наполовину слепой, дробит камни за несколько пенсов или целый день стоит в декабрьскую непогоду на углу загона, карауля фазанов, и сын, живущий в Южной Африке, где у него «полно земли, скота, чёрных работников и табака» [Haggard, 1909: 182-183]. Образ старого земледельца символизирует сельскую Англию, образ его сына - новое поколение, устремившееся на неосвоенные просторы колоний.
Публицистичность путевой прозы Г. Р. Хаггарда
Описание заброшенных туземцами строений, которые видит герой, пытаясь выбраться из вельда, способствует нагнетанию атмосферы страха, почти мистического ужаса, по сравнению с которым путешественнику, кажется, легче провести всю ночь под открытым небом: «Но этот вид подействовал мне на нервы, это место показалось мне жутким, полным привидений, свидетелем давней трагедии и кровопролития. Я бы скорее до рассвета бродил в буше, чем решился спать там» [Haggard, 1902 а: 187]. Рассказ о благополучном возвращении в лагерь сопровождается пояснением чудесного спасения, своего рода эпилогом, из которого читатель узнает, что в появлении туземца в необитаемой местности глубокой ночью не было ничего мистического. Он направлялся к колдуну, жившему в этих безлюдных местах. С юмором описана попытка незадачливого путешественника договориться с туземцем, не понимавшим по-английски.
Вторая похожая история, произошедшая с рассказчиком, также заканчивается ночью, когда его обнаруживает туземный слуга Мазуко, заметивший огонь последнего выстрела.
В духе приключенческого романа в «Потерявшихся в вельде» акцент делается на опасности путешествия. Неоднократно кажется, что путь уже найден, но затем он оказывается неверным, происходит почти чудесное спасение благодаря туземцам, наделённым необычайными способностями находить дорогу в кромешной тьме под проливным дождём и видеть огонь выстрела на значительном расстоянии. Поиск дороги, передача хода мысли, возникновения решения, описание эмоционального состояния, в котором преобладают переходы от надежды на спасение до обнаружения того факта, что выбранный путь оказывается неверным, постоянно держат читателя в напряжении.
Разные по тематике путевые очерки (быт туземцев и их взаимоотношения с колонизаторами в «Военном танце зулусов» и «Визите к Секукуэни» и приключения в «Потерявшихся в вельде») объединяют особенности поэтики.
Хаггард выступает типичным представителем колониального дискурса, в традициях которого было изображать Африку, как место, полное опасностей [Freedgood, 2000]. По всему тексту «Визита к Секукуэни» разбросаны упоминания о лихорадке: «Место было очень нездоровым из-за царившей там лихорадки», «самая страшная лихорадка», «поражённый лихорадкой дом», «эта красивая западня лихорадки» [Haggard, 1882: 126, 128, 130]. Эти повторы позволяют обратить внимание читателя на опасность, трудности предпринятого путешествия и придают интригу повествованию. Рассказы о блужданиях по вельду, ссылки на газетные публикации о погибших на африканских просторах формируют у читателя представление о смертельном риске, связанном с путешествиями по Чёрному континенту. Мотив опасности усиливается благодаря приёму моделирования событий, чаще всего трагических. Рассказывая о чудесном спасении заблудившегося посланца к вождю Лобенгуле, доставлявшего ценный документ с его подписью, Хаггард отмечает, что «вполне возможно, в свете этого события изменился бы весь ход истории Южной Африки, ведь, вероятно, Лобенгула мог бы отказаться ещё раз поставить свою подпись» [Haggard, 1902 а: 185]. Рассказывая о спасении своего начальника Теофила Шепстона, выбравшего правильную дорогу, несмотря на протесты сопровождающего его зулуса, автор также рисует в своём воображении ужасную картину. «Если бы они прошли ещё несколько шагов вперед, то оба сорвались бы с утеса и разбились вдребезги» [Haggard, 1902 а: 185]. Рассказывая о своём спасении в вельде, писатель упоминает о возможных трагических последствиях. «Так как я промок, замерз и очень хотел есть, моя судьба, несомненно, оказалась бы плачевной, если бы мне не посчастливилось его (зулу) встретить, ведь по соседству не было никаких краалей, где я мог бы укрыться, даже если бы я нашёл в себе силы на следующее утро отправиться на их поиски» [Haggard, 1902 а: 189-190].
В викторианскую эпоху авторы путешествий предоставляли читателю разнообразную информацию о регионе своего пребывания [Афанасьева, 2004: 128]. Поэтому у Хаггарда описания пейзажей сменяются пояснениями, показывающими его знатоком африканской флоры и фауны. Картины увиденного в пути сменяются «вставными» рассказами о том, с чем писатель не сталкивался во время этого путешествия, но знал из собственного опыта (примеры спасения заблудившихся людей в очерке «Потерявшиеся в вельде», описание охоты льва, сбора мёда из цветов местного растения в «Визите к Секукуэни»). Вопреки тенденции использовать в подобных случаях научные термины, строго следовать принципам научного описания, Хаггард строит свой рассказ как репрезентацию опыта человека, жившего в Африке, и повествующего обыденным языком о жизни в экзотической стране.
В путевых очерках, посвященных Чёрному континенту, Хаггард моделирует образ адресата. Обращаясь к британскому читателю, писатель ориентируется на его тезаурус. Диалог с читателем принимает различные формы: от обращений до толкования неизвестных жителям метрополии слов и реалий. Пояснения знакомят с особенностями быта колонистов и туземцев. «Тогда меня осенила блестящая идея. «Сомпсе», — сказал я, «Сомпсе». На читателя это слово не произведёт никакого впечатления, тем не менее оно было и, несомненно, остаётся известным каждому туземцу от Замбези до Мыса Агалэс как титул, которым народы банту в течение сорока лет величали сэра Теофила Шепстона, бывшего тогда секретарём Министерства по делам туземііев в Натале» [Haggard, 1902 а: 188].
«Дни моей жизни» и «Дневник Генри Райдера Хаггарда» в рамках тезаурусного подхода
Автобиография Генри Райдера Хаггарда «Дни моей жизни»43 охватывает 56 лет, начиная с самых ранних воспоминаний до 25.09.1912 года. В январе 1913 года была добавлена последняя глава «A Note on Religion». Следуя викторианской автобиографической традиции, автор предполагал посмертную публикацию произведения. Рукопись хранилась у известного английского издателя и друга автора Чарльза Лонгмана и была опубликована через год после смерти Хаггарда.
При доминировании нарративного повествования в автобиографической прозе Хаггарда широко используются элементы тезаурусной модели жизнеописания. Рассказ о своей жизни в событийной последовательности перемежается с выстраиванием картины жизни из совокупности образов, понятий, символов, идей, переживаний, чувств. Отражая события и тезаурусное 1 наполнение жизни, осмысливая их ретроспективно (автобиография), и в процессе происхождения (дневник), автор создаёт художественно-философский мир, воспроизводящий хрупкое, но живое равновесие мира реального.
Тезаурусная модель жизнеописания обуславливает ассоциативную организацию материала в ряде фрагментов, связанные с ней особенности хронотопа, наличие многочисленных авторских отступлений, вставных рассказов.
В связи с тем, что автобиографические произведения Хаггарда объединили в себе характерные черты его публицистики, путевых очерков и собственно жанровые признаки автобиографии, при рассмотрении на этом материале структуры тезауруса автора, его влияния на тематику произведений и их жанровую принадлежность представляется возможным экстраполировать выводы на всю небеллетристическую прозу писателя. В центре тезауруса автора находится «своё» - имперские и личностные ценности. В структуре
произведения «своё» проявляется, прежде всего, в авторских рассуждениях. «Чужим» для Хаггарда являются традиции, уклад жизни, общественное устройство других народов. «Чужое» вызывает интерес, понимание его ценности как раз в силу непохожести, уникальности, вследствие чего в произведениях писателя имеет место популяризация «чужого», представленного в них в виде описаний, комментариев, пояснений, оценочных высказываний. «Чуждое» представлено «антиценностями», противоречащими «своему» - например, корыстная политика, уничтожение культуры аборигенов, невнимание правительства к проблемам сельского хозяйства. По отношению к «чуждому», пересекающему границы тезауруса в виде критики, Хаггард занимает активную позицию, пытается бороться с ним, апеллирует к мнению общественности и призывает её действовать.
Тезаурус автора определяет как следование традициям викторианского автобиографического дискурса, так и своеобразие его творчества, проявляющееся в его особом отношении к документальным источникам, жанровом синкретизме произведений, демонстрации эволюции своих взглядов, использованию циклизации и создании гипертекста.
В «Днях моей жизни» Хаггард предстаёт как «человек, который любит добрых людей, любит детей, любит своих друзей (и не испытывает ненависти к врагам), любит цветы, землю и всех живых существ, которыми она населена, но, возможно, больше всего он любит свою страну; от всего сердца, от всей души, изо всех сил он старался ей служить в силу своих скромных способностей и возможностей» [Haggard, 1926].
На уровне паратекстуальности отношение текста к заглавию предопределяет его прочтение. Название «Дни моей жизни» в контексте викторианской культуры подразумевает не столько концентрацию внимания автора на собственной личности и её становлении, сколько на воссоздании атмосферы жизни современного ему периода. Собственная жизнь осознается викторианским джентльменом исключительно на фоне событий, переживаемых всем обществом. Этой особенностью объясняется преобладание статусно 113 ориентированного повествования. В автобиографии Хаггард выступает в качестве колониального чиновника, общественного деятеля, гражданина своей страны, проблемы которой не могут оставить его равнодушным. Объясняя читателю причины, побудившие его к описанию своей жизни — неотъемлемая часть практически всех викторианских автобиографий - он подчёркивает значимость опыта, приобретённого им в общественной и политической сферах. «На этих страницах я не намерен написать историю Южной Африки в те богатые событиями годы, когда я там находился, а скорее рассказать о личном опыте, способном, вероятно, пролить новый свет на отдельные исторические события» [Haggard, 1926].
Тем не менее, как и большинство его современников, Хаггард опасался, что уделил слишком много внимания своей частной жизни. Эта мысль звучит и в первых, и в последних строках произведения. «Боюсь, читатель сочтёт её (историю жизни) отчасти эгоистичной, но, к сожалению, этот недостаток присущ любой автобиографии, иначе она была бы более или менее бесполезной». «Боюсь, что эта книга отчасти эгоистична по содержанию и тону, но тут уже ничего не поделаешь» [Haggard, 1926].
Основными темами, на которых сосредоточено внимание автора, являются колониальная политика Великобритании в Южной Африке, сельское хозяйство, собственная общественная и политическая деятельность, литература, путешествия. Поражает количество увиденных Хаггардом стран (от Исландии до Южной Африки, от Египта до США) и диапазон его интересов. Анализ политики Великобритании и деятельности Армии Спасения чередуются с рассказами о поисках сокровищ в Мексике и исследовании египетских пирамид.
О тематическом разнообразии «Дней моей жизни» свидетельствуют названия глав. Хаггард использует как стандартизированный характер заглавий, в которых присутствуют понятия времени и/или пространства («Детство», «Юность», «Мексика», «Египет»), так и названия, отражающие политические события («Аннексия»), взгляды («Записки о религии»), названия, связанные с его служебной деятельностью («Специальная комиссия в Трансвааль»), творчеством («Сельская Англия», «Эрик Светлоокий» и «Нада-Лилия»), друзьями («А. Ланг», «Письма Рузвельта»).
Главным структурным принципом построения текста является интертекстуальность, представленная различными видами (пара-, мета- и архитекстуальность) и проявляющаяся на композиционном, смысловом и лексическом уровнях.
Воспоминания Хаггарда интересны не только с событийной точки зрения, но и благодаря психологическому осмыслению, интерпретациии и оценке событий, а также имитации самого процесса воспоминания на глазах читателя. По идейной направленности, открытости авторской позиции, стилевому своеобразию «Дни моей жизни» сближаются с публицистикой, по характеру материала, драматизму в изображении событий, передаче чувств и переживаний героев - с художественной литературой.