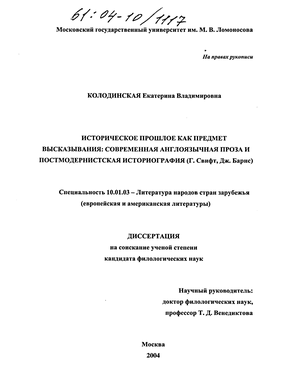Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Проблема восприятия и последующей реконструкции исторического прошлого в современном гуманитарном знании :.17
1. Специфика исторического прошлого: отсутствующее «другое». Проблема его интерпретации 17
2. Нарративная репрезентация как основной способ интерпретации прошлого. Проблема «факта» и «вымысла» в современной историографии 24
3. Научный и художественный исторический нарративы: проблема демаркации 28
4. Современный роман о прошлом и актуальная историософская проблематика 36
Глава 2. Проблема нарративной репрезентации прошлого в романе Г.Свифта «Водоземье» 52
1. Смысловые коннотации понятия «история» в романе Г.Свифта 52
2. «Story-telling» как основной композиционный принцип романа 59
3. «Иллюзия прогресса», «дар забвения» и «поиски объяснений» как варианты отношения к реальности и восприятия истории в романе 69
Глава 3. Вариативность прошлого и проблема исторического вымысла в романе Дж. Барнса «История мира в 10 VI главах» 80
1. История мира, ее начало и конец в романе 80
2. Стилистическая неоднородность и фрагментарность композиции романа. Сквозные образы и мотивы 100
3. Наука и искусство: «фабуляция» и творческий вымысел 115
4. «Тотализирующая» история против плюрализма «вариативности» прошлого 118
Заключение 124
Библиография 128
- Специфика исторического прошлого: отсутствующее «другое». Проблема его интерпретации
- Смысловые коннотации понятия «история» в романе Г.Свифта
- История мира, ее начало и конец в романе
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Начиная с 60-х годов прошлого века, гуманитарное знание развивались в условиях господства лингвистических моделей теоретической рефлексии. В результате «лингвистического поворота», все (человеческая культура, прошлая и настоящая, личность, сознательное и бессознательное и т.д.) стало мыслиться как текст, дискурс, нарратив, который строится на основе грамматики естественного языка с использованием общих для всех видов нарратива риторических фигур.
Кризис позитивистской модели исторического познания, хронологически совпавший с переосмыслением роли языковых моделей в построении гуманитарного знания, и интерес части исторического сообщества к постструктуралистским штудиям, вызвал общегуманитарную дискуссию о предмете, цели и методах современной исторической науки, которая в 80-90-х гг. XX века нашла свое отражение на страницах журналов History and Theory, American Historical Review, Speculum, Past and Present, The Monist.1
Реальность исторического прошлого, воспринимавшегося в качестве объекта изучения, а так же возможность его реконструкции при помощи исторических методов исследования до некоторых пор не вызывала сомнения. Однако во второй половине XX века проблема реальности стала едва ли не центральной темой европейской философии, а, может быть, и культуры в целом. Как выяснилось, граница между «реальным» миром и «возможными», «вымышленными», «виртуальными» мирами является абсолютно неопределенной в общем виде. В частности оказывается невозможным выявить, что именно реально существует, а что нет. В этом смысле наиболее показательной выглядит концепция Ж. Бодрийара1, где современный мир воспринимается как состоящий из моделей и «симулякров» (фантомов сознания), «не обладающих никакими референтами, не основанных ни на какой реальности, кроме их собственной, которая представляет собой мир самореферентных знаков. Симуляция, выдаваемая за присутствие, одновременно смешивает всякое различие реального и воображаемого».
Проблема постижения объективной реальности в современной философии становится тесно связанной с вопросом о соотношении этой реальности с миром знаков (языка, текста, символов и т.д.). Как отмечает В. Руднев, сами знаки (изображения), безусловно, являются реальностью в силу своей интерсубъективности. Но если речь идет об изображаемом этими знаками, то все намного сложнее. Его также можно рассматривать как реальность - вымышленную или действительную. Вопрос же о том, что является вымыслом, а что нет, можно перенести в субъективно-психологическую или социологическую (социально-психологическую) плоскости. Однако для науки Нового времени характерна установка на изучение только реальных объектов, вследствие чего становится понятной причина сдвига исследовательских интересов в сторону знаков (языков, символов, текстов, дискурсов и т.д.), которые заведомо являются реальными в отличие от описываемых в них объектов, степень реальности которых остается неопределенной.
Изменение проблемного поля исторических исследований с заменой традиционной объективистской модели мировидения на антиобъективистскую приводит к обособлению от традиционной исторической науки так называемой «новой интеллектуальной и культурной истории».1 Не признавая возможности постижения, объяснения и тождественного восприятия исторической реальности, «новые историки» заменяют ее текстом без определяющих значений и границ, существующим в виде бесконечной игры означающих. В основе большинства теоретических положений «новых историков» лежит возвращение к мысли о родовой общности художественной литературы и историографии как разновидностей письменного высказывания.
Значительная роль в возрождении и обновлении этого тезиса принадлежит нарратологии. Как отмечает в своей монографии И. Ильин, в 60-70-е гг. XX в. «...среди теоретиков постмодернизма в самых разных областях человеческого знания получила...широкое распространение концепция американского литературоведа Ф. Джеимисона о нарративе как особой эпистемологической форме, организующей специфические формы нашего эмпирического восприятия». Суть этой концепции состоит в том, что все воспринимаемое может быть освоено человеческим сознанием только посредством «повествовательной фикции, вымысла», иными словами мир доступен человеку лишь в виде историй, рассказов о нем. По утверждению Ф. Джеимисона, и «история недоступна нам.. .кроме как в форме текста.. .и наш подход к ней и самому Реальному по необходимости проходит через ее предварительную текстуализацию, ее нарративизацию...».3
Текстуализация реальности — один из важнейших моментов в постструктуралистских теориях (М. Фуко, Ж. Деррида). Согласно этой логике, реальность становится доступной и познается человеком исключительно через тексты. Ничего не существует вне текста, мир конструируется как текст, а, следовательно, поддается только литературно-художественному осмыслению. Данный взгляд ведет к стиранию границ между различными языками культуры — между философией и литературой, между историей и литературой и т. д.1
В сфере «интеллектуальной истории» сходная проблематика активно разрабатывалась в работах американского ученого X. Уайта, который рассматривает историю («исторические нарративы») как вербальный вымысел, «содержание которого столь же придумано, сколь и найдено, а формы имеют гораздо больше общего с литературой, нежели с наукой». Таким образом, историки добиваются «объяснительного эффекта», т.е. объясняют аудитории то, что «действительно происходило» в прошлом, в первую очередь посредством «построения сюжета». Под «построением сюжета» подразумевается «кодирование фактов, содержащихся в хронике, как элементов определенной сюжетной структуры, кодирование, осуществляемое тем же способом, что... и в литературных произведениях в целом». С точки зрения Х.Уайта, само понимание исторического нарратива зависит от его существования в виде той или иной литературной модели. Всего X. Уайт (вслед за Н. Фраем) выделяет четыре таких модели: Роман (Romance), Комедию, Трагедию и Сатиру. Свой метод критики исторических нарративов Х.Уайт определил как «метаисторию», основное назначение которой заключается в исследовании поэтики исторического текста, риторическом анализе исторического письма и создании теории историографического стиля.
Неопределенность границы между научным и художественным повествованием о прошлом связана также с повышенным интересом современной историографии к исследованию категории возможного в истории. Прошлое, до некоторых пор воспринимаемое в науке как область рационализации, т.е. как нечто поддающееся мысленной реконструкции на основе фактов и последующей интерпретации, в последнее время стало все чаще оцениваться историками как поле игры. В своей книге «История и время: В поисках утраченного» исследователи И.Савельева и А.Полетаев выделяют традиционные и экспериментальные «игры с прошлым»1, тем самым, обозначая признанный в науке подход к исследованию исторического прошлого, где история осмысляется как непрерывная преемственность развития общества от эпохи к эпохе, лишь как один из вариантов игрового подхода к прошлому в историографии. В последние десятилетия в исторических работах предпринимались различные попытки создания «экспериментальной» истории, когда прошлое становилось полем сознательной игры исследователей. В этом смысле особенно показательными выглядят опыты по созданию контрфактической или альтернативной истории. Основным назначением подобных экспериментов является изучение отвергнутых в прошлом вариантов и введение в научный оборот богатейших пластов возможного, но не произошедшего, фактов, не возведенных в ранг событий, и людей, упустивших свой шанс и оказавшихся за кулисами истории. Так расширяя горизонт своих познавательных интересов, историография одновременно выходит за грань научности и обращается к сфере фантазии, свободного вымысла, т. е. литературы.
Параллельно в художественной литературе последних лет появляется значительное количество прозаических произведений, посвященных исторической тематике. Это связано, во-первых, с кризисным состоянием современного («постмодерного») мировоззрения и попытками писателей оценить место человека в мире и истории, находящихся во власти хаоса и абсурда; во-вторых, со стремлением авторов вписать литературу конца XX века в переосмысленный историко-литературный контекст; в-третьих, с желанием обозначить свою позицию в гуманитарной дискуссии о формах и методах исторического познания и границах научного и художественного повествований о прошлом; и, наконец, с необходимостью выразить свое отношение к так называемой «популярной истории» (историческим и псевдоисторическим исследованиям, выступающим в качестве массового продукта, критерием качества которого является увлекательность и сенсационность излагаемого в нем материала).
Массовая литература активно использует исторические сюжеты как элемент развлекательности. Обращаясь к технике реалистического повествования и условностям исторического романа XIX века, создавая при этом примитивизированную одномерную иллюзию действительности, подобная литература закрепляет или формирует стереотипное восприятие, как исторического прошлого, так и его художественного осмысления в жанре романа. Причем в организации «исторического поля» и в формировании «исторического сознания» такая литература занимает не последнее место. В то же время, как доказывает А. Про, и история как общественная наука «существует в условиях двойного рынка. С одной стороны, это рынок академический, где научная компетентность подтверждается учеными трудами и признанием коллег... С другой - рынок широкой публики...Здесь ценится прежде всего то, что может обеспечить успех у несведущих в данных вопросах людей: масштабность и увлекательность темы, элегантная и обобщенная ее подача, не отягощенная справочным аппаратом. Иногда этот даже идеологический заряд произведения или способность автора или пресс-службы издательства обеспечить хвалебные отзывы на опубликованный материал. На этом рынке все решает мнение большинства, а ...вознаграждение выражается в форме известности, больших тиражей и авторских прав... Риск влияния на научное мнение массмедиа вполне реален, а это ведет к риску признания на профессиональном рынке заслуг, завоеванных на рынке широкой публики».1
Таким образом, для современной интеллектуальной элиты довольно остро встает вопрос об отношении к «популярной и официальной истории», основная функция которой заключается в управлении «коллективной памятью» и формировании социальных представлений о прошлом. Проблема стереотипизации представлений об историческом прошлом в массовом сознании является важной составляющей как научной, так и художественной рефлексии.
Кроме того, современные научные метафоры («история-текст», «история-нарратив»), а также идея вариативности, «недосягаемости» и, следовательно, вымышленности исторического прошлого зачастую являются объектом рассмотрения и интерпретации в произведениях современной художественной литературы.
Обоснование родства научного и художественного исторического дискурсов в результате обострило проблему демаркации, или различения, отдельных типов знания в данном случае таких, как наука и искусство. Как отмечают И. Савельева и А. Полетаев, в исследованиях последних лет иногда начала высказываться крайняя позиция, сводящаяся к тому, что поскольку формирование всех типов знания происходит в целом одинаковым образом, то различиями между ними можно пренебречь, определяя их все, например, как «верования». Данная позиция обладает определенной внутренней логикой, однако ограниченность этой логики достаточно очевидна. Как доказывают П.Бергер и Т. Лукман, демаркация знаний и соответствующая их экспертная специализация являются одним из важнейших условий развития знания и усовершенствования конструкции социальной реальности.2
Изложенное подчеркивает актуальность темы исследования и позволяет сформулировать научную задачу как осмысление оснований дифференциации нарративных дискурсов литературы и истории, и выявление специфики современного романного повествования о прошлом.
Степень разработанности темы. В современной научной литературе достаточно детально рассматривается проблема взаимоотношения между нарративом и реальностью (в том числе с исторической). Особенно важным в ее изучении является выявление специфически нарративных способов осмысления мира и определение текстуальности как особой формы существования человека, как присущего только ему модуса бытия. Значительную роль сыграло в этом литературоведение: с опорой на последние достижения лингвистики сфера художественной литературы стала восприниматься как область построения моделей и «экспериментального освоения мира». Среди наиболее известных работ данного направления можно назвать: «На границе дискурса» Б. Херрнстай-Смит, «Формы жизни: Характер и воображение в романе» М. Прайса, «Чтение ради сюжета: Цель и интенция нарратива» П.Брукса, «Политическое бессознательное: Нарратив как социально символический акт» Ф.Джеймисона и др.1.
Ту же проблематику, хотя в несколько ином аспекте, разрабатывает философ и теоретик литературы П. Рикер, который пытается доказать, что наше представление об историческом времени зависит от тех нарративных структур, которые мы проецируем на свой временной опыт. По мнению П. Рикера, все формы повествовательности (научная, художественная), по-разному выражающие и понимающие временной человеческий опыт, имеют глубокое родство, поскольку «мир, создаваемый в любом повествовательном произведении, - это всегда временной мир», а «время становится человеческим временем в той мере, в какой оно артикулируется нарративным способом, и, наоборот, повествование значимо в той мере, в какой очерчивает особенности временного опыта».2 Интерес к историческому прошлому как к категории повествовательного времени является важным аспектом его изучения в современной историографии, работы же подобного плана, посвященные современной художественной литературе, встречаются значительно реже.
Ученые X. Уайт («Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» и др.), Ф. Анкерсмит («История и тропология: Подъем и падение метафоры»4) утверждают мысль о том, что историки, рассказывая о прошлом, в известной степени заняты поиском сюжета, который смог бы упорядочить описываемые ими события в осмысленной связной последовательности. В их работах также доказывается тезис о близости и структурном единообразии историографии и художественной литературы. Сходным образом процесс создания истории характеризуют французские исследователи П. Вейн и Ж. Рансьер.1
В связи с этим представляются интересными исследования (в области историографии), посвященные характеристике современного «исторического поля» и проблеме выявления специфических черт научного исторического дискурса. Среди них особенно выделяется монография А. Про «Двенадцать уроков по истории», в которой представлен критический анализ основных этапов развития исторического метода и очень подробно изучаются современные подходы к его осмыслению. При этом автор пытается определить, что же позволяет воспринимать историю как самостоятельную научную дисциплину и область знания. Сходную проблематику рассматривают в своих работах отечественные ученые И.Савельева, А. Полетаев.2 К.Пихлайнен в статье «Мораль исторического повествования: Текстуальные различия факта и вымысла»3 достаточно последовательно дифференцирует научный и художественный исторические дискурсы, обозначая различающиеся в них функции автора в повествовании, экстратекстуальную направленность, познавательное значение и собственно характер построения и организации текста.
Что касается современной англоязычной художественной прозы, то представленные в ней произведения исторический тематики в научной литературе рассматриваются по-разному. Существует множество работ, посвященных творчеству отдельных авторов или какому-то конкретному роману, в которых опускается внелитературный контекст художественного историописания, а сфера исследовательских интересов сосредоточена либо на выявлении связи с традицией жанра исторического романа, либо на собственно концептуализации образа истории, созданного в произведении. Л Для нас больший интерес представляют исследования, включающие современные художественные практики в общегуманитарное дискуссионное поле, где прослеживаются тенденции междисциплинарного подхода к осмыслению современной («постмодернистской») культурной ситуации и ее своеобразия. В этой связи особого внимания заслуживают работы канадского литературоведа JI. Хатчен1, которая оценивает постмодернизм как сложное и противоречивое явление. Она рассматривает постмодернистский роман как сферу пересечения трех видов дискурса: художественного, историографического и теоретического — и как наиболее яркий пример проявления «противоречий постмодернизма». Исследовательница включает его в дискурсивное поле, обозначенное в ее работах как «историографический метароман». Здесь подразумеваются такие произведения художественной литературы, в которых сознательно акцентируется их вымышленность, «сконструированность», т.е. разрушается реалистическая иллюзия, а на передний план выводится образ автора и сам процесс письма, при этом зачастую пересматриваются привычные конвенции романного жанра. Однако саморефлексивное письмо не является в этом случае исключительной сферой интересов современных писателей. Согласно Л. Хатчен, «историографический метароман» представляет собой «теоретическое (само-)сознание истории и литературы как конструктов..., создающее почву для переосмысления и переработки ими форм и содержания прошлого». При данном подходе фактически отрицаются различия между текстом и реальностью, все оценивается как содержание текста, а постмодернистская литература становится частью более обширного дискурса. Л. Хатчен в своих работах рассматривает «историографический метароман» как жанровую разновидность, которая объединяет различных авторов и различные дискурсивные практики вокруг проблематизации исторического прошлого, что и является одной из основных характерных черт современного постмодернизма. Однако за пределами научных интересов Л. Хатчен остаются такие вопросы, как своеобразие художественной репрезентации прошлого в литературе последних десятилетий, причины и значение обращения многих современных писателей к исторической проблематике, многообразие форм и способов восприятия и нарративизации прошлого в постмодернистском романе.
Среди отечественных исследований следует отметить монографию Ю. Райнеке (Виноградовой) «Исторический роман постмодернизма (Австрия, Великобритания, Германия Россия)», в которой «историографический метароман» рассматривается в контексте современных дискуссий о постмодернизме. Научный интерес автора работы в основном сосредоточен на проблеме традиционного и новаторского в художественной практике писателей-постмодернистов, а также на генеалогии «историографического метаромана», который рассматривается в русле идеи преемственности как одна из жанровых разновидностей исторического романа. По мнению Ю. Райнеке, «к жанру исторического романа не применима категория упадка. Он не умер вместе с В. Скоттом...и не переродился в социальный роман. История жанра не прерывалась и ее можно проследить на протяжении двух веков...После романтизма жанр расщепился на две разновидности в зависимости от отношения к прошлому, видению истории: скептический исторический роман и реалистический».1 Как утверждает исследовательница, именно вторая разновидность исторического романа получила широкое распространение в эпоху постмодернизма, так как в наибольшей степени отвечала ее теоретическим установкам.
Целью диссертации является выявление места, роли (на смысловом «поле» обозначенной историко-гуманитарной дискуссии) и значения (для литературы последних десятилетий) художественного осмысления возможностей конструирования исторического прошлого в современном англоязычном романе.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
1) выявить и проанализировать общее проблемное поле современной историографии и литературы;
2) охарактеризовать своеобразие современного художественного исторического высказывания (по сравнению с историческим романом XIX - начала XX века, с одной стороны, и с экспериментально-постмодернистской историографией — с другой);
3) показать специфику художественного метаисторического высказывания (теоретизирующего процесс «написания истории») на примере конкретных произведений;
4) дать характеристику предложенной в исследуемых произведениях интерпретации прошлого как временной категории;
Материалом исследования является современная англоязычная художественная проза исторической тематики, проблемно содержательное и стилистическое своеобразие которой позволяет воспринимать ее как косвенно включенную в поле общегуманитарной дискуссии о формах и специфике исторического познания.
В качестве образцов детально мы исследуем два романа, а именно: «Водоземье» Г.Свифта (Swift G. Waterland, 1983) и «Историю мира в 10 Vi главах» Дж. Барнса (Barnes J. A History of the World in 10 Vi Chapters, 1989) - в них, с нашей точки зрения, проявляются два актуальных на сегодня подхода к восприятию исторического прошлого, а также к осмыслению исторического знания. Предметом анализа является также категория времени - в обоих романах оно становится объектом изощренной эстетической игры и таким образом участвует в репрезентации образа прошлого. Для подробного текстового анализа мы сознательно выбрали произведения одной национальной (английской) литературы, чтобы при сравнении восприятия и репрезентации исторического прошлого избежать коннотаций, связанных со своеобразием национального ощущения истории - данная проблема лежит за пределами наших научных интересов и может стать основой для отдельного исследования.
Структура и объем диссертации. Цель и задачи исследования предопределили структуру работы, которая состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка литературы.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы две работы общим объемом 2,5 п. л.
Специфика исторического прошлого: отсутствующее «другое». Проблема его интерпретации
Прошлое, как определяет его толковый словарь, это «прошедшее время, минувшие события».1 Уже в этой характеристике акцентируются его основные свойства: онтологичность и темпоральность. Далее в словарной статье объясняется смысл идиомы «уйти в прошлое», что значит «перестать существовать». Итак, исходя из этого, прошлое можно представить как уже не существующую, недоступную для непосредственного восприятия реальность, обладающую иной, по отношению к настоящему, временной отнесенностью. Не случайно в современной науке прошлое зачастую обозначают как «другую» темпоральную реальность.
Образ прошлого, представления о нем являются достоянием индивидуальной или коллективной памяти и формируются под воздействием личного опыта человека, с одной стороны, и научного (исторического) или ненаучного (обыденного, идеологического, сакрального, художественного) знания — с другой. Историческое же прошлое (в широком смысле) принято связывать с теми представлениями о нем, которые базируются на исторических сведениях, философских концепциях, научных или научно-популярных знаниях, идеологических доктринах и, наконец, на литературных образах - т.е. на всем том, что играет доминирующую роль в формировании исторического сознания человека Нового времени. Кроме того, историческое прошлое традиционно определяют как прошлое человечества.
Однако при кажущейся ясности понятия, его конкретизация раскрывает множество проблем, связанных с исследованием и репрезентацией исторического прошлого. Во-первых, это размытость границ между прошлым и настоящим, т.е. отсутствие четкого критерия для определения того, какая именно часть прошлого должна восприниматься как минувшее, прошедшее. С точки зрения темпоральности возникает практически неразрешимый парадокс. С одной стороны, настоящее - это то, что уже через мгновение станет прошлым и все, что связано с самоидентификацией, как отдельного человека, так и человечества в целом неизбежно заключено в прошлом. Но в тоже время существовать, а также воспринимать и оценивать это несоизмеримо большее по длительности прошлое мы можем только в мимолетном настоящем. В этом смысле только настоящее можно воспринимать как единственно реальное (данное нам в ощущениях) время и одновременно как некое средоточие времен, поэтому, по словам Августина Блаженного, «неправильно говорить о существовании трех времен — прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени - настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего - его непосредственное созерцание; настоящее будущего - его ожидание». Таким образом, в сфере хроноса прошлое и настоящее неразрывны, одно как бы заключено в другом, причем они не линейно «выстроены» друг за другом, а одновременно сосуществуют.
Отграничение исторической «реальности» от современной, по замечанию французского историка М. де Серто, «связано с репрезентацией различения. Производимая историком операция состоит ... в предположении о наличии дистанции, отделяющей нынешнюю ситуацию от прошлой», и тем самым в маркировке посредством дискурса значимых изменений, обусловливающих эту дистанцированность. Эта операция имеет двойной смысл. С одной стороны, она историзирует настоящее. Но, с другой стороны, образ прошлого сохраняет свою первичную функцию репрезентации утраченного...»} Тем самым определяется условная граница между прошлым и настоящим, т.е. историческое прошлое - это та часть прошлого человечества, в которой его социальная реальность представляла собой нечто иное, отличное от современности.
Следующая проблема, связанная с восприятием и репрезентацией прошлого - это его отсутствие. Достоверность события, установленная post factum, остается достоверностью уже несуществующего, она не идентична реальности, и потому любой исследователь прошлого всегда наблюдает отсутствующий объект. Отсюда - важная особенность исторического «расследования»: историк никогда не имеет дела с «объективными фактами», а всегда с их интерпретацией. При этом он не интерпретирует факты, а реинтерпретирует их интерпретацию, даже когда опирается только на источник и не использует научные работы своих предшественников, а поэтому его научные изыскания всегда связаны с областью вероятного, предположительного.
Смысловые коннотации понятия «история» в романе Г.Свифта
Проблематика романа Г. Свифта «Водоземье» (Swift G. Waterland. - L., 1983) обращена к сфере параллельных интересов современной историографии и литературоведения. Как правило, критики романа, разделяющие взгляды таких теоретиков истории, как X. Уайт и Ж.-Ф. Лиотар, фокусируют свое внимание на том, каким образом в романе происходит «возвращение читателя обратно в текст», и ставят акцент на всеохватывающей власти нарратива1. То, что традиционно подчеркивается рецензентами произведения Г. Свифта, это манера изложения, которая утверждает неизбежность нарратива и демонстрирует, что «любое знание и его поиск не может быть отделен от процесса рассказывания историй».2 При этом история воспринимается как рассказ, подчиняющийся скорее требованиям вымысла, нежели стремящийся к объективности.
В восприятии романа как попытки нарративного конструирования прошлого современные критики продолжают тенденцию, высказанную в работах Л. Хатчен и Э. Ли в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века. Причисляя «Водоземье» к текстам, обозначенным как "историографический метароман", Л. Хатчен тем самым определила его как включенный в широкое объединение исторических и художественных текстов. Как доказывает исследовательница, в таких произведениях нарративность становится всеобъемлющим качеством, а «процесс нарративизации приближается к тому, чтобы быть воспринятым как основная форма человеческого понимания».1 Следуя за Л. Хатчен в терминологии и анализе, Э. Ли также классифицирует роман как "историографический метароман", а центральную проблему произведения обозначает как поиск «пути, на котором история может обрести нарративную структуру».2 Дж. П. Лэндоу полагает, что повествование Крика организует прошлое в том смысле, что подчеркивает «нарративный статус истории». Дж. Шед отождествляет произведение Г.Свифта с официальной историей (в лиотаровском понимании4), т.е. воспринимает ее как тотализирующий метанарратив, нуждающийся в замене и деконструкции посредством «менее самонадеянных постисторических отступлений».5 По мнению П. Купер, слияние факта и вымысла, повествования и историографии - это то, что является смысловым ядром романа.6
Данные прочтения характеризуют нарративность как основное обозначение трактуемого в романе понятия история, но в то же время оставляют без внимания возникающие в произведении сопоставление истории как нарратива и истории как исследования, с одной стороны, и проблему отношения этой истории к реальности — с другой. В данной главе мы попытаемся охарактеризовать весь спектр восприятия понятия истории в романе; проследить, какими изобразительно-выразительными возможностями обладает подобное соприкосновение научного и художественного высказывания о прошлом; а также выявить, какие особенности рассматриваемого произведения противятся интерпретации его в качестве реалистического романа (хотя и такой взгляд на «Водоземье» встречается в критической литературе1).
Первый эпиграф обусловливает наше «вхождение» в роман и подготавливает его восприятие, обозначая основную проблемно-тематическую линию этого вымышленного урока-размышления об истории:
В романе данное понятие выступает во всех трех значениях. Главный герой романа учитель истории Том Крик (Tom Crick), от лица которого ведется повествование, одновременно пытается объяснить себе и ученикам события собственной судьбы, исследуя прошлое своей семьи и местности, где он родился, и рассказывает об этих событиях, облекая их в форму «историй», которые выходят из его уст то как сказки или байки, то как серьезные научные изыскания, а то как семейная сага или любовный детективный роман. Кроме того, в произведении мы встречаемся с все новыми и новыми попытками толкования и бесконечным обогащением семантики понятия «история». Здесь появляется история естественная (natural) и искусственная (artificial); история идей и история событий; история фактическая и вымышленная; история как окончательная версия и как бесконечный процесс ее интерпретации в процессе исследования; история как линейное и однонаправленное шествие по пути прогресса и как бессмысленное хаотичное движение и так далее. Попытки разобраться в сути рассматриваемого понятия обретают в тексте произведения различные формы: от прямых философских рассуждений персонажа до метафорических аллюзий и ассоциаций.
История мира, ее начало и конец в романе
Роман Дж. Барнса «История мира в 10 Уг главах» (A History of the World in 10 Chapters (1989)1) - не единственный в творчестве писателя, посвященный историко-философской проблематике. Достаточно вспомнить такие произведения, как «Попугай Флобера» (1984) и «Дикобраз» (1992). Уже в «Попугае Флобера», герой которого пытается создать собственную версию биографии французского писателя, целиком основанную не на фактах, а на предположениях, на том, чего не было, но что могло бы быть, Дж. Барнс в некоторой степени очерчивает свой взгляд на историю, историческое исследование и его возможности. Мир, по мнению автора, не может быть объяснен ни одной из версий, взятой отдельно. Для него не существует более или менее авторитетных вариантов такого объяснения, поскольку любая попытка установления в истории причинно-следственных связей (на которую неизбежно опирается каждое историческое повествование2) изначально не способна отразить хаотичной бессистемности мироустройства. А потому все они имеют абсолютно равные права в претензии на истинность. И это различие между самой жизнью и ее нарративным воплощением очень точно характеризует герой-повествователь «Попугая Флобера» Джеффри Брейтуэйт:
Как отмечает в своей рецензии С. Фрумкина, «История мира в 10 Уг главах» представляет собой своеобразное продолжение «Попугая Флобера». «В интервью, данном Александру Стюарту в октябре 1989 года («Los Angeles Times Book Review»), Барнс говорит, что после «Попугая Флобера» у него появилась идея написать «путеводитель по Библии» от лица того же рассказчика. Позже он от замысла отказался, но, тем не менее, многое из этого романа перешло в следующий. И главное здесь —
-переосмысление традиционного подхода к историческому повествованию, когда ключевой проблемой становится именно вопрос:
"Как мы осознаем прошлое?"».
Многие критики Дж. Барнса отмечают его «нескрываемый интерес к идеям»3 и, в частности, оценивают «Историю мира...» как роман «абстрактный и философский».4 Ф. Кермод, одобрительно отзываясь о произведении, характеризует его как «дискуссионное».5 С.Рушди рассматривает «Историю мира...» как «интеллектуальное исследование»: «...роман как примечание к истории, как новую версию уже установленного, как... тщательно выполненные заметки на полях того, что мы знаем о прошлом, вернее, думаем, что знаем. Этот художественный текст сродни научному».
Дж. Бакстон напрямую связывает роман Дж. Барнса с традицией «апокалиптической философии истории» (Ф. Ницше, В. Беньямина, Ф.Фукуямы), сопоставляя идейно-стилистические особенности «Истории мира...» Дж. Барнса с «Тезисами по философии истории» В. Беньямина. Более того, исследовательница предполагает, что теоретическая работа В.Беньямина отчасти «способствовала оформлению художественного проекта Барнса». И напротив, «образное осмысление исторических тем и событий, предложенное Барнсом, может способствовать лучшему пониманию зачастую загадочных афоризмов В. Беньямина».1 Возможно, подобное прямое сопоставление выглядит несколько схематичным, а стремление объяснить один текст через другой чревато опасностью упустить самобытность каждого из них, но в то же время данная попытка лишний раз подтверждает допустимость включения художественных текстов в общегуманитарные и частнодисциплинарные научные дискуссии. В данной главе мы попытаемся охарактеризовать своеобразие концептуализации истории в романе Дж. Барнса; прояснить, чем именно художественное «конструирование» прошлого, по мнению автора, отличается от научного; выяснить, как осмысляется проблема «исторического вымысла» в произведении и каким образом интерпретация современной историко-эпистемологической проблематики отразилась на стилистико-композиционных особенностях текста.
Итак, как же выглядит история мира в исследуемом романе? В первую очередь, как это следует из названия, оконченной, то есть заключенной в четкие хронологические рамки. Роман открывается описанием библейского Потопа, а завершается «исследованием» «современного» Рая (оксюморонное сочетание). Так что, строго говоря, последняя глава уже постисторична и связана, скорее, с идеей вечности, нежели какой-либо хронологии. Исходя из этого, история мира, предложенная Дж. Барнсом, на первый взгляд, вписывается в христианскую парадигму с ее идеей обратного хода истории к Страшному суду, спасению праведников, установлению Царствия Божьего на Земле и возвращению человечества в Эдемский сад. В данном контексте рефреном повторенное в промежуточных главах «Будущее лежит в прошлом» и лейтмотивы «катастрофа-спасение», «отделение чистых от нечистых», вроде бы, выглядят вполне уместными. Но даже на первый взгляд сложно перепутать барнсовский вариант человеческой истории с библейским. Как верно замечает Д. Затонский, «кажется, со времен французских энциклопедистов XVIII века да еще Лео Таксиля, который в 1897 году опубликовал свою «Забавную библию», Ветхий Завет не подвергался такому веселому и безоговорочному поношению... Впрочем, в отличие от Вольтера и Таксиля, Барнс антирелигиозной пропагандой не занимается... Он целиком и полностью занят историей нашего мира, оттого и начинает с события, повсеместно признанного его истоком. Что это миф — не суть важно. Ведь в глазах Барнса он, разумеется, только метафора, но позволяющая - и в этом суть - набросать образ фундаментального несовершенства сущего...»1