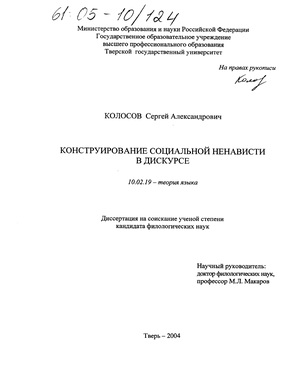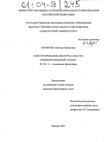Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Социально-философские и лингвистические проблемы нетерпимости
1.1. Научные подходы к изучению нетерпимости 13
1.1.1. Социобиологический подход 13
1.1.2. Социально-структурный подход 15
1.1.3. Социально-когнитивный подход 16
1.1.4. Дискурсивный подход 19
1.2. Язык как средство конструирования социальной реальности 26
1.3. Конфликт как основополагающий смысл дискурса ненависти... 31
1.4. Конструирование этнического конфликта 34
1.5. Концепт «идентичность» и его конструирование в дискурсе 36
1.6. Языковые формы выражения предубеждений 43
1.7. Вербальная агрессия 50
Выводы по Главе 1 55
Глава 2. Эмоциональный концепт «ненависть»
2.1. Концепт как объект изучения в лингвистике 58
2.2. Проблема изучения эмоций 70
2.3. Эмоции как объект изучения в лингвистике 79
2.4. Социальный аспект эмоций 81
2.5. Эмоциональный концепт «ненависть» 83
2.5.1. Подходы к изучению эмоциональных концептов 83
2.5.2. Структура эмоционального концепта «ненависть» 86
Выводы по Главе 2 96
Глава 3. Структурно-содержательный анализ дискурса ненависти
3.1. Содержательные признаки и смыслы дискурса ненависти 98
3.2. Манипулятивные стратегии в институциональном дискурсе ненависти 110
3.2.1. Стратегии презентации 112
3.2.2. Стратегии «легализации ненависти» 119
3.2.3. Пример комплексного анализа дискурса ненависти 122
3.3. Признаки дискурса ненависти 125
3.4. Моделирование дискурса ненависти 126
Выводы по Главе 3 130
Заключение 132
Литература 136
Приложение 155
- Социобиологический подход
- Концепт «идентичность» и его конструирование в дискурсе
- Структура эмоционального концепта «ненависть»
- Содержательные признаки и смыслы дискурса ненависти
Введение к работе
Тема настоящего диссертационного исследования связана, с одной стороны, с эмоциональной сферой человеческого бытия (ненависть), а с другой с миром социальньк отношений (социальная ненависть). Предполагается, что ненависть и социальная ненависть находятся в родовидовых отношениях. В отличие от просто ненависти, социальная ненависть направлена на объект (группу или индивида как представителя определённой группы), который выделяется, в первую очередь, по социально-релевантным признакам и характеристикам таким, как пол, национальность, раса, возраст, сексуальная ориентация и т.д. В социальных науках для обозначения подобного рода ненависти принят термин «нетерпимость», которому в английском языке соответствует термин «intolerance». В англоязычных научных работах, посвященных проблемам нетерпимости, наряду со словом «intolerance» часто используется слово «hate», то есть эти термины являются взаимозаменяемыми. В настоящем исследовании используется термин «социальная ненависть», по отношению к которому «нетерпимость» выступает в роли синонима.
Начиная с середины прошлого века человеческую мысль как никогда ранее стали волновать проблемы национальных, культурных и тендерных различий. На повестке дня всё чаще появляются вопросы расовых, этнических, межкультурных отношений и, как результат, сопряжённые с ними проблемы национальной и культурной идентичности, социальной агрессии, межнациональных конфликтов и нетерпимости [Bruner 1990; Spillers 1991; Wiegman 1995; Huntington 1993; Национализм, ксенофобия и нетерпимости в современной России 2002; Тишков 2000; Толерантность 1995; Толерантность в современной цивилизации 2001; Толерантность 2001; Толерантность 2002; Язык и этнический конфликт 2001]. Особую актуальность обозначенные проблемы приобретают в свете одновременного протекания и столкновения двух противоположных тенденций в современном мире. С одной стороны, набирает обороты процесс
глобализации, а идея мультикультурных обществ становится всё более популярной. В то же время наблюдается обратный процесс: государства-нации стремятся к сохранению территориальной целостности, экономической и политической независимости, культурных традиций.
На современном этапе развития общества стратификационный порядок системного мира уже не является доминирующим в развитии социальной структуры, как это было на первом и втором этапах развития модерна. Происходит усиление роли статусных порядков, определяемых «стилем жизни и принадлежностью к ценностно-фундированной статусной группе, которая формируется через соответствующие ценностные образцы, идентичность, верования, вкусы, мнение и потребление» [ Социологические теории модерна.... 1996: 23].
Основные проблемы, связанные с нетерпимостью, дискриминацией, социальными конфликтами и агрессией, изначально обсуждались и изучались в рамках исследований национализма и расизма. Анализ теоретических работ по данной тематике позволяет выделить следующие ключевые вопросы: 1) причины возникновения нетерпимости (ненависти); 2) роль элит и социальных институтов в конструировании конфликтов и создании установок на нетерпимое отношение; 3) язык как средство трансляции и воспроизводства этих установок.
Для лингвистической теории является важным установить отношения между восприятием некоторого фрагмента текста и воздействием, которое этот текст оказывает на коммуниканта. Несомненно, что один и тот же текст может вызвать совершенно разные чувства у различных реципиентов. Это зависит, в первую очередь, от того, насколько психологическая структура сознания реципиента-интерпретатора совпадает с психологическими особенностями и установками создателя текста. Другими немаловажными факторами являются возраст, класс, образование, профессия, пол, культура, прежние знания, личностные характеристики, текстовый опыт. Это значит, что слушающий/читающий изначально стремится приписать то, что он или
она слышит или читает, определённому фрейму, что первоначальный текст сканируется посредством определённых стратегий с тем, чтобы получить текстуальную базу (значение, план, предмет текста). С другой стороны, этот процесс зависит от социопсихологических параметров и реальной ситуации [Водак 1997: 50]. Следует подчеркнуть тот факт, что реципиент всегда интерпретирует воспринимаемый текст и, как следствие, выводит смысл из него, а понимание в значительной мере зависит от предшествующего знания, хранящегося в памяти в виде схем, скриптов и фреймов.
В англоязычном мире уже довольно прочно устоялся термин «hate speech», используемый для любых вербальных форм проявления нетерпимости и разжигания розни. 30 октября 1997 года Комитет Министров государств-участников Совета Европы по вопросам разжигания ненависти принял рекомендацию № R (97)20 по борьбе с разжиганием ненависти. В этом документе, призванном ограничить распространение ненависти, термин «hate speech» определяется как понятие «покрывающее все формы самовыражения, которые включают распространение, провоцирование, стимулирование или оправдание расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов ненависти на основе нетерпимости, включая нетерпимость в виде агрессивного национализма или этноцентризма, дискриминации и враждебности в отношении меньшинств, мигрантов и лиц с эмигрантскими корнями».
Нетрудно заметить, что вышеприведённое определение довольно пространно и может быть релевантным для огромного числа жанров текстов (дискурсов): от лозунгов, программ политических партий и текстов СМИ до шуток и анекдотов националистического толка. Определение оперирует концептами, являющимися ключевыми для политического дискурса (раса, антисемитизм, национализм, этнос, меньшинства), который непосредственно связан с идеологией [о множественности подходов к определению содержания и границ политического дискурса см. подробнее: Шейгал 2000].
В исследованиях социологов встречается термин «язык вражды» [Верховский 2002]. Однако авторы этого проекта (информационно-исследовательский центр «Панорама»), проводившие мониторинг российских СМИ, признают, что в большей степени наличие языка вражды в исследуемых текстах определялось чисто субъективно. Они исходили из того, было бы им самим неприятно прочитать подобное высказывание об этнической или религиозной группе, к которой они себя причисляют. Таким образом, субъективность в данном вопросе неизбежна. Особенно это проявляется в случаях, когда в тексте отсутствуют эксплицитные вербальные маркеры агрессивности, такие, как непосредственные призывы к насилию, дискриминации, обсцентные слова и др. Вообще стоит отметить, что в «чистом» виде тексты ненависти в институциональной коммуникации встречаются по большей части в Интернете на экстремистских сайтах, которых, в принципе, не так уж и много. В остальных случаях ненависть искусно вуалируется создателями текстов, чтобы их не могли обвинить в распространении ненависти.
Термин «язык вражды» вызывает некоторую критику ещё и в том плане, что слово «язык» невольно относит исследователя к изучению формальных, по большей части лексических средств. При этом когнитивные аспекты продуцирования и рецепции текста выпадают из поля зрения. В этой связи для изучения языковых форм реализации нетерпимости и их воздействия на реципиента нами вводится понятие «дискурс ненависти». Вслед за Ю. Н. Карауловым и В. В. Петровым, мы понимаем дискурс как «сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста ещё и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресанта), необходимые для понимания текста» [Караулов, Петров 1989: 8]. Ненависть при этом выступает, с одной стороны, как социализированное чувство, а с другой, как синоним таких понятий, как «нетерпимость», «предубеждение», «агрессия».
Объектом данного исследования является речевая коммуникация.
Предмет анализа составляют вербальные тексты с эмоционально-смысловой доминантой «ненависть», а также когнитивно-речевые механизмы формирования и реализации ненависти по отношению к различным социальным группам. Необходимо оговориться, что в работе не ставится цель давать какую-либо оценку дискриминируемым группам и предубеждениям против них.
Актуальность избранной темы обусловлена:
1) важностью обращения к проблеме распространения ненависти и
розни в современном обществе;
необходимостью выявления роли языка в формировании социальных отношений;
необходимостью исследования социально значимых эмоций с точки зрения их реализации и конструирования в языковой коммуникации;
интегративностью используемого подхода.
Целью диссертационного исследования является критический анализ дискурса ненависти, описание его структурно-содержательных элементов и свойств, выявление типичных «жанрообразующих» признаков.
Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие задачи:
рассмотреть существующие научные подходы к проблеме социальной ненависти (нетерпимости);
обозначить парадигму, в рамках которой возможно комплексно исследовать феномен социальной ненависти;
описать структуру эмоционального концепта «ненависть», выявить его ассоциативные связи и формы реализации в дискурсе;
определить соотношения и связи между понятиями ненависть, нетерпимость, агрессия, предубеждение;
выделить и проанализировать когнитивно-речевые стратегии, применяемые для конструирования ненависти в дискурсе;
выявить свойства и функции дискурса ненависти на персональном и институциональном уровнях;
построить модель дискурса ненависти.
Материалом исследования послужили дефиниции понятия «ненависть», представленные в толковых и специальных русскоязычных и англоязычных словарях (15 источников); данные анкетного опроса (100 информантов); дискурсивные формы выражения ненависти к определённой социальной группе (персональный дискурс; 404 текста); тексты электронных СМИ на русском и английском языках (30 текстов).
В соответствии с целью и задачами исследования в качестве основных методов анализа использовались критический дискурс-анализ, метод лингвистического наблюдения и описания, метод компонентно-дефиниционного анализа, метод контекстуально-интерпретационного анализа, контент-анализ, метод сопоставительного анализа, метод анкетного опроса.
Теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные изучению социально-когнитивных (О. В. Аронсон, С. В. Кардинская, О. Карпенко, К. Лоренц, В. С. Малахов, А. Г. Осипов, В. А. Тишков, G. Allport, J. Baldwin, D. Bar-Таї, M. Billig, В. Dunwoodie, S. Huntington) и лингвистических (A. Верховский, P. Водак, Дейк ван Т. А., Н. А. Купина, Т. В. Михайлова, М. Asante 1998) аспектов нетерпимости и социальной агрессии, работы представителей теории социального конструкционизма (Б. Андерсен, П. Бергер, К. Джерджен, Т. Лукман, А. Н. Онучин, V. Burr, W. Реагсе, J. Powers), исследования в области дискурс-анализа и критической лингвистики (И. В. Жуков, М. Л. Макаров, А. А. Романов, А. А. Филинский, Е. И. Шейгал, Beaugrande R. d е, Н. В rookes, В. D ellinger, D ijk van Т. А., N. F airclough, R. Huelsse, G. Kress, R. Langer, J. Torfing), лингвистической концептологии (A. П. Бабушкин, Л. Е. Вильмс, А. А. Залевская, В. И. Карасик, Н. А. Красавский, 3. Д. Попова, Т. Ю. Сазонова, Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин,
A. Damasio), лингвистической эмотиологии (В. П. Белянин, Е. Ю. Мягкова, Е. А. Репина, 3. Е. Фомина, В. И. Шаховский), психологические и социально-когнитивные теории эмоций (А. Вежбицкая, Б. И. Додонов, С. Л. Рубинштейн, P. Ekman, D. Margolis, Е. McCarthy, A. Ortony, D. Rougement, Т. Turner, R. Plutchik, R. Sousa de). Научная новизна работы заключается:
а) в разработке лингвистического аспекта проблем, являющихся
объектом внимания таких научных направлений, как психология,
социология, философия;
б) в описании структуры и лингвистически релевантных характеристик
эмоционального концепта «ненависть»;
в) в изучении эмоций как социальных феноменов и применении
принципов социального конструкционизма к их исследованию;
г) в определении дискурса ненависти, а также комплексном описании
его признаков и свойств;
д) в выявлении социально-значимых смыслов, программируемых в
дискурсе ненависти.
Теоретическая значимость выполненной работы состоит в развитии теории критического дискурс-анализа, описании когнитивных и речевых механизмов разжигания социальной ненависти и конструирования социальной реальности, описании стратегий манипуляции общественным сознанием. Полученные результаты способствуют лучшему пониманию языковых механизмов воздействия СМИ на социум.
Практическая ценность работы определяется возможностью применения ее результатов в разработке общих и специальных курсов по семантике и прагматике речевого общения, лингвистической эмотиологии, теории речевого воздействия, социолингвистике, для проведения лингвистической экспертизы текстов СМИ и других типов текстов институционального дискурса с целью установления фактов разжигания ненависти и пропаганды нетерпимости.
На защиту выносятся следующие положения.
Изучение эмоциональных концептов требует не только лингвистического анализа вербальных средств их концептуализации и реализации, но и социопсихологического интерпретирования.
В лингвистическом плане дискурс ненависти можно определить как процесс (вос)производства устных и письменных текстов с эмоционально-смысловой доминантой «ненависть». «Ненависть» как эмоция может проявляться в тексте эксплицитно (через посредство прямой номинации этой эмоции и использования соответствующих эмотивов), а также имплицитно — путём актуализации сопряжённых с ненавистью понятий и категорий, таких как отвращение, презрение, страх, внешняя угроза и т.д.
Дискурс ненависти можно рассматривать как одно из пространств коммуникативной деятельности человека, в котором происходит конструирование социальной реальности. Объект дискурса ненависти всегда социален. Следовательно, на дискурсивном уровне происходит не только «отображение», но и конструирование отношений между субъектами социального мира.
Основной функцией институционального дискурса ненависти является консолидация МЫ-группы, поддержание и укрепление её доминирующего положения и авторитета.
Основными свойствами дискурса ненависти являются агрессивность, иррациональность и манипулятивность.
Персональный дискурс, в первую очередь, характеризуется установкой на выражение ненависти и диффамацию объекта, в то время как в институциональном дискурсе главной коммуникативной задачей является оправдание ненависти.
Основные положения и результаты исследования были апробированы на аспирантских семинарах, заседаниях кафедры теории языка и межкультурной коммуникации ТГУ, студенческих научных конференциях на факультете Иностранных языков и международной коммуникации ТГУ,
Всероссийской научной конференции «Языки и картина мира» (Тула, 12-15 марта 2002), VIII Герменевтической конференции «Понимание и рефлексия в коммуникации, культуре и образовании» (Тверь, 11-13 октября 2002), IV международной научной конференции «Филология и культура» (Тамбов, 16-18 апреля 2003), региональной научной конференции «Единство системного и функционального анализа языковых единиц» (Белгород, 8-9 октября 2003), межвузовской научно-практической конференции «Проблемы охраны общественного порядка, общественной безопасности и пути их решения» (Тверь, 17-18 июня 2004). По теме диссертации опубликовано 9 работ в форме статей и тезисов к научным конференциям общим объёмом 3,3 п.л.
Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы, приложения.
В первой главе проводится обзор и критический анализ существующих социально-философских и лингвистических подходов к изучению нетерпимости, агрессии, а также конструирования социальной реальности.
Во второй главе обсуждается проблема эмоций как социального феномена и рассматривается структура эмоционального концепта «ненависть».
В третьей главе осуществляется анализ речевых и манипулятивных стратегий в институциональных текстах ненависти.
В заключении подводятся итоги проведённого исследования и намечаются перспективы его дальнейшего развития. Список литературы насчитывает 189 источников.
В приложении приводится список статей, используемых в качестве материала исследования.
Социобиологический подход
С точки зрения социобиологического подхода, нетерпимость биологически предопределена, так как является врождённым свойством человеческой психики. Сторонники этой теории утверждают, что ненависть к чужакам генетически запрограммирована в людях. Следовательно, не имеет смысла обсуждать вопрос об искоренении нетерпимости как абсолютно негативной и разрушительной силы, оказывающей пагубное влияние на человеческие отношения. Тем не менее, помимо биологического фактора огромное влияние на поведение оказывают социальное окружение и процесс социализации. Ведь то, как ведёт себя индивид, во многом обусловлено культурой (социальные нормы и ритуалы), в которой он воспитан. Поэтому всё, что противоречит или отличается от норм, ценностей и представлений индивида может восприниматься им как чуждое и враждебное.
Таким образом, в рамках данной теории выделяются два фактора, стимулирующие формы поведения, связанные с нетерпимостью и агрессией: 1) страх чужака (врождённое свойство) и 2) потребность в самоидентификации (фактор социализации). Основной проблемой при этом остаётся необходимость осознания социально и культурно-значимых различий не как повода для конфликта, а как объективно данных условий, которые не могут и не должны препятствовать мирному сосуществованию. Способность создавать различия может помочь людям (как и всем организмам) отличить «жертву» от «равного» и «хищника». Такая категоризация с сопутствующим ей преувеличением «угрозы» или «возможности» облегчит выбор соответствующей реакции - драться, бежать или бояться. Все эти реакции усиливаются симпатической нервной системой, которая связана с психологическим механизмом мотива власти. «Эти два механизма могут обеспечить наше выживание и процветание как вида; но в наше время они связаны с технологией.... и поэтому приводят к появлению различий, распространению угрозы и стремлению к власти [Уинтер 2002:13]. Один из авторов эволюционной теории агрессии К. Лоренц замечает по этому поводу: «Но мы должны употреблять всю силу своего ответственного разума, чтобы не поддаваться нашей естественной склонности относиться к социальным нормам и ритуалам других культур как к неполноценным. Тёмная сторона псевдообразования состоит в том, что оно подвергает нас опасности не считать людьми представителей других псевдовидов. Очевидно, именно это происходит у многих первобытных племён, в языках которых название собственного племени синонимично слову «человек» [Лоренц 2002: 143]. Автор подчёркивает важность терпимости, или, как сейчас модно говорить, толерантности, по отношению к другим культурам. Однако не стоит воспринимать толерантность как панацею от всех бед. По мнению А. Перцева, «толерантность - это переходное состояние от конфликта, выливающегося в насилие, к взаимопониманию и сотрудничеству» [Перцев 2001: 53]. С этой точки зрения, толерантность лишь помогает избежать насилия и является промежуточным этапом в разрешении конфликта. Ведь отсутствие открытого противостояния вовсе не означает то, что конфликт исчерпан. Конфликт будет существовать до тех пор, пока существует образ Другого как потенциального врага. Следовательно, толерантность лишь переход к той стадии разрешения конфликта, в которой происходит трансформация образа Другого в образ привычный, хорошо знакомый и воспринимающийся как нечто само собой разумеющееся. А это возможно при переходе к устойчивому сотрудничеству [Op. cit.: 54].
В теориях социально-структурного подхода акцент делается на отношениях власти между социальными группами. Предпринимаются попытки рассмотреть и объяснить различные виды нетерпимости (расизм, сексизм, эйджизм и т.д.). Представители данного подхода утверждают, что в основе нетерпимости лежит, прежде всего, столкновение интересов и борьба групп за право обладания и контроля определёнными ресурсами. Основной конфликт разворачивается в сфере политики и экономики. Однако причины нетерпимости усматриваются исследователями также в общественной и индивидуальной психологии. В этой связи стоит упомянуть теорию морального исключения (moral exclusion) [Bar-Таї 1990; Dunwoodie 1997; Opotow 1990]. В соответствии с этой теорией, каждая группа (народ, раса, класс, гетеросексуалы) обладает определённым набором ценностей, правил и принципов, воспринимающихся членами этой группы как абсолютно справедливые и правильные. Следовательно, моральное исключение происходит в случае, когда те, кто находится за пределами группы, воспринимаются и оцениваются с позиций ценностей и принципов, действующих в данной группе. Нет ничего удивительного в том, что представители других групп оказываются «дикарями», «врагами», «ненормальными», «отсталыми», «извращенцами» и т.д. В этом отношении большую роль играет язык [Baral 1990]. При этом смысл такого исключения не в том, как может показаться на первый взгляд, чтобы намеренно дискриминировать кого-то, а в том, чтобы сплотить свою группу, сделать её более замкнутой, а, значит, более жизнеспособной, сильной и управляемой: «Чтобы соплеменники не разбежались и не разбрелись, следовало приучить их ненавидеть одно и то же. Ненависть сплачивает общество гораздо крепче любви, кого бы ни принимались ненавидеть: евреев, буржуев или коррупционеров» [Волков 2001: 20]. Недостатком данного подхода является то, что группы рассматриваются как коллективные личности, обладающие конкретной психологией, в то время как индивидуальные отношения и различия максимально редуцируются.
Концепт «идентичность» и его конструирование в дискурсе
Связь между категорией этничности и другими аспектами социальной жизни может показаться «очевидной» и естественной в силу того, что сама категория «этническая идентичность» и конституирующие её признаки (фенотипические, географические, культурные) воспринимаются как абсолютно естественные и самодостаточные для актуализации различий и приписывания им социально-значимых смыслов.
Понятие этничность - субпонятие по отношению к понятию «идентичность». Потребность в идентичности, в том числе и этнической, относится к базовым потребностям социализированной личности [Дилигенский 1996; Малахов 20016; Хотинец 2002; Уинтер 2002]. За общечеловеческой тенденцией классифицировать людей может стоять некая эволюционная основа, которая определяет, как действительно проведены категориальные границы, их проницаемость и возможность их изменять. Между отдельными обществами и людьми существуют большие различия. «Различия» могут основываться на языке, религии, цвете кожи, тендере или сексуальной ориентации. Однако весь вопрос в том, какая роль отводится и какое значение придаётся этим различиям в социальном взаимодействии. Очень часто сходство возникает из высокоабстрактного чувства общей истории (или даже литературы), присущего «воображаемой общности» [Андерсон 2001; Hall 1989]. Определяя нацию как воображённое политическое сообщество, Андерсон приводит следующий аргумент в пользу высказанного тезиса: «...члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живёт образ их общности» [Андерсон 2001: 31]. Отчётливость отдельных границ в разных контекстах может меняться: люди, которые, возможно не имели контактов в «привычных» социальных условиях (в своей стране), могут взаимодействовать как близкие друзья в далёкой стране. «Иногда, несмотря на все потенциальные различия, гетерогенное население с течением времени становится в некотором смысле хорошо сплочённым (например, 13 британских колоний в Америке, еврейское население Израиля, бразильцы). И наоборот, население, возникающее как однородное, может, тем не менее, видеть внутри себя значительные различия» [Уинтер 2002: 11].
Идентичность не следует понимать как что-то априорно данное, ибо по сути это не свойство, а отношение [Barth 1969]. Следовательно, идентичность - результат принципиально открытого процесса идентификаций, которые сопутствуют индивиду на протяжении всей жизни в процессах социализации и адаптации. В. Малахов замечает, что признаки, становящиеся при тех или иных обстоятельствах решающими для взаимной дифференциации индивидов, далеко не являются «естественными», даже те из них, которые таковыми кажутся. Они могут быть иррелевантными для социальной коммуникации [Малахов 20016: 118]. Действительно, когда мы покупаем что-нибудь на рынке у лиц, этническая принадлежность которых отлична от нашей, данный факт никак не мешает процессу покупки, так как на первый план выходят ролевые отношения «покупатель-продавец». В то же время формальные различия (например, вероисповедание) могут становиться маркером, разделяющим город, страну на конфликтующие стороны. «Особенности фенотипа, равно как и прочие черты, «объективно» отличающие одних индивидов от других (вероисповедание, происхождение бытовые привычки), имеют значимость только в социально обусловленном контексте и вне такого контекста остаются исчезающе малые величины» [Ор. cit: 119].
Поскольку идентичность есть рефлексивная категория, «обладать» ею могут только индивиды; группам же идентичность может быть «приписана». Говорить о «коллективной идентичности» можно лишь в той мере, в какой определённые индивиды разделяют друг с другом одну и ту же идентичность (и в этом смысле принадлежат одному и тому же коллективу). Идентичность есть продукт социального взаимодействия. Она возникает как результат проекции индивидами на себя ожиданий и норм других: «Я не знаю о том, что я «белый», пока не узнаю о существовании «чёрных», равно как и о том, что я европеец, до тех пор, пока не узнаю о существовании азиатов, африканцев и американцев» [Малахов 20016: 116].
Членом этнической группы - и тем самым - носителем определённой идентичности - индивидов делает не происхождение (биологическое или культурно-историческое), а та роль, которую эти индивиды играют в социальном взаимодействии. Членом «нашей» группы или, напротив, чужим индивид опять-таки не является от рождения - его чуждость или близость зависит от того места, которое он занимает в структуре общественных отношений. Применительно к ситуации в США, М. Асанте замечает, что какой-нибудь чернокожий человек по цвету кожу может приближаться скорее к представителям европеоидной нежели генетически исконной негроидной расы и, несмотря на это, подвергаться дискриминации в американском обществе. С другой стороны, выходцы из других регионов, исторически никак не связанные с системой рабства в США, могут иметь цвет кожи темнее, чем у многих афроамериканцев, но при этом не являются объектом аналогичного дискриминирующего обращения. Таким образом, проблема кроется не столько в цвете кожи, сколько в исторических отношениях, в основе которых лежат смыслы и значения, приписываемые расовым признакам и категориям [Asante 1998: 89].
Наиболее типичная форма производства этничности - этническое разделение труда. Классический случай здесь представляет собой история колонизации. В ходе последней происходит фиксация социальной иерархии в расовых или этнических терминах. За одной частью населения (выходцами из метрополии) закрепляются властные функции и привилегированные позиции, за другой (аборигенами) - находящиеся на низших ступенях социальной иерархии виды деятельности. Эта иерархия воспроизводится на протяжении жизни многих поколений, что не может не наложить отпечаток на психологию и поведенческие навыки каждой из двух групп.
В символическом производстве этничности можно выделить два уровня - дискурсивный и недискурсивный (телесный). На недискурсивном, телесном уровне выделяются визуальные, аудиальные и тактильные образы, с помощью которых конструируется (производится) та или иная этническая идентичность. Функцию символа, вокруг которого осуществляется этническая мобилизация, могут выполнять самые разные знаки - например, письмо (как шрифт), территория, одежда, имя.
Дискурсивный уровень предполагает конструирование этноса в тексте. Эта идея восходит к структуралистским концепциям, предложенным К. Леви-Стросом [Леви-Строс 1985], Р. Бартом [Барт 1994], М. Фуко [Фуко 1996], Ю. Лотманом [Лотман 1992]. Поскольку текст оказывается структурой взаимодействия «я/другой», этническое пространство следует рассматривать как сферу самообъективации индивида, а индивида - как субъекта, самоконструирующегося в объективном пространстве этнического текста. [Кардинская 2002: 80]. С этой позиции этнос понимается как специфическая (текстовая) форма взаимодействия индивидов. Следовательно, тексты, образующие этническое пространство, содержат коды, отвечающие за способы и принципы объективации индивидуального мышления в этнических формах.
Структура эмоционального концепта «ненависть»
Нетрудно заметить, что только лишь в одном случае (а) речь идёт о межличностных отношениях. Люди испытывают ненависть по отношению к кому-либо в результате того, что объект ненависти причинил им зло или же вступает в конфронтацию с их убеждениями, взглядами, установками. Иногда человеку кажется, что он не может найти рациональное объяснение этому чувству. В этом отношении ненависть можно сравнить с инстинктом.
В остальных случаях (б, в и г) на передний план выходят социальные отношения, ибо сталкиваются не личности, но системы ценностей, разные идентичности. Объектом ненависти обязательно является Чужой, и его чуждость социально обусловлена (принадлежность другому полу, другой расе, этнической группе, различия в социальном статусе, другое вероисповедание и т. д.). Гипотетически можно предложить ещё вариант «группа ненавидит группу». Однако с «расширением» объекта (или субъекта) прямо пропорционально уменьшается связь с миром реальных отношений, которые переносятся в сферу абстрактных, сконструированных понятий, которые определяют существование и функционирование человека в социальном мире. Именно здесь ненависть перестаёт быть индивидуальным чувством, эмоцией-переживанием, и становится социализированным чувством, возникающим из осознания Другого как врага.
При обращении к варианту «б» в нашей классификации логично предположить, что человек ненавидит своего соседа-еврея не потому, что тот очень плохой человек, а потому что человек не любит евреев вообще. Следовательно он смотрит на свои взаимоотношения с соседом через призму этнических отношений. И здесь мы имеем дело с предубеждениями. Под предубеждением понимают «ложное понимание реальных причинно-следственных связей, явлений в жизни, быту, трудовой и иной деятельности. Среди национальных предубеждений наиболее живучими являются религиозные, расовые и бытовые предрассудки. Общее для них - это то, что эти предрассудки выведены не из практики, а из неправильных представлений» [Джунусов 2002]. Человек заранее ассоциирует имеющийся у него негативный образ еврейской нации с её отдельным представителем. С другой стороны, возможно, ненависть между ними возникла на основе личных взаимоотношений. В таком случае в поисках «разумного» объяснения ненависти происходит приписывание негативных индивидуальных характеристик и качеств соседа всей нации, то есть налицо обобщение, ведущее к стереотипизации. И в том и в другом случае этноним превращается в ярлык. Возникает законный вопрос: а что первично -ненависть к индивиду как представителю группы или к группе? На наш взгляд, нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос. Отношения на межличностном уровне несомненно оказывают огромное влияние на социальные представления людей. В то же время существующие и постоянно навязываемые извне представления, мнения и установки не могут, в свою очередь, не влиять на межличностные отношения людей. Эти две силы постоянно взаимодействуют друг с другом, и то, какая из них оказывает решающее воздействие, зависит в каждом случае от ряда факторов, таких, как, например, особенности индивидуальной психологии индивида, образование, социальная среда обитания, общественное мнение, власть государственных институтов и многие другие.
Таким образом, можно говорить об индивидуальной и коллективной ненависти. Наличие субъекта и объекта предполагает определённый набор взглядов, ценностных ориентации и установок у каждой из сторон. Согласно дефинициям в [5, 6, 8, 9], чувство ненависти возникает из непримиримого столкновения убеждений и интересов субъектов взаимодействия, которое в конечном счёте может вылиться в перманентное противостояние с возможным причинением вреда другому. В этой связи интересно рассмотреть феномен коллективной ненависти. С одной стороны, она явно носит атональный характер, но, с другой, - способствует консолидации группы (хотя бы на некоторое время) ради защиты и укрепления общих интересов и ценностей. В таких случаях правомерно говорить о «морально оправданной ненависти» [9]. Типичными примерами могут послужить случаи ненависти к врагу Родины или ненависти угнетаемых к угнетателям:
Каждый боец Красной Армии, особенно если он по пятам фашистов прошёл хоть по одной деревне, загорается непримиримой ненавистью к врагу, он даёт перед товарищами клятву жестоко отомстить. [3] У нас - горячая любовь к угнетённым братьям и горячая ненависть к угнетателям. [3]
Последний пример относится к сфере советского пропагандистского дискурса. Подобная декларация ненависти не имеет ничего общего с разжиганием ненависти, например, по отношению к лицам кавказской национальности, так как в данном случае объект фиктивен.
Коллективная ненависть возникает в различных сферах человеческой деятельности - религиозной, политической, социальной. Следовательно, ненависть способна вызвать раскол внутри большой группы - например, этническая ненависть в многонациональном государстве. Заметим, что в социальных науках в этом смысле более распространён термин «нетерпимость» (intolerance). В данном исследовании мы принимаем термин «ненависть» как родовой по отношению к понятиям «нетерпимость» и «вражда».
Содержательные признаки и смыслы дискурса ненависти
На следующем этапе данного исследования был проведён содержательный анализ текстов-высказываний, тематической и смысловой доминантой которых явилась ненависть к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Материалом для анализа послужили мнения, высказанные участниками Интернет-форума (http://www.lovehate.ru/ opinions.cgi/89/34) в теме «Люди, которые ненавидят Голубых». Общее количество высказываний составило 404 текста.
Смысловая доминанта прямо заявлена в теме дискурса. Таким образом, это не только дискурс о ненависти, но и дискурс, в котором эта ненависть проявляется, «живёт». Проведённый анализ дал нам возможность выделить основные жанрообразующие признаки дискурса ненависти: 1) агрессивность; 2) высокая степень эмоциональности; 3) определённая конфигурация сополагающих смыслов и речевых стратегий, служащих реализации смысла «ненависть».
Анализируемые тексты являются персональной (личностно-ориентированной) формой дискурса ненависти, то есть авторы высказываний выступают как индивиды с присущими им психологическими, моральными и нравственными свойствами. Логично предположить, что вышеобозначенные характеристики дискурса ненависти находятся в непосредственной зависимости от индивидуальных свойств тех, кто создаёт текст. Например, уровень агрессии текста будет различным в зависимости от уровня агрессивности самой личности. То же самое относится и к наборам смыслов: в каждом случае актуализируются смыслы, имеющие первостепенное значение для индивида. Ситуация общения во многом определяет форму высказывания. Киберпространство, как среда коммуникации, представляет человеку наибольшую свободу в выборе языковых средств и форм речевого поведения для выражения своего мнения. Часто Интернет-общение позволяет высказать человеку то, о чём, возможно, он не может свободно говорить в обыденной коммуникации. Причины для этого могут быть самые разные.
Большинство проанализированных текстов крайне эмоциональны. Данный признак находит отражение в обильном использовании инвективной (в большинстве случаев обсцентной) лексики, эмоциональных слов-предикатов и междометий (Ужас! Брррр.... эх-хе). На параграфическом уровне в целях эмфазы активно применяются: многочисленные знаки восклицания, сопровождающие вербализацию эмоций и эмоциональных состояний (отвращение, презрение, негодование, возмущение, угроза, и другие), а также коммуникативные действия (обращение, призыв к действию, выражение солидарности и т. д.); написание слов заглавными буквами; графическая форма представления слогового деления слов (не-на-ви-жу!); эмотиконы. 2. Автор даёт характеристику объекту, воспроизводя имеющееся у него представление об объекте: а) Наглые до невозможности. Всем в нос пихают свою извращенскую натуру, а потом сильно удивляются, почему их просят заткнуться... (Tokka) б) Потому что они сплетничают хуже баб. (Финик) в) Они должны стыдиться своей ориентации, а вместо того как бы пытаются её всем продемонстрировать. Одеваются вызывающе, изо всех сил пытаются отличаться от нормальных людей. Они делают вид, что им неведом стыд. Но я уверен, что каждый из них в глубине души осознаёт порочность своей ориентации. (Уайл Э. Койот) г) У них неправильное восприятие мира. Они не понимают ни романтику, ни красоту, не говоря уже о чувствах к друг другу. По-моему, то, что они делают это полное извращение! Люди созданы, чтобы продолжать род, иметь какой-то смысл жизни; а что у них! Они бесполезны для общества! (Моро) 3. Автор подробно аргументирует свою точку зрения. Ситуация описывается в масштабах страны, всего человечества: а) Педерастия противоречит природной сущности человека, противоречит законам развития живого в мире. Педик не может вызывать симпатии, как не может вызывать симпатии урод с детства или психически больной... (Белояр) б) Гомосексуалисты... позорят высокое звание человека, противоречат его естественной природе. Неужели мы хуже животных, у которых точно нет такого безобразия. Кроме того, гомосексуализм - это болезнь Запада, и России поистине позорно перенимать эту дурь от них. Сами изобрели, сами пусть и страдают от снижения уровня рождаемости, ухудшения морали у подростков и длинноволосых поп-звёзд с кривыми омерзительными для нормального человека улыбками. (Прокофьев Святослав) Часто в этом типе высказываний воспроизводится идея огромной опасности для существования нации и катастрофы общечеловеческого масштаба. а) Потому что это истребление нации - щас голубые по телеку везде крутят значит это будет популярно - значит кердык нации! (Банан) б) Я ненавижу голубых за то, что наряду с наркоманами и проститутками, именно они являются разносчиками всякой заразы. Более того, смотря на этих генетически обиженных людей, какое может вырасти будущее поколение? И если в мире останутся одни голубые, то мы просто ВЫМРЕМ!!! (Insane) 100 4. Автор говорит, как надо поступать с объектом ненависти: а) Потому что одни занимаются сексом с лицами своего же пола, их нельзя за это называть мужиками, они вообще - оно! Поэтому они ведут себя как бабы, таких людей надо отстреливать, они портят генофонд. (Серый) б) У них просто крыша поехала. Нужно создавать специальное лечебное заведение, может кто-то и вылечится. в) Давить эту мразь. Была б моя воля, перестрелял их всех как собак бешеных. (Derek) Так проявляется акциональный компонент концепта «ненависть» в дискурсе. Как можно заметить, степень агрессивности в приведённых примерах разная, но смысл один и тот же - объект необходимо изолировать. Репертуар предлагаемых способов невелик. 5. Смешанный тип. Включает элементы предыдущих типов высказываний: Надоели уже совсем. Такое впечатление, что сейчас гомиков больше чем нормальных людей. Они становятся всё агрессивней. Надо для них отдельные резервации создать, так нам легче будет. (Викинг) Были также выделены 3 типа представления объекта: 1. Объект представлен только через инвективные номинации («голубые», «твари», «мразь», «уроды», «извращенцы»). Данный способ указывает скорее на общий агрессивный настрой говорящего, чем на сформировавшийся, более или менее конкретный образ объекта. Большинство из этих инвектив не имеют никаких устойчивых связей и ассоциаций именно с геями. 2. Объект представлен через признаки, характеризующие в основном манеру поведения и внешний вид: «эпатажные», «мерзкие», «шумные», «агрессивные», «слащавые», «неприятные», «ведут себя как женщины», «откровенно смешной вид», «ухаживают за собой постоянно». Последний пример показателен тем, что в нём отчётливо проявляется стереотипное мышление. Ибо такая черта, как оказание слишком большого внимания своей внешности, никак не вписывается в стереотипный образ настоящего мужчины, «мачо». В данном случае ненависть вызывает непохожесть 101 Другого на субъекта, его несоответствие представлений субъекта о типичных формах поведения и ролях нормального индивида в обществе. 3. Объект представлен через характеристику его действий, носящих вредный и порочный характер, а также представляющих угрозу обществу: «позорят мужчин», «являются разносчиками СПИДа», «разлагают общество», «мешают жить нормальным людям».