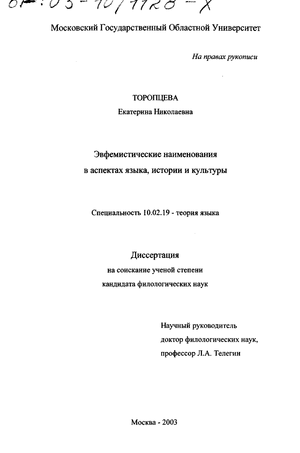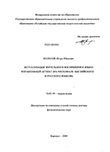Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Понятие «эвфемии» в контексте современных исследований 8
1. О термине «эвфемизм». Проблема определения
2. Основные классификации эвфемизмов 20
3. Психологический аспект эвфемии 27
3.1. Эмоциональная основа табу
3.2. Психологические механизмы эвфемистической замены . 34
3.3. Изменчивость эвфемистической системы 40
4. Социальный аспект эвфемии 42
5. Прагматический аспект эвфемии 54
Выводы 66
ГЛАВА 2. Эвфемистические наименования в общей системе лексики . 69
1. План содержания эвфемистических наименований 70
1.1. Эвфемистические наименования в номинативном аспекте .
1.2. Аксиологический аспект эфемистических наименований ... 78
1.3. Стилистический аспект эфемистических наименований 86
1.4. Эвфемизмы и дисфемизмы 91
1.5. Анализ дискурса как способ интерпретации эвфемизмов ... 92
1.6. Эвфемистические наименования в семасиологическом плане 98
2. Эвфемистические наименования в плане выражения 100
2.1. Образование эвфемистических наименований путем изменения значения с сохранением формы 103
2.2. Образование эвфемистических наименований путем изменения формы с сохранением значения 104
2.3. Образование эвфемистических наименований путем сохранения и значения, и формы
2.4. Невербальные средства эвфемии
Выводы 109
ГЛАВА 3. Влияние социально-культурного фона на становление эвфемистической системы английского языка 111
1. Становление и развитие эвфемистической системы английского языка в период с 14 по 19 века 113
2. Изменения в эвфемистической системе, обусловленные социально-культурными особенностями 19 века 117
3. Изменения в эвфемистической системе, обусловленные социально-культурными особенностями 20 века 123
3.1. Использование эвфемизмов в области коммерции 125
3.2. Эвфемистические наименования в рекламе 126
3.3. Эвфемистические наименования в политике 128
3.4. Эвфемизмы, возникшие в рамках идеологии политической корректности 129
3.5. Эвфемистические наименования, связанные с потерей работы 142
3.6. Эвфемистические наименования, связанные с использованием компьютеров 144
3.7. Эвфемизмы, возникающие в ходе освещения военных конфликтов
4. Способы намеренного влияния общества на язык и их отражение на эвфемистической системе 149
Выводы 152
Заключение 153
Библиография 157
Список словарей, справочников и энциклопедий 168
Источники примеров 170
Приложения
- Основные классификации эвфемизмов
- Аксиологический аспект эфемистических наименований
- Анализ дискурса как способ интерпретации эвфемизмов
- Изменения в эвфемистической системе, обусловленные социально-культурными особенностями 19 века
Введение к работе
Впервые эвфемистические наименования попали в поле зрения лингвистов в конце XIX века, когда появилась на свет схема семантических изменений Г. Пауля. Впоследствии этому вопросу уделяли внимание А. Мейе, С. Видлак, С. Ульман, Э. Бенвенист, Ш. Балли, Д. Кристал и др. В последние годы в связи с возросшим вниманием общества к языковой политике и к способам воздействия на общественное сознание появились монографии Д. Энрайта, К. Эллан и К. Барридж, У. Луца. Кроме того, упоминания об эвфемизмах содержатся в большинстве исследований по истории языка, в частности, в работах X. Менкена, Дж. Лоуренса, Р. Бёчфилда, Б. Брайсона и др.
Вопросам эвфемии также посвящены многочисленные работы отечественных лингвистов, которые рассматривают разные аспекты этого явления на материале различных языков: немецкого (Бердова Н.М.), французского (Макарова Г.А., Турганбаева Л.С), испанского (Родченко А.В.), английского (Шахжури К.К., Кацев A.M., Босчаева Н.Ц., Темирбаева Е.К., Асеева Ж.В., Тюрина Е.Е., Артюшкина Л.В.), русского (Крысин Л.П., Ларин Б.А.) и др.
Большинство авторов рассматривало эвфемистические наименования в рамках субституционного подхода, акцентируя тот или иной аспект: психологический (Шахжури К.К.), социолингвистический и собственно лингвистический (Кацев A.M.), семантический (Тюрина Е.Е., Артюшкина Л.В.), теории вторичной номинации (Бердова Н.М.) и прагматический (БосчаеваН.Ц.). Такое разнообразие подходов объясняется многоплановостью изучаемого явления, которое обусловлено наличием четырех аспектов: собственно лингвистического, психологического, социального и прагматического, который включает в себя и аксиологический аспект.
Несмотря на то, что лингвисты неоднократно обращались к вопросу эвфемии, до сих пор не существует общепринятых критериев в определении изучаемого явления. Кроме того, динамичные изменения социо-культурного фона влияют на эвфемистическую систему языка, тем самым постоянно
обеспечивая новый материал для исследования. Все это определяет актуальность данного исследования.
Таким образом, целью настоящего исследования является комплексное рассмотрение эвфемии с учетом функциональных и структурных особенностей в диахроническом аспекте, в связи с чем поставлены следующие задачи:
установить четкие критерии в определении эвфемизмов;
выявить факторы, определяющие выбор эвфемизма говорящим;
определить психологические механизмы возникновения эвфемистического эффекта;
систематизировать прагматические функции эвфемизмов;
определить характер аксиологического компонента эвфемистических наименований;
изучить стилистическую принадлежность эвфемистических единиц;
выявить способы интерпретации эвфемизмов;
рассмотреть основные способы образования эвфемистических единиц;
определить основные тенденции развития эвфемистической системы в зависимости от социо-культурного фона.
Научная новизна диссертации заключается в критическом осмыслении выдвигаемых исследователями положений и собственной трактовке материала, в ходе которой были выявлены недостатки субституционного подхода к изучению данного вопроса, прагматические функции эвфемизмов, особенности эвфемистических единиц в плане содержания и в плане выражения, зависимость употребления эвфемистических наименований от исторического и социокультурного фона. Впервые были описаны психологические механизмы возникновения эвфемистического эффекта.
Материалом для исследования послужили словари эвфемизмов, отдельные художественные и публицистические произведения писателей 15-20 веков, материалы прессы 19-20 веков, монографии по истории языка, а также материалы интернета, в том числе электронные библиотеки, официальные сайты
университетов англоязычных стран и информационных агентств. Объем проанализированного материала составил около 16000 страниц. Методы и приемы исследования:
анализ словарных дефиниций;
контекстуально-ситуативный анализ;
метод интерпретации текста;
историко-сравнительный метод;
метод количественного анализа.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в уточнении некоторых понятий из области теории номинации, психолингвистики, социолингвистики, лингвистической прагматики применительно к рассмотрению эвфемистических наименований с целью их отграничения от смежных явлений. Полученные данные с результатами многоаспектного рассмотрения конкретного языкового материала расширяют имеющиеся сведения об особенностях образования и функционирования эвфемизмов.
Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования полученных данных для выявления эвфемизмов с последующим занесением их в словари, интерпретации эвфемистических единиц при проведении лингвистических экспертиз, а также при переводе. Ценность работы и в возможности ее применения в ходе подготовки материалов для спецкурсов по лексикологии и стилистике.
На защиту выносятся следующие положения:
Субституционный подход к исследованию эвфемизмов нельзя считать универсальным, хотя часть эвфемистических наименований является субститутами.
Основными критериями в определении эвфемизмов являются: стигматичность денотата, сопровождаемая негативной коннотацией, или же только негативная коннотация; создание положительной или нейтральной коннотации вследствие употребления эвфемизма; сохранение истинности высказывания.
Психологические механизмы эвфемистической замены основаны на теории Павлова о слове как о второй сигнальной системе и включают в себя механизм «буфера», ассоциативный механизм, шутку.
К факторам, способствующим выбору говорящим эвфемизма, следует отнести социальный класс, половую принадлежность, социальный статус, социальную ситуацию, социальную роль, а также коммуникативное намерение говорящего.
Большинство эвфемизмов может быть интерпретировано только в контексте прагматической ситуации, и их лексическое значение тесно связано с прагматическим. Основными прагматическими функциями эвфемизмов являются кооперирующая и риторическая, второстепенной - превентивная.
Оценочность эвфемизмов является коннотативной, т.е. сопутствует предметно-логическому содержанию, и по сути носит пейоративный характер, при том что внешне может иметь место мелиоративный эффект.
В плане выражения эвфемизмы могут являться как вербальными, так и невербальными знаками, как первичными наименованиями (в случае «словотворчества» или заимствования из другого языка или стиля), так и вторичными.
Эвфемистическую функцию могут выполнять слова и выражения, принадлежащие к любому экспрессивному стилю. С наибольшей точностью определить является ли слово или выражение эвфемизмом можно при проведении анализа дискурса, в частности путем дискурсивно-исторического анализа текста.
Апробация работы: Основные теоретические положения и практические выводы исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории и практики английского языка (сентябрь 2002 г.) и кафедры английской филологии (апрель 2003 г.), докладывались на двух международных научных конференциях (МГУ и МГЛУ 1999 г.) и отражены в опубликованных тезисах и трех статьях, общим объемом 2.1. печатных листа.
Основные классификации эвфемизмов
Эта классификация, как и первая, слишком не пропорциональна -количество эвфемизмов для обозначения стигматичных денотатов третьей группы на порядок меньше количества эвфемизмов других групп, к тому же первое и второе подразделения классификации могут пересекаться. Кроме того, в четвертой группе, очевидно, должны быть названы и другие сферы, такие как преступления, сексуальные отношения, которые включили бы в себя указанные «наказание» и «гомосексуальность».
Однако, как было сказано выше, тематические классификации в принципе не могут быть одновременно исчерпывающими и системными. П. Психологические классификации. В основе этого типа классификаций лежат мотивы появления эвфемизмов. Наиболее часто приводимым в этой связи примером является классификация, предложенная К.К Шахжури [Шахжури 1956:9-15]: 1. Табу слова (имена собственные, религия, имена болезней или смерти, имена животных, от «сглаза»); 2. Чувство страха и неудовольствия; 3. Великодушие, сочувствие; 4. Стыдливость; 5. Вежливость; 6. По политическим мотивам. Можно сказать, что данная классификация достаточно полно отражает основные мотивы употребления эвфемизмов, однако, хотя в любом случае психологический аспект эвфемии тесно связан с социальным, эвфемизмы шестой группы в гораздо большей степени порождаются внешними, социальными причинами, чем внутренними. Более обобщенная классификация была составлена Ч. Кэни, который подразделяет эвфемизмы всего на три группы - эвфемизмы предрассудков, пристойности и деликатности. По мнению А.В. Родченко, основным мотивом в первой группе является чувство страха, во второй отвращение, в третьей - стыд [Родченко 1999:25]. Однако, и здесь подразделения классификации могут пересекаться. Так, понятие пристойности или непристойности может быть обусловлено предрассудками, например, когда речь идет о внебрачных детях. Что же касается деликатности, то помимо стыда, ей сопутствует желание быть вежливым по отношению к собеседнику. Похожая классификация представлена и в работе Н.Ц. Босчаевой. Она выделяет следующие четыре группы: 1) эвфемизмы, продиктованные чувством деликатности - при выраженной стигматичности предмета общения для кого-либо из коммуникантов или обоим из них; 2) эвфемизмы, продиктованные чувством приличия - при более формальном общении; 3) эвфемизмы, продиктованные различными суевериями; 4") экспрессивные эвфемизмы, продиктованные стремлением говорящего сохранить или установить шутливую тональность общения [Босчаева 1989:61]. Очевидно, помимо тех же недостатков, которые были названы для классификации Ч. Кэни, здесь существует еще один - эвфемизмам четвертой группы экспрессивность лишь сопутствует, а основными причинами их употребления являются чувства, упомянутые в первых трех группах, так как одного стремления установить шутливую тональность общения недостаточно для того, чтобы употреблять эвфемизмы (см. выше основные критерии в опрделении эвфемизмов). Комментируя свою лексико-семантическую классификацию, А.М. Кацев тоже говорит о эмоциональной основе эвфемизмов разных групп. Так, по его мнению, эмоциональной основой эвфемистических наименований сверхъестественных сил является чувство страха; наименований смерти и болезней - страх перед смертью, в ряде случае чувство такта; наименований, относящихся к сфере пороков, половой сфере, бедности, преступлений и их последствий - чувства отвращения и стыда, обусловленные «буржуазной» моралью, наименований умственных и физических недостатков, предметов одежды, наименований, относящихся к сфере физиологии - чувства отвращения и стыда, обусловленные «общечеловеческой» моралью [Кацев 1988:30]. Очевидно, деление морали на буржуазную и общечеловеческую объясняется временем написания монографии и сейчас несущественно. Говоря о «психологических» или «мотивационных» классификациях в общем, необходимо отметить, что их авторы всегда говорят о чувствах приличия, пристойности, такта, суеверного страха, о желании быть вежливым. Однако, употреблению в речи одного и того же эвфемизма может одновременно сопутствовать несколько мотивов - например, чувство стыда и неловкости, которое испытывает говорящий, когда речь идет о сексе, скорее всего сопровождаться желанием быть вежливым и не вызывать этих же чувств у собеседника. Определить, какой мотив или мотивы заставляют употребить эвфемизм, не всегда может не только сторонний наблюдатель, но и сам говорящий. Таким образом, невозможно четко классифицировать эвфемизмы по мотивам их употребления. ГЛ. Социальные классификации. Критериями для этих классификаций служат социальная принадлежность эвфемизма или принадлежность стигмы субъекту или определенному социальному коллективу. По этому критерию эвфемизмы были классифицированы Б.А. Лариным, по мнению которого эвфемизмы имеют социальную природу, что и должно определять основные принципы их классификации. Он выделяет три группы эвфемизмов: 1. Общеупотребительные эвфемизмы национального литературного языка; 2. Классовые и профессиональные эвфемизмы; 3. Семейно-бытовые эвфемизмы [Ларин 1961:122]. По мнению этого автора, с течением времени вторая группа эвфемизмов может исчезнуть. Возможно, это верно в отношении классовых эвфемизмов, в то время как количество профессиональных эвфемизмов в последнее время возросло. Они активно употребляются в областях медицины, права, образования, политики, бизнеса, рекламы т.д. Кроме того, эвфемизмы функционируют и в рамках социолектов.
Аксиологический аспект эфемистических наименований
По мнению Л.С. Турганбаевой, невозможно раскрыть содержание понятия эвфемизм, не обратясь к такой проблеме, как аксиология, «прежде всего потому, что эвфемизм - это и есть результат оценки» [Турганбаева 1988: 31].
Аксиология представляет собой особую отрасль философского осмысления, которая сформировалась к началу 20-го века. «Аксиа» означает ценность, т.е. буквально аксиология - это учение о ценностях. Более развернутое определение предмета этой отрасли философии мы можем найти у С.Ф. Анисимова: «Аксиология - абстрактная общая философская теория о значениях, ценностях и антиценностях, и о суждениях о значениях - оценках» [Анисимов 2001:9]. Говоря об аксиологическом аспекте эвфемии, необходимо учитывать особенности терминологического аппарата аксиологии. Так, аксиологическое толкование термина значение отличается от семантического - под ним понимают «значение для людей», т.е. имеется в виду та роль, которую предмет или явление играет или может играть в жизнедеятельности человека.
В отличие от западных аксиологов, которые и для значения, и для ценности применяют одни и те же слова (например, value), отечественная аксиология четко разграничивает эти понятия. Так, С.Ф. Анисимов подчеркивает, что ценность - это «положительное значение объекта для человека с точки зрения того, насколько он способен удовлетворить какую-либо потребность, возникшую в его жизнедеятельности» [Анисимов 2001:67]. То есть ценность может быть только положительной, в то время как значение включает и качественно отрицательное. Существующие в обществе на разных этапах исторического развития системы ценностей, несомненно, являются важным экстралингвистическим фактором.
С термином значение также тесно связана оценка, под которой понимают представление, понятие, суждение о значении. Она может быть и положительной (одобрение, восхищение), и отрицательной (осуждение, отвращение и др,)
Поскольку оценки выражаются при помощи языковых единиц, они стали предметом пристального внимания лингвистов (Вольф Е.М., Арутюнова Н.Д., Баранов А.Н. и др.). В языкознании оценку определяют как «социально устоявшееся и визуально закрепленное в семантике языковых единиц положительное или отрицательное, эксплицитное или имплицитное отношение субъекта (лица, лиц, коллектива) к объектам действительности, как компонент, который можно выделить в сложном взаимодействии субъекта оценки и ее объекта» [Вольф 1985:18].
Как отмечает Е.М. Вольф, в том, что касается природы оценочных суждений, основной проблемой является соотношение субъективного и объективного. И здесь имеет место борьба двух направлений: одни лингвисты считают, что основным в оценке является субъект в его отношении к объекту, другие считают основным для оценки свойства объекта. По мнению Е.М. Вольф, в оценочных выражениях субъективное и объективное неразрывно связаны и образуют континуум, где обе стороны нарастают или убывают обратно пропорционально друг другу [Вольф 1985:24-27].
Взаимодействие субъекта и объекта оценки лежит в основе классификации частнооценочных значений, предложенной Н.Д. Арутюновой. Она выделяет три типа оценок: 1) Сенсорные оценки, связанные с ощущениями, физическим и психическим чувственным опытом. Такие оценки как правило не мотивируются, они прямо проистекают из того ощущения, которое независимо от воли и самоконтроля испытывает человек. 2) Сублимированные - этические и эстетические оценки. Связаны с удовлетворением нравственного чувства и чувства прекрасного. 3) Рационалистические оценки, связанные с понятием пользы, выгоды или бесполезности [Арутюнова 1988:76].
Оценочный компонент эвфемистических наименований по сути своей наиболее близок к первой и второй группам. Сенсорные оценки, связанные с эмоциональной сферой человека, проявляются в отношении людей к смерти, болезням и т.д. Эмоции, которые всегда сопутствуют этим явлениям, например, страх или боль, проявляются в нежелании прямо о них говорить, что порождает такие эвфемизмы, как по longer with us (=dead), garden of remembrance (=cemetery), mitotic disease (= cancer) и т.д. К эвфемизмам, содержащим этот тип оценки, можно отнести и те из них, которые возникли из-за религиозных суеверий: small folk, wee people (=the fairies), wise man (=wizard), Prince of Darkness, father of lies, scratch (=the devil). Эвфемизмы, возникающие по подобным мотивам, тесно связаны с древними табу. Очевидно, сенсорные оценки возникли довольно давно, и послужили причиной возникновения первых эвфемизмов в первобытных обществах. Этические и эстетические оценки появились, несомненно, гораздо позже. Эстетическая оценка тесно связана с понятием нормы, образца, примера. Так, в современном мире табуирутотся различные физические недостатки, в результате чего употребляются эвфемизмы high forehead, receding hairline (=bald), dark complected (=black), visually challenged (=blind) и т.д. В то время как положительная этическая оценка требует ориентации на этическую норму, соблюдение нравственного кодекса, т.е. большего или меньшего количества правил или заповедей. Следовательно, в языке табуируется то, что не соответствует существующей этической норме, моральным устоям общества. Не случайно существует большое количество эвфемизмов для обозначения преступлений, прелюбодеяния, проституции, гомосексуализма, пьянства, наркомании и т.д.
Период расцвета эвфемизмов, которые условно можно отнести ко второй группе наименований, содержащих оценочный компонент сублимированного характера, пришелся на Викторианскую эпоху, когда налагался запрет на большинство тем, связанных с телом человека, в том числе на физиологические функции, части тела, некоторые предметы одежды, сексуальную сферу жизни. Вкусы викторианцев послужили причиной появления эвфемизмов underwear, underclothes, undies, linens, lingerie и т.д. (подробнее об эвфемии в историческом освещении будет сказано в главе 3).
Анализ дискурса как способ интерпретации эвфемизмов
Несмотря на популярность понятия «дискурс», оно до сих пор остается расплывчатым и трактуется лингвистами неоднозначно. Впервые этот термин употребил 3. Харрис в статье «Анализ дискурса», в которой предлагал распространить дистрибутивный метод за пределы предложения [Harris 1952].
По мнению классика дискурсивного анализа Т.А. ван Дейка, в широком смысле слова дискурс представляет собой коммуникативное событие, происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и прочем контексте [Dijk 1998:15]. Иначе говоря, «дискурс - это речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова//ЛЭС:137].
Анализ дискурса иногда отождествляют с появившейся позже лингвистикой текста, однако эти понятия следует разграничивать, поскольку «дискурс - актуально произнесенный текст, а текст - это абстрактная грамматическая структура произнесенного. Дискурс - это понятие, касающееся речи, актуального речевого действия, тогда как текст - это понятие касающееся системы языка или формальных лингвистических знаний, лингвистической компетентности». Анализ дискурса подразумевает все уровни и методы анализа языка, познания, коммуникации, общества и культуры [Dijk 1998:10].
В этой связи Карасик В.И. отмечает, что дискурс допускает множество измерений и изучается в рамках прагмалингвистики, психолингвистики, стилистики, структурной лингвистики, лингвокультурологии, когнитивистики и социолингвистики. Так, с позиций прагмалингвистики дискурс представляет собой интерактивную деятельность участников общения с установлением и поддержанием контакта, оказанием воздействия друг на друга, применением коммуникативных стратегий и тактик. Психолингвистов интересует процесс переключений от внутреннего кода к внешней вербализации в процессах порождения речи и ее интерпретации. Структурно-лингвистическое описание дискурса предполагает его сегментацию с целью выявления содержательной и формальной связности. Лингвокультурное изучение дискурса имеет целью установить специфику общения в рамках определенного этноса, определить формульные модели речевого поведения, охарактеризовать культурные доминанты в виде концептов, выявить способы обращения к прецедентным текстам для данной лингвокультуры. Дискурс как когнитивно-семантическое явление изучается в виде различных моделей репрезентации общения в сознании (фреймов, сценариев, ментальных схем, когниотипов). Социолингвистический подход к исследованию дискурса предполагает анализ участников обстоятельств общения в широком социокультурном контексте [Карасик 2000:6,7]. Причем автор подчеркивает, что эти подходы не являются взаимоисключающими.
Задача анализа дискурса заключается в том, чтобы «дать характеристику того, как в контексте взаимодействия людей, направленного на достижение каких-либо целей, коммуниканты интерпретируют речь и действия» [Демьянков 1995:284]. Иначе говоря, для успешной интерпретации необходимо опираться на обширные фоновые знания, поскольку «... содержательная сторона языковой единицы может быть адекватно оценена лишь при условии выявления специфики ее связи с окружающим миром, существующим вне человека, но познаваемым им и отображаемым в языковой форме, функционирующей как средство коммуникации» [Блох 2001:153, 154].
В свете общественно-политической и экономический ситуации, сложившейся к началу XXI века в России, особую актуальность дискурсивный анализ приобретает при проведении лингвистических экспертиз, потребность в проведении которых испытывают как суды, так и правоохранительные органы.
Такого рода лингвистические экспертизы назначаются для установления факта совершения деяний, которые квалифицируются как преступные в соответствии со следующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации: ст.129 УК РФ (Клевета); ст. 130 УК РФ (Оскорбление); ст. 163 УК РФ (Вымогательство); ст. 280 УК (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации); ст. 282 УК РФ (Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды) и др.
Так, для установления факта унижения чести и достоинства лингвистического анализа вербального состава высказывания недостаточно. Не менее важно то, с помощью каких интонационных и паралингвистических средств выражается то или иное значение, поскольку «даже обсценная лексика, произнесенная с определенной интонацией, может быть воспринята адресатом не как оскорбление, а как, например, высшая форма восхищения или даже выражения симпатии» {Галяшина, 2002 http://expertizy.narod.ru/ books/cena_slova3/018.htm]. Например, фраза «Здоровье надо беречь », произнесенная с разной интонацией, может выражать как рекомендацию, так и угрозу. В ходе проведения экспертной работы лингвисты нередко сталкиваются с эвфемизмами, от правильности интерпретации которых может зависеть решение суда. В качестве примера приведем одну из экспертиз, опубликованных в сборнике «Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации» под редакцией профессора М.В. Горбаневского, председателя правления Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС). Экспертиза проводилась в ИРЯ РАН экспертами Л.П. Крысиным и Ю.А. Сафоновой. В их задачу входил анализ опубликованной в газете «Химкинские новости» статьи М. Бекетова «Реванш», которая содержала следующий фрагмент: «А самое пикантное в нынешних выборах Главы Московской области то, что г-н Громов будет заниматься большой политикой, а руководить Подмосковьем предназначено вице-губернатору Михаилу Меню, который известен, прежде всего, как сын убиенного священника, да еще, по слухам, как человек нетрадиционной ориентации в плане секса». На рассмотрение экспертов были поставлены следующие вопросы: 1. Что означает в русском языке термин «нетрадиционная ориентация в плане секса»? 2. Что означает указанное выражение в контексте данной статьи?
Изменения в эвфемистической системе, обусловленные социально-культурными особенностями 19 века
С началом 19 века возникли предпосылки к индустриальной революции, которая повлекла за собой стремительную урбанизацию. Если в 1815 году основная масса людей все еще занималась сельским хозяйством, то в 1830 половина населения жила в городах. Изменение условий жизни привело к возникновению нового типа семейного уклада, подчинявшегося новой морали. В то время как глава семьи, уходя на заработки, покидал дом, его жена оставалась с детьми, укрываясь в своем убежище от ошибок и опасностей внешнего мира. Таким образом, «... ignorance of the big bad world was elevated to a form of middle-class virtue» [Lawrence 1973:29]. Культивировался такой тип поведения женщины, когда она проводила большую часть времени дома и сохраняла «a kind of innocence from the fierce, competitive world of industrialism» [там же].
Новая мораль, естественно, находила свое отражение в современной литературе и в языке. Причем, важную роль в формировании общественных вкусов играли не только авторы, но и издатели, которые возлагали на себя миссию оберегать читателей от «непристойностей» и подвергали даже творения великих жестокой цензуре. Среди тех, кто занимался редактированием произведений классиков, чаще всего называют Томаса Бодлера, автора десятитомного издания Шекспира, вышедшего на свет в 1818 году. В предисловии к изданию говорится, что из него исключены «those words and expressions... which cannot with propriety be read aloud in a family» [Burchfield 1992:14].
Эвфемизмы служили целям цензуры, заменяя собой недопустимые слова, например, фраза «Не that hath kilPd my king and seduc d my mother» заменила собой оригинальную «He that hath kill d my king and whor d my mother» (там же, курсив наш. - Е.Т.). Причем, если в последнем случае замена whor d на seduc d является эвфемистичной, то в случае с парой «a gipsy s lust» - «a gipsy s will», замена lust на will эвфемистичной не является, так как происходит не смягчение, а искажение действительности.
Пик расцвета эвфемизмов пришелся на Викторианскую эпоху - эпоху «пристойности». Скромность и целомудрие были возведены в культ, поскольку, как утверждали авторы 19 века, «a lady is most quickly recognized by her purity» [Chester 1890:121, курсив наш. - E.T.]. Описывая нравы того времени, Б. Брайсон упоминает некую мадам Де ла Брес, которая завещала свое состояние на то, чтобы обеспечить одеждой всех снеговиков Парижа. Другая дама для соблюдения приличий облачала в миниатюрный костюм свою золотую рыбку. Многие при помощи специальных юбочек закрывали ножки роялей [Bryson 1990:218]. Эти факты достаточно красноречиво говорят о специфике Викторианской морали, которая не могла не повлиять на язык.
Параллельный процесс шел и в США, где Н. Уэбстер продолжил дело Т. Бодлера в своем стремлении оградить общественную нравственность от непристойностей и грубости. В отредактированной им Библии слово whore было заменено на lewd woman, to give suck на to nourish и др. [Mencken 1980:303].
К ранее существовавшим запретам были добавлены дополнительные табу на упоминание частей тела, предметов одежды и даже неприятных запахов. Например, в упомянутом выше издании Библии in the belly было заменено на in embryo [там же], а в процессе редактирования Кентерберийских рассказов фраза «Thy breath full sour stinketh» превратилась в «Thy breath resembleth not sweet marjoram» [Lawrence 1973: 29, курсив наш. - E.T.].
Запрет на упоминание частей тела носил настолько категоричный характер, что распространялся не только на людей. Так, слово legs заменялось на limbs при описании и человека, и животных, и даже мебели. Если за обеденным столом все же возникала надобность сказать о голени, бедре или грудке цыпленка, на помощь приходили многочисленные эвфемизмы, среди которых чаще всего называют first (second) joint, drumstick, dark meat, bosom, white meat [Bryson 1990:220, Lawrence 1973:39, Mencken 1980:302].
К «неприличным» частями тела относили также живот и внутренности. Слова guts и belly оказались под запретом и чаще всего заменялись словами abdomen или stomach, причем последнее было настолько емким, что охватывало «the whole region from the nipples to the pelvic area» [Mencken 1980:302]. Однако, некоторым и слово stomach казалось недостаточно пристойным, и ему предпочитали tummy, midriff, и даже breadbasket [Bryson 1990:220].
Много эвфемизмов возникло из-за действия коннотативных запретов. То есть заменялись слова, созвучные неприличным, несмотря на то, что их обозначаемое было нейтральным. Например, в американском варианте английского языка слово titbit было заменено на tidbit, из-за ассоциаций со словом teat. Слово cock, в течение длительного периода употреблявшееся в качестве эвфемизма со значением «пенис», приобрело с течение времени настолько отрицательную коннотацию, что перестало употребляться даже в прямом значении (петух) и до сих пор заменяется словом rooster. Более того, отрицательная коннотация перешла на однокоренные слова: «Euphemisms had to be devised for any word that had cock in it - haycock became haystack, cockerel became rooster - and for the better part of the century people with cock in their names, such as Hotchcock or Peacock, suffered unspeakable embarrassment when they were required to make introductions» [Bryson 1990:220], а слово cockroach часто сокращалось до roach [Mencken 1980:301].