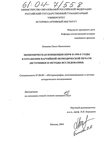Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Новый медиевализм и пространственность историографии 29
1.1. Объективное отличающееся и культурно иное прошлое в старом медиевализме 32
1.2. «Различие»: от исторической семиотики к новому медиевализму 40
1.3. Историческое изменение и его репрезентация, от темпоральной модели к пространственной 53
1.3.1. Проблема исторического изменения в новом медиевализме 53
1.3.2. Два понимания детемпорализации в новом медиевализме 62
1.4. Чужое и собственное пространство в историографии 89
Глава 2. Границы нового медиевализма 108
2.1. Место историка в пространственной историографии (к постановке проблемы) 108
2.2. К определению «медиевализма»: «актуальность», «современность» и «присутствие» прошлого 113
2.2.1. Актуальность длящегося средневековье 113
2.2.2.. «Современное» или «новое» средневековье 116
2.2.3. Медиевистика как медиевализм 122
2.2.4. Медиевализм и «присутствие» прошлого («новый медиевализм») 127
2.3. Новый медиевализм и «ход истории» 172
2.3.1. Новый медиевализм и социальная история науки 172
2.3.2. Новый медиевализм и презентизм 186
2.4. Новый медиевализм и «удовольствие от прошлого» 198
2.4.1. «Освобождающее удовольствие от прошлого» в историографии 1980-90-х гг. 198
2.4.2. Историографическая инновативностъ и негерменевтическое отрицание 205
2.5. О «чистом различии» в новом медиевализме 229
Глава 3. Топология новизны в новом медиевализме 240
3.1. Проблема различимости нового в новомедиевалистких работах 240
3.2. Внешние различия: модели комментирования 261
3.3. К предыстории новомедиевалистского комментирования 269
3.4. Комментирование в новом медиевализме 282
3.5. Комментарий как место инновации 303
Заключение 307
Принятые сокращения 314
Библиография 316
- Объективное отличающееся и культурно иное прошлое в старом медиевализме
- «Различие»: от исторической семиотики к новому медиевализму
- Место историка в пространственной историографии (к постановке проблемы)
- Проблема различимости нового в новомедиевалистких работах
Введение к работе
Проблема историографической новизны и ее актуальность
Одним из основных требований, предъявляемых к историческому исследованию в современной историографии, является его новизна. Появление или продолжающееся использование во второй половине XX века обозначений «новая социальная история», «новая политическая история», «новая культурная история», «новая интеллектуальная история» и просто «новая история» («nouvelle histoire») указывает на особую ценность, которая в это время придается именно новизне исследований. Неизменность этого требования не означает, однако, что способы установления новизны, критерии ее определения также остаются прежними. Одна из наиболее важных проблем современной историографии, а также истории историографии, заключается в том, что эти критерии со временем меняются. Те правила создания нового, которые были действительны вчера, могут утратить силу уже сегодня. Для историка, принимающего требование постоянного создания нового, выяснение актуального состояния этих критериев и следование им становится насущной необходимостью. И еще большей необходимостью оказывается соучастие в изменении, смещении этих критериев новизны, поскольку лишь в таком соучастии он остается современен им, а не следует с запозданием откуда-то привнесенным новшествам. Но это соучастие, опять же, подразумевает способность пристально следить за актуально происходящим, хорошо представлять себе возможные направления будущих изменений.
Актуальность исследования критериев новизны, существовавших в 1990-е годы, определяется тем, что как раз к этому времени исчезает ясность в их определении. И дело не столько в том, что критериев становится просто слишком много, или что они оказываются слишком противоречивы, сколько в изменении самого характера этих критериев. Как отмечает в одной из своих работ Г.И. Зверева, в 1990-е годы «приверженность историков идее обновления согласуется с мыслью об открытости исторической профессии парадигмальным сдвигам»1. Результатом историографических изменений 1970-1980-х гг. стало то, что «понятие "новизны" связывается с возможностями пересмотра модернистской общенаучной пара-дигмы, ревизии представлений о способах получения и верификации исторического знания» .
1 Зверева Г.И. Понятие новизны в «новой интеллектуальной истории» // ДВ. Вып. 4. Пре
емственность и разрывы в интеллектуальной истории. 2001. С. 46.
2 Там же. С. 53.
В результате, новизна источников и методов, а также формулируемой на их основе исследовательской проблемы, перестает быть достаточным, или даже, как это иногда утверждается, приоритетным основанием для определения новизны исторического исследования. Требования новизны источников и исследовательских подходов дополняются новыми, которые изменяют представления о необходимых элементах работы историка. Почему же теперь оказываются недостаточным соответствие старым критериям новизны? Как возникла такая ситуация?
Для позитивистской историографии середины XIX века новизна исследования была связана с нахождением нового материала и, в более широком смысле, с включением в архив все большего числа новых документов, все новых областей повседневности. Использование новых изящных стилистических приемов, или же нахождение новых моральных уроков в прошлом уже не рассматривалось профессиональными историками как основной критерий обновления знаний о прошлом, хотя представление об истории как «magistra vitae» и не исчез-ло вовсе . Открытие нового было связано при этом с обнаружением истинного, сущностного, самой природы вещей и т.п., ранее скрытого за принятыми условностями, предрассудками и традициями. Это столь распространенное видение нового как подлинного и определяющего будущее тесно связано с таким пониманием культуры, согласно которому целью мышления является адекватное описание или миметическая репрезентация «мира» как он есть, при этом как критерий истинности этих описаний выступает их соответствие отображаемой действительности. Это понимание истории и культуры исходит из предпосылки, что прямой и непосредственный доступ к реальности, как она есть для человека, обеспечен, и что соответствие или несоответствие действительности всегда может быть установлено. Установление этого соответствия не в последнюю очередь было связано с применением научного метода (работы с источниками, издания текстов и т.п.), который в своей единственности и универсальности был повторяем и, таким образом, верифицируем, а также с представлением о возможности и необходимости обучения всякого будущего исследователя основам метода, образующего общий фундамент профессии. И поскольку научный метод был, в принципе, един, он не мог выступать как критерий изменения, обновления историографии.
3 В последние годы историческая дидактика, обогатившись новейшей теоретической проблематикой «исторического самосознания» (например, у Й. Рюзена), оказалась даже одним из наиболее важных направлений в современной историографии: RiisenJ. Historische Ori-entierung: Uber die Arbeit des GeschichtsbewuBtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. Koln, 1994.
В результате различных историографических изменений конца XIX - начала XX вв. нахождение нового источникового материала в свою очередь перестало быть наиболее важным критерием новизны. Обнаружилось, что историк, даже стремясь к объективности, все равно не является нейтральным собирателем данных о прошлом. Он субъективен, и облик прошлого определяется во многом как раз тем исследовательским подходом, который он априорно выбирает (или принимает) и использует в работе. Сами научные методы оказались неспособны к установлению собственной единичности и универсальности (как о том свидетельствует бесконечная и неразрешимая борьба сторонников Лахманна и Бедье в издании текстов и т.п.). Это искажающее воздействие подходов, неоднозначных текстов прошлого, собственного языка исследователя и других опосредующих инстанций не было, однако, результатом злой воли исследователя, намеренной фальсификации им прошлого, и потому могло рассматриваться как «честное предательство» репрезентации. Более того, этот, с точки зрения «позитивистов», недостаток историографии оказался довольно быстро обращен в ее преимущество. Именно наш собственный меняющийся жизненный опыт, наше «мировоззрение», позволяет задавать прошлому все новые вопросы, создавать все более многообразную картину прошлого, учитывающую самые разные его аспекты. Расширение знаний о прошлом в рамках такой историографии связано не только с обработкой новых документов, но и, в гораздо большей мере, с поиском новых интерпретаций тех, что уже имеются, с созданием новых подходов к их изучению.
Отношения между историком-источниковедом и историком-методологом оказывались при этом иерархизированы. Поиск новых подходов стал важнее работы с новыми источниками: к примеру, публикация новых документов приверженцами марксистской социально-экономической истории уже не рассматривалась как новация теми, кто предпочел веберианские культурно-исторические подходы. Те, в свою очередь, именно на методологическом уровне вынуждены отстаивать собственную новизну перед сторонниками применения в историографии методов «насыщенного описания» К. Гирца, которые сами уже воспринимаются как «вчерашний день» в новейших публикациях о перспективах исторического материализма в изучении прошлого4. Вопрос об источниках во всех этих дискуссиях оказывается второстепенен; одни лишь новые источниковые данные не способны за-
4 См., например, введение к посвященному этой проблематике специальному номеру «Journal of Medieval and Early Modern Studies»: Holsinger В., Knapp E. The Marxist Premod-ern IIJMEMS. Vol 34. No. 3. Fall 2004. P. 463-471.
щитить или оправдать то или иное методологическое направление. Методологическая инновация, таким образом, не просто дополняет уже существующие знания о прошлом, но и стремится к их отрицанию: исследование экономических структур должно дать принципиально новую картину прошлого по сравнению с традиционной политической историей; культурная история не просто расширяла круг рассматриваемых источников, она изменяла само понятие экономического, указывая на его культурную предзаданность. Не раз предпринимавшиеся попытки примирить и уравнять между собой данные «исторического опыта» и методологичность, свести их к целому через подчеркивание их взаимозависимости и влияния друг на друга, лишний раз указывают как раз на обратное - на изначальное и конститутивное неравенство этого соотношения, на приоритетность одного из критериев новизны и вообще «научности»5. Настоящим критерием новизны являлся поэтому используемый метод, который мог даже противопоставляться знанию. В связи с этим, даже саму классификацию наук по предметному принципу в начале XX века предлагалось заменить их разделением по принципу методологическому: филология, история, социология, экономика и прочие дисциплины различались не столько объектами, сколько подходами.
Так же и причины инноваций виделись методологической историографии иначе, чем раньше. Если задавать прошлому все новые вопросы позволяет наш собственный постоянно меняющийся жизненный опыт, то новизна работы историка соответствует степени его вовлеченности в этот опыт. При этом всякий историк, будучи субъективным, уже включен в современный ему культурный универсум, и от него не требуется какого-либо особого решения на этот счет. Можно сказать поэтому, что самой инновационной и свободной от догматизма в рамках методологически сознательной историографии признается работа такого историка, который в своей методологии наиболее чутко следует изменениям современного общества6.
Если раньше смысл новизны был связан с прогрессом знания, с приближением с некой истине, к исторической правде, то теперь, когда приоритетным становится метод, это объяс-
5 См.: Koselleck R. Erfahrungswandel und Methodenwechsel. Eine historisch-anthropologische
Skizze II Historische Methode I Hg. Chr. Meier, J. Riisen. Munchen, 1988. S. 13-61.
6 В этом даже виделся залог «вечной молодости» медиевистики, которой при этом не тре
бовалось самостоятельно создавать нечто новое: сознание медиевиста обновляется автома
тически. См. об этом: Oexle O.G. Von Fakten und Fiktionen: Zu einigen Grundsatzfragen der
historischen Erkenntnis II Von Fakten und Fiktionen: Mittelalterliche Geschichtsdarstellungen
und ihre kritische Aufarbeitung I Hg. J. Laudage. Koln, 2003. S. 1-42.
нение перестает быть приемлемым. Возникает вопрос: зачем вообще нужно стремиться к новому, если оно не способно открыть нам никакой конечной истины, если каждое новое историческое исследование не приближает нас к конечной цели обретения подлинного и полного исторического знания? Ответ на этот вопрос носит обычно не столько познавательный, сколько политико-эстетический характер: многообразие в видении прошлого лучше единообразия, и потому умножение образов прошлого в работах историков является достойной целью. В этом выходе за пределы эпистемологической аргументации можно увидеть основания для изменений конца XX века, и в особенности 1990-х гг., о которых пойдет речь в этой работе.
Вторая половина XX века стала временем очередного поворота, затронувшего на этот раз господство метода. Как и в предыдущих случаях, нельзя определенно сказать, как возникает этот поворот. Проще всего было бы проследить его философское происхождение (начиная с полемики Гегеля против Канта), но в то же время очевидно, что историки пишут историю так или иначе не потому, что они много читали Гуссерля или Фуко, а потому, что нечто происходит в их собственном «ремесле», что порой удается лучше описать языком феноменологии или какой-то иной философской школы, чем языком собственно историографии, но тем не менее происходящее остается по своей природе имманентно-историографичным.
В целом, как на исток этого поворота можно указать на критику эпистемологии, то есть эпистемологического мышления и поставляемого им круга проблем7. Под эпистемологией здесь имеется в виду вся проблематика того, как мы можем нечто познать, и можем ли мы это познать, достаточны ли для этого наши способности, а также представление о том, что науки, в том числе исторические, имеют целью в первую очередь именно познание чего-либо, что именно это познание придает им социальную ценность, а потому проблемы, связанные с возможностью или невозможностью познавать - наиболее важные из тех, с которыми сталкивается историк. О критике эпистемологии в историографии последних десятилетий еще будет много говориться, поэтому укажу здесь на главное: историографическая проблематика смещается, и теперь речь идет не о способности познать что-либо (сама способность познавать реальность вызывает сомнения лишь у живущих философией XIX века релятивистов), а о том, как именно мы познаем реальность, и что мы за-
7 На возрастающее разграничение между историками и «эпистемологами-историографами-методологами» справедливо указывает П.Ю. Уваров: Уваров П.Ю. Думают ли историки? И если думают, то зачем? Заметки о книге Н.Е. Колосова «Как думают историки» (М., 2001) // Одиссей. Человек в истории. 2003. С. 303-331.
тем делаем с приобретенным знанием. Вопрос о том, как мы познаем, однако, уже не связан с проблемой наиболее эффективных способов познания, как это было еще в методологических дискуссиях, он становится вопросом моральным и политическим (например, в контексте критики расизма, колониализма, сексизма и т.п.).
Все это важно потому, что вместе с классическим вопросом о том, как возможно познание, второстепенным становится и эпистемологическое понятие метода. Методология изначально мыслилась Декартом как руководство для разума, как способ мыслить правильно и достигать посредством этого истинного знания. Этим же понятием метода руководствовались и основатели строго-научной историографии в XIX в., и такое его понимание сохранялось даже в культурной истории, где оно служило основой правильной, честной ошибочности. Теперь же сама правильность мышления перестала относиться к приоритетным культурным ценностям.
Вместе с приоритетностью методологических вопросов исчезает и принятый ранее основной критерий определения новизны. Как писал в начале 1990-х гг. П. Хайду в своей книге о «Субъектах насилия» в Песне о Роланде, медиевистические исследования и теория конца XX века повторяют «отрицание собственной генеалогии», и это отрицание «идет дальше, чем простое расхождение между новыми методами и старыми объектами: феноменология, служащая основой современной теории, признает взаимозависимость субъекта и объекта, и к конечном счете отказывается от этого примитивного бинаризма»8. Также и другие современные медиевисты, которые, в отличие от более старшего поколения, ссылавшегося на М. Вебера, Г. Риккерта или Э. Трельча, все более часто цитируют даже не Гуссерля, Хайдеггера и Деррида, а Г. Спивак, С. Жижека, Э. Лаклау и Дж. Агамбена, более не рассматривают методологию как особенно важную для их работ проблему9.
8 Haidu P. The Subject of Violence: The «Song of Roland» and the Birth of the State. Blooming-
ton, Indianapolis, 1993. P. 5.
9 О «кризисе понятия метода» в медиевистике писал уже в конце 1970-х П. Зюмтор: Zum-
thor P. Parler du Moyen Age. P., 1980. В конце 1990-х К. Порншлегель, например, вспоми
нает, как был озадачен в беседе с одной из своих коллег вопросом «Какого метода вы при
держиваетесь в своей работе?». Интерес к проблеме метода Порншлегель описывает как
отличительную черту немецких исследований, которые по ряду причин не могут преодо
леть специфически немецкую методологическую традицию, возникшую в XIX веке.
Порншлегель явно недооценивает влияние этой немецкой традиции, но его удивленность
Более того, в работах многих историков можно заметить явную сдержанность в отношении самого понятия «метод». Если слово «методология» и используется ими (в особенности, историками старшего поколения), то как бы непроизвольно, в силу сложившейся привычки, для обозначения чего-то, что нельзя назвать методологией, но для чего отсутствует новое определение. Или же это слово имеет нарочито архаизирующее значение, подчеркивающее дистанцию автора по отношению к общепринятым мнениям современного научного сообщества и, в частности, по отношению к культурной истории. В обоих случаях некогда ключевое слово «методология» легко заменимо на более нейтральное определение, как например: «Характерной методологической (или, если угодно, теоретической) чертой таких трудов, которая заметно отличает их от работ по истории культуры, написанных в прежнем стиле, является то, что...»10 В посвященных прошлому медиевистики работах методология, когда-то центральный элемент исследования, представляется теперь подчас столь же экзотическим явлением, как и, к примеру, бурная антиромантическая полемика, в которой увлеченно принимали участие их коллеги времен Г. Моно и Г. Пари (отстраненно говорится, к примеру, об «абсолютизации методологии гуманитарными науками XX века»11).
Утрата методом статуса основного критерия новизны, в то же время, вызывает крайне негативную реакцию другой части историков: так, оно интерпретируется как безответственное разрушение сложившегося издавна, привычного хода позитивной исследовательской работы, как «возведение в метод анархии», «превращение прошлого во врага» и т.п.12 Более доброжелательная, но столь же непонимающая реакция заключается в том,
вопросом о методе весьма показательна. См. его обзор современной немецкой германистики: Pornschlegel С. Das Paradigma, das keines ist: Anmerkungen zu einer ungliickilichen Debat-te IIMDG. H. 4. Germanistik als Kulturwissenschaft. 1999. S. 520-534.
10 Спигел Г.М., Фридман П. Иное Средневековье в новейшей американской медиевистике //
Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 3. 2000. С. 150. Амер. изд.: Freedman Р.,
Spiegel G.M. Medievalisms Old and New: The Rediscovery of Alterity in North American Medieval
Studies II AHR. Vol. 103. No. 3. June 1998. P. 677-704. В дальнейшем, когда русский перевод
казался мне не вполне точным, и иногда я ссылаюсь на американский оригинал.
11 Stanesco М. Gaston Paris et la tradition poetique: une hermeneutique de Pidentite II Le Moyen
Age de Gaston Paris I Sous la dir. de M. Zink. P., 2004. P. 46.
12 См. например: Oexle O.G. Op. cit. S. 3; Ziolkowski T. Das Neueste aus USA: Der Text als
Feind IIJDSG. Bd. 39. 1995. S. 454-462.
что умолчание кого-то из коллег о методе воспринимается просто как досадное упущение, которое надо бы восполнить13.
Под сомнение, между тем, действительно оказалась поставлена не только эпистемологическая ценность метода, но и сама совместимость, возможность сочетания практики инновации, научной революции, с выработкой методологии. Так, утверждается, что «главный метод революционных периодов - непосредственность», что «методом занимаются после поражения революций», метод возникает как следствие «послереволюционной фрустрации». Или, иначе: немецкий идеализм именно потому был столь занят проблемой метода, что консервативная Германия была лишена собственной Французской революции14. Может ли в таком случае обновление вообще быть методологичным? Происходит ли оно путем выработки некой новой методологии, или тем более следования неким сложившимся подходам?
В этом контексте метод предстает не как раз и навсегда преодолеваемая проблематика, а как постоянно возвращающееся явление, то есть, в конечном счете все-таки остающееся явление. Так, например, В. Сальников, рассматривая «превратности метода» в России, находит аналогии между ситуацией конца 1940-х - начала 1950-х гг., послевоенным стремлением к методологизации, и аналогичным «послереволюционным» стремлением вернуться к методу в конце 1990-х15. Оппоненты.В. Сальникова видят тему возврата к методу иначе16, но сама эта дискуссия, сама тема возврата и его условий, обнаруживает свершившийся разрыв с тем эпистемологическим понятием «метода», который был освящен Декартом. Еще более важно то,
13 «К сожалению, Спигел и Фридман не затрагивают вопроса об исследовательских мето
диках, используемых в новой американской медиевистике. Насколько отличаются они от
традиционных? Насколько обогащают арсенал исследователя?» Бессмертный Ю.Л. Иная
история (Вместо послесловия к статье П. Фридмана и Г. Спигел) // Казус: Индивидуальное
и уникальное в истории. Вып. 3. 2000. С. 174.
14 См., например: Литичевский Г. Любовь и метод // ХЖ. № 48/49. С. 12-34.
15 Сальников В. Превратности метода // ХЖ. № 48/49. С. 34-56.
16 См.: Осмоловский А. Пролегомены к методологическому принуждению // ХЖ. № 48/49.
С. 57-78. См. об этой проблематике также: Селунская Н.Б. Методологическое знание и
профессионализм историка // НИНИ. 2004. № 4. С. 24-41; Воронков В.М. Этот безумный,
безумный, безумный количественный мир // НЗ. № 3. 2004 С. 23-26; Филиппов А.Ф. Спор
о методах невозможен // НЗ. 2004. № 3. С. 41-45; Колосов Н.Е. К «спору о методах» // НЗ.
№ 3. 2004. С. 46-49; Уваров П.Ю. Указ. соч.
что эти современные дискуссии не только указывают на культурный характер интереса к методу, но снова обращают нас к его социальному, или, точнее, политическому значению.
Сохраняется ли метод, наряду с источниками и прочими старыми определениями новизны, составной частью работы историка или же он отрицается, является предметом важного решения, имеющего теперь, однако, второстепенное значение. Более важно определить, каковы те новые критерии оценки историографических работ, которые появляются после метода.
Данное диссертационное исследование посвящено как раз изучению того, как наряду со все еще сохраняющимися в историографии 1990-х гг. старыми проблемами познаваемости прошлого и связанным с ними поиском наиболее эффективного метода, способного эти проблемы разрешить, возникают иные вопросы и иные элементы работы историка. Исследование историком этих иных вопросов, его вклад в их обсуждение, и создает новые места инновации, дополняющие традиционные для историографии критерии новизны источников и исследовательских подходов.
«Новый медиевализм» возникает в конце 1980-х гг. как раз в ответ на общую маргинализацию эпистемологической проблематики в гуманитарном знании, и потому, на мой взгляд, может быть рассмотрен в качестве примера понимания новизны исторической работы в последующее десятилетие. Он интересен также тем, что находился в диалоге или противопоставлял себя самым разным историографическим направлениям 1970-1990-х гг., и, таким образом, его исследование способно дать многостороннюю картину историографии рассматриваемого десятилетия, отнюдь не ограничивающуюся лишь медиевистикой.
Критерии новизны, возникающие в 1990-е годы как в рамках самого нового медиева-лизма, так и заимствуемые им у других историографических направлений, сохраняют свою актуальность и позднее. Это связано с тем, что новейшие изменения в историографии происходят именно по отношению к контексту предшествующего десятилетия. А потому, для оценки тенденций современной историографии необходимо учитывать те возникшие ранее критерии создания нового, которым она следует или которые пытается оспорить. Без учета этих изменившихся критериев невозможно и написание сколько-нибудь адекватной истории историографии 1990-х гг. Этим и определяется актуальность данного исследования.
Степень изученности темы. Выбор темы обусловлен не только ее актуальностью, но и недостаточной степенью ее разработки в современной историографии.
Несмотря на важность вопроса о критериях новизны для всякого исторического исследования, существующие способы их рассмотрения нельзя признать удовлетворительным. Наличие фактических смещений в критериях новизны, совершаемых в отдельных историче-
ских исследованиях, и иногда даже оговариваемых во введениях и послесловиях к ним, не находит адекватного отражения в работах общего характера, среди которых следует упомянуть прежде всего обзоры состояния современной историографии. Имеются в виду обзоры исследований в медиевистике, о которой главным образом идет речь в диссертации. В различных монографиях, сборниках и отдельных статьях, опубликованных, начиная с 1991 г., видными немецкими, французскими, английскими и американскими историками, такими как М. Балар, Дж. ван Энген, Ж. Амесс, О.Г. Эксле, Ж. Ле Гофф, Ж.-К. Шмитт, М. Боргольте, Г.-В. Гетц, А. Герро, П. Расин, Й. Ярнут и др.17, речь идет о том, какие новые тенденции существуют в изучении неких предметных областей (средневековой экономики, правовых институтов, агиографии, истории женщин и т.п.), применительно к тому или иному периоду, в той или иной национальной историографии, в рамках неких научных центров. Тем самым, вопрос о новизне в этих обзорных исследованиях локализируется, оказывается применим лишь к небольшим и легко обозримым группам исследований, где новизна определяется простым сравнением существовавшего ранее с только что появившимся.
Это низведение поля сравнения до обозримых пределов, само стремление к такому низведению - явление для истории историографии сравнительно недавнее. Ранее, когда речь шла об открытии новых, совершенно неизученных источников, или о радикальном преображении историографии подчинением ее строгому научному методу, или же о
17 См.: Mediavistik im 21. Jahrhundert: Stand und Perspektiven der internationalen und interdis-ziplinaren Mittelalterforschung I Hg. H.-W. Goetz, J. Jarnut. Munchen, 2003; Racine P. Panorama de l'historiographie medievale francaise (1995-2000) IINRS. Anno 86. F. 2. 2002. P. 399-502; Anno 87. F. 1. 2003. P. 126-200; Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Age en France et en Allemagne I Ed. J.-C. Schmitt, O.G. Oexle. P., 2002; Guerreau A. L'avenir d'un passe uncertain: Quelle histoire du Moyen Age au XXI siecle? P., 2001; Goetz H.-W. Moderne Mediavistik: Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. Darmstadt, 1999; Borgolte M. So-zialgeschichte des Mittelalters: Eine Forschungsbilanz nach der deutschen Einheit. Munchen, 1996; Le Goff J., Schmitt J.-Cl. L'histoire medievale II CCM. Vol. 39. 1996. P. 9-25; Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung am Ende des 20. Jahrhunderts I Hg. O.G. Oexle. Gottingen, 1996; Bilan et perspectives des etudes medievales en Europe. Actes du premier Congres europeen d'Etudes Medievales (Spoleto, 27-29 mai 1993) I Ed. J. Hamesse. Louvain-la-Neuve, 1995; The Past and Future of Medieval Studies I Ed. J. van Engen. Notre Dame, L., 1994. L'histoire medievale en France. Bilan et perspectives I Ed. M. Balard. P., 1991.
введении методологического плюрализма, идея новизны неизменно была связана с идеей всеобщего, со способностью инноваций изменить наше знание о прошлом в целом. Историографические инновации рассматривались с общегуманистической точки зрения, с точки зрения значения каждого отдельного труда историка для общей истории человечества, для мирового культурного наследия. Теперь же, как показывают современные обзоры историографии, оказывается возможным говорить о том, что существует множество частных историй, и то, что ново для одной из них, не претендует на то, чтобы быть новым для другой (а фактически, может оказываться устаревшим). Так, например, у всех названных авторов и издателей обзорных трудов подчеркивается, что каждая национальная историографическая традиция имеет свою особую историю, и потому говорить о некой новизне в современной историографии в целом нельзя. Между историками разных стран возможен диалог, который способствует взаимному пониманию, однако не ведет к единству. Каждая национальная историография делится на еще более локальные школы и направления, со своими собственными частными историями, ни одна из которых не может быть подвергнута дискриминации с позиции какого-либо большого историографического повествования. И если следовать логике этих историографических обзоров, то новым сегодня может считаться все, что некто считает таковым18. Если так, то в современной ситуации под вопросом оказывается сама возможность говорить о какой-либо историографической новизне. Как справедливо отмечает Г.И. Зверева, говоря о ситуации рубежа 1990-2000-х гг., «в настоящее время историчность, относительность "новизны" того или иного явления в профессиональной историографии, равно как и ее познавательная и культурная "матричность" - вполне осознаются членами академического сообщества»19. Локализация понятия новизны в обзорах современных медиевистических исследований ведет, однако, не столько к решению, сколько к усугублению проблемы множественности и противоречивости столь важных для работы историка критериев новизны.
В связи с этим, большое значение приобретает рассмотрение самих исторических исследований, где происходит смещение критериев новизны - в частности, новомедиева-листских. В той мере, в какой смещение этих критериев становится предметом осмысле-
18 См.: Constable G. The Many Middle Ages: Medieval Studies in Europe as seen from America
II Bilan et perspectives des etudes medievales en Europe I Ed. J. Hamesse. Louvain-la-Neuve,
1995. P. 1-23.
19 Зверева Г.И. Указ. соч. С. 46.
ния для их авторов, такие исследования могут рассматриваться не только как источники, но и как историография по исследуемой проблеме. Здесь следовало бы назвать в первую очередь работы П. Зюмтора, Д. Пуарьона, М. Кэррутерз, С. Николса, Р.Х. Блока, Г. Белтинга, К. Биддик, Б. Стока, Г.М. Спигел, П. Фридмана, К.У. Байнум, М. Станеско, Г.У. Гумбрехта, Д.Л. Смэйла. Хотя обсуждение критериев новизны в этих исследованиях и предполагает взгляд на историографию в целом, тем не менее их недостатком, в смысле историографической представительности, является обсуждение, как правило, лишь некоего одного аспекта смещения критериев новизны, и в результате этого проблема отсутствия обобщающих исследований сохраняет свою насущность.
Нельзя признать удовлетворительными для рассматриваемой проблематики и культурологические постановки вопроса о новизне в 1990-е гг.20, в силу их как раз чрезмерно общего характера, не учитывающего специфику историописания. Хотя многие из рассматриваемых в этих исследованиях проблем носят междисциплинарный характер, и в силу этого затрагивают и историографию, в них, однако, не ставится вопрос о специфически историографических критериях новизны, и тем более предметом рассмотрения не становилась практика историописания, те конкретные процессы, что происходили в ней в рассматриваемый период времени.
Используя в качестве историографии по рассматриваемой проблеме не общие обзоры, а отдельные исследования, важно было не придти в результате к очередным локализирующим пониманиям новизны. В связи с этим, необходимо было избрать иной, чем в существующих обзорах историографии, подход к описанию конкретных исторических работ.
Методология исследования. Выбор подхода к рассмотрению критериев новизны определяется двумя вопросами, один из которых связан со специфическими для рассмотрения новизны проблемами, а другой - общеметодологическими вопросами в интеллектуальной истории, в частности, в истории историографии.
Во-первых, определяющей в выборе подхода была необходимость преодолеть локальных характер определений новизны. В связи с этим, кажется перспективным отказаться от толкования критериев новизны как атрибутов некоего идеального пространства сравнения. Такая постановка вопроса слишком гипотетична и абстрактна, поскольку даже самые крупные
20 См., например: GroysB. Uber das Neue: Versuch einer Kulturokonomie. Miinchen, 1992; Muller-Seidel W. Diskussion tiber das Neue in der Literaturwissenschaft: Fortschritte, Innovatio-nen, Moden II JDSG. Bd. 37. 1993. S. 1-Ю; Wirth U. Die Phantasie des Neuen als Abduktion II DVjs.Bd. 77.2003. S. 591-618.
библиотеки и международные конгрессы не дают всеобщей картины историографии, у исследователей на практике нет времени, чтобы заниматься такого рода глобальными сравнениями, и, следовательно, не эта всеобщая и объективная картина состояния исторических исследований служит формированию критериев, по которым оценивается новизна конкретной работы.
Основываясь на понимании новизны в исследуемых текстах, в данной работе предлагается определять ее не как результат сравнения, а как режим или соотношение. Именно в этом контексте особое значение приобретает не просто новизна, а критерии исследовательской новизны, то есть те принятые историками правила, по которым она устанавливается вне реально производимого всеобщего сравнения. Такие правила и критерии, их соотношение в каждом конкретном случае, и создают режимы новизны, которые поддерживаются различными историографическими институциями (редакциями журналов и книжных серий, оргкомитетами конференций, дирекциями институтов и деканатами факультетов, разными обществами и ассоциациями, советами и комиссиями). В той мере, в какой многие из этих институций способны выходить за рамки своего сугубо локального значения (в особенности, рассматриваемые в диссертации западноевропейские и американские институции), устанавливаемые ими критерии новизны оказываются действенными вне зависимости от самоопределений того или иного исследователя или группы исследователей, превосходя тем самым локальные определения новизны. Определение новизны как режима, то есть установленных правил ее определения, позволяет, таким образом, избежать ее локализирующих определений. Кроме того, оно позволяет оценить степень произвольности правил установления новизны, поддерживаемых той или иной историографической институцией, что, в конечном счете, открывает возможность их критики, пересмотра, а следовательно и иных, чем раньше, историографических новаций. В отечественно историографии не раз указывалось на ограниченность понимания новизны как «определенных моментов роста, преодоления, разрыва с каноном», при которых «легитимация и канонизация знания обозначает границу и конечность новизны»21. Соответственно, необходимо рассмотреть историографическую новизну как то, что как раз и связано с легитимацией и канонизацией, является результатом этих процессов.
Этим, однако, понимание новизны в качестве принятого соотношения различных ее критериев, режима ее установления, не ограничивается. Еще более важно понимание режима как соотношения логического. В этом смысле можно, с одной стороны, выделять фактическое положение историографии с ее локальными пониманиями новизны, где могут сохраняться
21 Зверева Г.И. Указ. соч. С. 54.
самые архаические представления о сути историографической работы, и где этих архаических представлений может придерживаться даже большинство историков, тем самым опровергая всякие попытки определить тенденции историографии исходя из количественного соотношения тематик публикуемых исследований; и, с другой стороны, могут выделяться тенденции историографии как способы и логика продумывания каких-то проблем (или отказа от их дальнейшего продумывания), независимо от того, сколько историков этим действительно занимается. То есть, тенденции историографии могут быть рассмотрены, во втором случае, в более традиционном смысле истории идей - то есть как раз в качестве развертывания некой аргументации, продумывания определенных идей, появления в рамках той или иной проблематики новых положений, для логической действенности которых, в принципе, даже не важно, кем именно они были выдвинуты и как широко они были приняты. И в этом смысле, в смысле развертывания некой проблематики, в историографии сохраняется не только понятие прогресса исторического знания, но и строгое понятие новизны.
С этим противопоставлением двух видений историографии и понятия новизны связан второй вопрос, определивший выбор исследовательского подхода в диссертации. Историография может быть проанализирована как совокупность социальных и культурных практик, или же, более традиционно, как история идей. Эти две позиции в истории историографии, и, шире, в истории научной мысли и в интеллектуальной истории, долгое время противопоставлялись как «экстернализм» и «интернализм», то есть как описание научного направления извне или изнутри. Описывая некое научное направление можно придерживаться тех критериев его оценки, которыми пользуются сами представители этого направления, обращать внимание на то важное, что представляется важным им, или же, избрав внешнюю позицию, сознательно принять иные, неадекватные этому направлению критерии, обращая внимание как раз на то, о чем его представители не считали нужным задуматься.
Интерналистские описания во второй половине XX века неоднократно подвергались критике за чрезмерную привязанность к собственной дисциплине, к ее воспринимаемым в качестве естественных рамкам, за неспособность видеть альтернативы собственному (преобладающему) научному направлению, что ведет как к выстраиванию детерминистских и телеологических концепций прошлого историографии, так и к исключению определенных возможностей развития в современной историографической ситуации. В экстернализме виделась возможность задавать историографии гораздо более широкий круг вопросов, ставить под сомнение то, что кажется само собой разумеющимся внутреннему наблюдателю, и тем самым достичь более глубокого критического переосмысления работы историка. Внешняя
позиция наблюдателя и создаваемая ею дистанция делали возможным более аналитический подход, чем взгляд на научную деятельность историка с позиции единомышленника. С этим были связаны многочисленные исследования по социальной и культурной истории историографии и других научных областей, по истории «социального конструирования знания» и т.п.22 В последнее десятилетие, однако, сами крайности экстернализма стали все чаще подвергаться критике. Его аналитический подход, как оказалось, основывается на целом ряде некритических допущений, что ведет к еще большей мифологизации научной деятельности и делает ее уязвимой для политических манипуляций.
Для данного исследования наиболее важна критика экстернализма за то, что, акцентируя незамеченное и непродуманное внутренним наблюдателем, используя заведомо неадекватные рамки рассмотрения, он тем самым лишает себя возможности диалога с этим исследователем, противопоставляет себя ему. Это привело как в историографии, так и в других науках, в том числе естественных, к известной враждебности между «практикующими» исследователями и «теоретизирующими» историками науки, чья деятельность стала восприниматься как помеха нормальным занятиям ученого23. В работах последнего времени был поставлен вопрос о том, каковы могут быть исследования историографии, которые не будут воспроизводить это ненужное противостояние24. В связи с этим, говорится о необходимости преодоления строгой оппозиции «интернализма» и «экстернализма», о возврате к интерналистскому походу с учетом критического опыта экстернализма25. Именно такой подход позволяет не разрушать работу исследователей, превращая ее в без-
22 См.: Shapin S. Discipline and Bounding: The History and Sociology of Science as Seen
Through the Externalism Debate II History of Science. Vol. 30. 1992. P. 334-369; ChartierR.
Histoire intellectuelle et histoire des mentalites II Idem. Au bord de la falaise: L'histoire entre
certitude et inquietude. P., 1998. P. 27-66; Репина Л.П. Интеллектуальная история сегодня:
проблемы и перспективы // ДВ. Вып. 2. 2000. С. 5-13.
23 См. об этом, в частности: Уваров П.Ю. Указ. соч. С. 303-304.
24 «Нужны ли еще новые руины среди тех, что уже есть?» - спрашивает Б. Латур в своей
статье «Почему критика сбилась с пути?»: Latour В. Why Has Critique Run out of Steam?
From Matters of Fact to Matters of Concern II CI. Vol. 30. No. 2. 2004. P. 225-248.
25 Hacking I. The social construction of what? Harvard, 1999; Latour B. L'espoir de Pandore:
Pour une version realiste de l'activite scientifique. P., 2001; Hacking I. Historical Ontology.
Cambridge (Mass.), 2004.
жизненный объект историографического анализа, а соучаствовать в исследовании, создавая для него новые возможности.
Этому обновленно-интерналистскому подходу следует и данная работа. С одной стороны, для анализа историографии используется в целом «экстерналистское» по своему характеру определение новизны и ее критериев. Хотя вопрос о новизне и ставился многими историками в 1990-е гг., еще большее их количество, даже в рамках нового медиева-лизма, в действительности им не задавались, и потому можно сказать, что анализу историографии служит внешняя ей концептуальная рамка. С другой стороны, однако, диссертация «интерналистски» подходит к реконструированию развития новомедиевалисткои проблематики, выявлению важной для ее становления аргументации, последовательности возникновения проблем, их взаимосвязей, что позволяет лучше представить логику и живую динамику этих дискуссий, и тем самым избежать упрощенного представления как этого, так и других, связанных с ним, историографических направлений.
Источниковая база. Проблема новизны исследуется на примере нового медиевализ-ма, одного из центральных направлений в изучении Средневековья в американской и западноевропейской историографии. Отбор исследуемых текстов и ракурс их рассмотрения был подчинен поставленной в диссертации проблеме - проследить изменения критериев новизны. В связи с этим, исследуемые работы относятся к двум категориям: во-первых, это собственно новомедиевалистские исследования, и, во-вторых, это исследования из других областей, которые позволяют проанализировать происходящие в рамках нового медиевализма изменения в более широком историографическом контексте.
Круг собственно новомедиевалистских работ определяется изменениями понятия «новый медиевализм» в течение 1990-х гг. До середины 1990-х гг. это понятие, хотя и обозначало определенную совокупность исследовательских принципов, было, тем не менее, связано с работами одной, хотя и довольно значительной, группы исследователей. Это, прежде всего, работы С. Николса, Р.Х. Блока, Г.У. Гумбрехта, Д. Халта, Г.М. Спигел, Л. Паттерсона, 3. Венцеля, М. Кэмилла, С. Фляйшман, П. Маккрекен и др.26 Хотя к этой группе принадлежали исследователи из разных стран (датчанин П. Нюкрог, французы П. Зюмтор, Д. Пуарьон, Р. Драгонетти, Ш. Мела, Б. Казелль, А. Корбеллари, М. Занк,
26 Следует особенно отметить появление в 1991 и 1996 гг. двух сборников: The New Medievalism / Ed. by К. Brownlee, M.S. Brownlee, S.G. Nichols. Baltimore, 1991; Medievalism and the Modernist Temper / Ed. by R.H. Bloch, S.G. Nichols. Baltimore, 1996.
А. Буро, немцы Г.У. Гумбрехт, Р. Варнинг, Я.Д. Мюллер и др.), «новый медиевализм» этого времени был преимущественно американским, и соответствующие французские и немецкие обозначения («medievisme nouveau», «neue Altgermanistik») не получили распространения.
Однако постепенно, уже в начале 1990-х гг., и особенно с середины этого десятилетия,
«новый медиевализм» стал пониматься гораздо более широко, вне связи с конкретной груп
пой исследователей. Как исследовательская концепция он обрел самостоятельность, и новыми
медиевалистами в это время могли называть себя также авторы, никак не участвовавшие в из
дании сборника «Новый медиевализм» и других программных для этого направления изда
ний. С другой стороны, стало возможным описывать в качестве новых медиевалистов тех ис
ториков, которые сами не обозначали себя в качестве таковых, и даже применять это понятие
ретроспективно, по отношению к институционально не связанным с проектом «новый медие
вализм» работам конца 1980-х - начала 1990-х гг. Соответственно, это делает необходимым
расширение круга рассматриваемых текстов, которые имеют взаимодополняющее значение -
в той мере, в какой «новый медиевализм» как общая концепция понимается по-разному, и ни
какое исследование в силу этого не способно воплотить в себе все его понимания. В то же
время, существует множество точек пересечения между взглядами на задачи нового медиева-
лизма, и как раз исследование широкого круга текстов позволяет их выявить. »
Первоначальными критериями отбора исторических работ применительно к этому хронологическому отрезку служили их цитирование в контексте новомедиевалистской проблематики, публикация в новомедиевалистских книжных сериях («Figurae» в издательстве Стенфордского университета, «Medieval Cultures» в издательстве университета Миннесоты, «Conjunctions of Religion & Power in the Medieval Past» в издательстве Корнеллского университета, «Parallax» в издательстве Университета Джонса Хопкинса, «New Middle Ages» в издательстве Палгрейв, «Material Texts» в издательстве Пенсильванского университета и др.), публикация авторами этих работ статей в журналах «Journal of Medieval and Early Modern Studies», «Representations», «MLN», в специальных, посвященных Средневековью, номерах «Yale French Studies» и в журнале «Speculum» периода редакторства Р. Эмерсона. Не менее важным критерием были, однако, и внутренние признаки, а именно общность рассматриваемых проблем, наличие общих отсылок, использование схожей терминологии, что позволяло включать в круг рассматриваемых текстов не только американские, но и европейские исследования, которые в меньшей мере поддаются точной идентификации по издательствам, книжным сериям или журналам. Тем самым, в диссертации ставится под сомнение существующая в некоторых историографических обзорах тенденция рассматривать новый ме-
диевализм на его поздней стадии как исключительно или хотя бы преимущественно американское явление27. Интернациональный характер нового медиевализма отмечался уже Ю.Л. Бессмертным28. Кроме работ тех авторов, которые исследовались применительно к началу 1990-х гг., и чьи работы продолжали выходить и позднее, в качестве важных новоме-диевалистских исследований конца этого десятилетия следует также назвать книги и статьи А. Вайсл, Дж.Дж. Коэна, К. Биддик, С. Томаш, Д.Л. Смэйла, К. Диншоу, П.И. Даттона, Дж. Эффрос, Б. Холзингера, П. Хаймса, Ш. Фармер, Б. Розенвейн, С. Джегера, М. Кобялки, Ш. Макшеффри, П. Фридмана, У .Я. Миллера, Д. Ниренберга, М.Б. Прангера - в США и Великобритании, Р. Шнелля, Т. Байна, У. Петере, А. Шульца, Г. Белтинга - в Германии, Р. Рехта, Ф. Бюка, М. Станеско - во Франции, и др.
Среди работ, служащих формированию более широкого контекста, в котором рассматривается «новый медиевализм», следует назвать исследования, принадлежащие историкам различных поколений школы «Анналов» во Франции (Ф. Бродель, Э. Леруа Ладю-ри, Ж. Ле Гофф, Ж.-К. Шмитт), фрайбургско-мюнетерской (Г. Телленбах, О.Г. Эксле, Г. Альтхоф, М. Боргольте), констанцкой (Г.Р. Яусс, К.Х. Штирле, В. Изер), мюнхенской (М. Шульц, Б. Кваст, У. Фридрих), билефельдской (Р. Козеллек, М.Миттерауэр, У.Фреверт, Б.Юссен) школ и люцернского кружка (П. фон Моос, В. Гребнер, Г. Маршаль, А. Хан) в Германии и Швейцарии, работы итальянских, немецких и французских микроисториков (Э. Гренди, Ж. Ревель, Г. Медик, А. Людтке), представителей нового историзма (С. Гринблат, К. Галлахер, Л. Монтроз), культурной истории (Р. Дарнтон, Н.З. Дэвис, Л. Стоун), йельской критической школы (Ш. Фельман, К. Кэрут), интеллектуальной истории (М. Джэй, Дж. Крэри) и постколониальной историографии (Э. Сайд, Г. Пракаш, Дж. Комаров) в Великобритании и США, исследования по истории болезней и увечности, тендерной истории, истории евреев, военной истории, истории права, истории климата и окружающей среды во всех названных странах, а также Австрии и Израиле.
Спигел Г.М., Фридман П. Указ. соч. 28 Бессмертный Ю.Л. Это странное прошлое... // ДВ. Вып. 3. 2000. С. 34-46; Он же. Тенденции переосмысления прошлого в современной зарубежной историографии // ВИ. 2000. № 9. С. 152-158. На иные аспекты интернационального характера нового медиевализма указал позднее Б. Холзингер: Holsinger В. Medieval Studies, Postcolonial Studies, and the Genealogies of Critique II Speculum. Vol. 77. 2002. P. 1195-1227.
Стремление новых медиевалистов к междисциплинарному исследованию Средневековья потребовало также учитывать в некоторых случаях работы по социальной антропологии (М. Ожэ, М. Салинз, К. Гирц), искусствоведению (Э. Панофски, Г. Зедлмайер, П. Кидсон), литературоведению (Р. Барт, С. Фиш), лингвистике (Ж.-Л. Лебрав, П. Делькамбр), философии (Дж. Агамбен, С. Жижек, Э. Лаклау, М. Зеель) и даже нейрофизиологии (Г. Рот, В. Зингер).
Хронологические рамки исследования. Хронологические границы работы определены особым значением 1990-х гг. в изменении критериев новизны в современной историографии. Это десятилетие совпадает с существованием «нового медиевализма», появляющегося в конце 1980-х гг., и считающегося преодоленным уже к концу 1990-х. Вместе с тем, более широкий контекст, в котором рассматривается «новый медиевализм», требует учета многих текстов, написанных как в более раннее время, главным образом в 1970-е -середине 1980-х гг., так и позднее, в самом конце 1990-х и 2000-е гг.
Цель и задачи исследования. Выявление специфики понимания новизны в историографии 1990-х гг. на примере нового медиевализма и связанного с ним более широкого историографического контекста является основной целью данного исследования. Исследуемый материал позволяет поставить следующие исследовательские задачи: 1. Проанализировать, как отдельные авторы интерпретируют понятие новизны, то есть, применительно к исследуемым текстам, в чем видится новизна нового медиевализма, как она описывается, и каково значение порой существенных расхождений в интерпретациях этого историографического направления даже в работах наиболее близких к нему историков. 2. Выявить основные поворотные моменты в ходе дискуссий о новизне, основные этапы их протекания, различные направления дискуссий, а также исследовать момент их прекращения, перехода в проблематику другого рода. 3. Определить, каковы составные части работы историка, которые в рамках нового медиевализма представляются наиболее инновационными; на каких этапах работы с источниками, поиска исследовательского подхода или иных историографических операций происходят такие изменения, которые рассматриваются в 1990-е гг. как ведущие к появлению нового? 4. Изучить, каково соотношение различных составляющих понятия новизны, появляющихся в 1990-е гг., в какой мере они дополняют или сменяют друг друга, что происходит со старыми критериями новизны. 5. На основании изученного материала охарактеризовать те следствия, которые имеет появление новых критериев новизны для написания истории историографии 1990-х гг.
В задачи исследования, таким образом, не входит учитывание всех аспектов нового медиевализма, он представлен в диссертации лишь в той степени, в какой это необходимо для рассмотрения проблемы критериев новизны и их изменения в изучаемый период времени.
Научная новизна работы. Недостаточная разработанность в отечественно и зарубежной историографии как проблемы критериев новизны, так и истории нового медиевализма, обусловливает новизну исследования. Как уже говорилось, в нем иначе, чем в существующих обзорных трудах по историографии 1990-х гг. ставится вопрос о критериях новизны исторического исследования. Не менее важно и то, что на основании изучения разных исследовательских текстов впервые в отечественной и зарубежной историографии предпринимается многостороннее описание нового медиевализма в широком контексте как современной, так и предшествующей ему научной ситуации. Комплексно изучается вклад нового медиевализма в разработку истории западноевропейского Средневековья, проводится анализ концепций различных представителей данного историографического направления.
Структура работы. Исследование состоит из трех частей, каждой из которых соответствует отдельная глава.
Задачей первой из них является, в продолжение сказанного во введении, описать отход историографии 1990-х гг. от эпистемологической проблематики и связанных с ней методологических проблем и рассмотреть возникновение того нового поля, в котором оказывается возможно смещение критериев новизны. Поэтому прежде всего (1.1) следует рассмотреть вопрос об исторической инаковости, то есть о той дистанции, как бы она конкретно ни понималась, которая отделяет прошлое от настоящего. Именно непреодолимость этой дистанции, абсолютный характер основанного на ней различия между прошлым и нашим знанием о нем, делали необходимой эпистемологическую проблематику. В той мере, в какой историк не может вернуться в прошлое, он не может избавиться от связанных с исторической дистанцией проблем. Именно здесь оказывается важна новоме-диевалистская трактовка проблемы инаковости, которая рассматривается в следующем параграфе (1.2.): что, если историческая дистанция не является следствием существования прошлого и его репрезентации, если она не вторична, а первична, то есть изначально возникает различие, и лишь оно делает возможным существование реальности и ее репрезентации? Если это так, то нельзя ли работать с этим различием, изменяя границы вводимых им противопоставлений? Этот вопрос делает слишком узкими границы культурной истории средних веков, в основе которой - историческая семиотика с ее тотализирующим и внеисторическим утверждением о знаковой природе всех вещей, автономии смысла и т.д.
Вместе с тем, в ранних новомедиевалистских исследованиях постоянно используются написанные в рамках культурной истории работы об историческом изменении и различных его моделей - используются, однако, совершенно иначе, чем раньше: не для того, чтобы просто описать некую прошлую культуру, а для того, чтобы поставить вопрос о возможностях иных пониманий исторической дистанции, иных темпоральных моделей в сегодняшней историографии. При этом важными оказываются вопросы, которые будут рассмотрены в третьем параграфе (1.З.): насколько пригодны, по разным причинам, линейные или циклические модели времени, независимо от того, рассматриваются ли они как одноуровневые или многоуровневые? (1.3.1.) Как можно себе представить, и главное, реализовать в отношении к прошлому некую иную темпоральную модель? Насколько вообще темпо-ральна проблема исторической дистанции? (1.3.2.) Эти вопросы неоднократно ставились в историографии конца XX века, в связи с пространственной опосредованностью всяких образов времени. Но еще более важна оказывается средневековая традиция, где проблема воспоминания рассматривается как прежде всего пространственная, а не темпоральная (то есть в традиции Цицерона, а не Аристотеля). Новомедиевалистские исследования средневековой мемориальной и исторической культуры ставят, в связи с этим, еще два важных вопроса: как конкретно выглядит эта пространственность отношения к прошлому, насколько она может быть убедительна для нас сегодня, и как именно может выглядеть работа с прошлым как «создание мест»? И второй вопрос: если мы обращаемся к средневековым пространственным практикам отношения к прошлому, то каково при этом понимание пространства, чем оно отличается от того, которым пользуется историк XX в.? Здесь возникает и проблема различных конфигураций исторического пространства, количества его измерений и об опыта конструирования подобных иных пространств в XX в. Речь идет о том, что позднее в некоторых работах получило название «пространственного поворота в историографии». Вопрос о пространстве важен потому, что оно оставляет больше возможностей для передвижения, для изменения границ, чем это возможно в случае со временем. Последний параграф этой главы (1.4.) будет посвящен, во-первых, соотношению критики ориентализма (у Э. Сайда) и нового медиевализма, который во многом переносит пространственную саидовскую проблематику на, как считается, темпоральное по своей природе отношение новоевропейской культуры к средневековому прошлому («деколонизация Средневековья»). И во-вторых, речь пойдет о конкретных исследованиях средневекового пространства и характерных для него соотношений сфер «своего» и «чужого». Этот последний параграф, с одной стороны, имеет целью продемонстрировать на ряде примеров,
как конкретно разрабатывается в исследованиях по Средневековью 1990-х гг. пространственная проблематика. С другой стороны, он должен также показать, что та проблематика пространства, о которой говорилось в параграфе 1.З., не получает прямого продолжения, она не ведет к возникновению исследований о том, «как мы можем помыслить» иную тем-поральность или иные пространственные конфигурации, и в этом смысле новый медиева-лизм все-таки избегает возвращения к метафизически-эпистемологической проблематике. Прослеживаемый разрыв в исследованиях позволяет выделить последующую проблематику в отдельную главу. Этот круг проблем, однако, оказывается возможен именно благодаря тому, что историческая дистанция лишается своего абсолютного характера - а значит, становится возможно работать с ней. Вопрос, однако, в том, насколько пригодно для такой работы то место (в понимании «места историописания» у Серто), которое занимал историк в рамках «старого медиевализма», исходя из которого он рассматривал прошлое, будучи надежно отделен и защищен от него. Не делает ли пространственность историографии невозможным дальнейшее пребывание историка в этом месте? Поэтому следующая (2) глава будет посвящена как раз пространству нового медиевализма и его границам.
Вторая глава состоит из пяти параграфов. Первый из них (2.1) является вводным, и в нем разъясняется проблема «места историка» в пространственной историографии, которое не определяется более абсолютной исторической дистанцией. В нем ставится вопрос о том, чем может быть историография, имеющая дело с «присутствием» прошлого. В следующем параграфе (2.2.) с его четырьмя подразделами речь пойдет о различных пониманиях термина «медиевализм», который как раз и подразумевает актуальность, современность, присутствие средневекового прошлого, как в историографии, так и в более широком социокультурном контексте. При этом традиционной проблематике исследований медиевализма будет противопоставляться переосмысление места историка перед лицом присутствующего прошлого в новом медиевализме. Эта возможность присутствия прошлого, то есть совпадения мест прошлого и историографии, важна потому, что преодолевает представление об объективном ходе истории, то есть о том, что история делается где-то еще, но только не в работах историка, которому лишь остается «вечно опаздывающее» наблюдение за ней. Поэтому в следующем параграфе (2.3.) должны быть последовательно рассмотрены два вопроса. Во-первых (2.3.1.) - об отношении нового медиевализма к социальной истории науки, то есть возможность перевернуть традиционную для нее постановку вопроса: если научная деятельность социальна, если она определяется социальными практиками, то каким образом иная, чем раньше, исследовательская деятельность может изме-
нять социальные практики. Во-вторых (2.3.2.) - вопрос об отношении нового медиевализ-ма к презентизму: означает ли «медиевализм» как присутствие прошлого замыкание в настоящем, сведение прошлого к настоящему, из которого можно лишь угадывать и предсказывать, что наступит в будущем; или же «присутствие» истории означает как раз введение в историографию измерения будущего (без которого невозможно и измерение прошлого)? В обоих этих подразделах важным вопросом должна стать возможность избежать, с точки зрения нового медиевализма, казалось бы, непреодолимой для историка (со времен Макиавелли) альтернативы, заставляющей его выбирать между местом слуги и местом суверена. До сих пор присутствие истории было возможно лишь для определяющего ее суверена, неспособного, однако, к исторической рефлексии из-за нехватки времени. Если же историк, по ряду причин, противопоставляет себя как фигуре «вечно запаздывающего» слуги, так и фигуре суверена, то как описать это его иное место, и чем может быть для не-го присутствие прошлого, какова тогда историографическая, но, следовательно, также и историческая инновативность? Эти два вопроса будут рассмотрены в четвертом параграфе этой главы (2.4.). Сначала (2.4.1.) речь пойдет об эмоциональной затронутости прошлым (тема присутствия как «прикосновения прошлого» имеет в новом медиевализме особое значение) и об изменениях в трактовке этой проблематики с начала 1980-х (и даже более раннего времени) до 1990-х гг.: о становлении в рамках культурной истории образа легитимного и освобождающего «удовольствия от прошлого» и его дискредитации в последующем. Вторая часть этого параграфа будет посвящена эмоциональной негативности в историографии 1990-х гг., которая противопоставляется семиотическому порядку культурной истории, с ее понимающим отношением к прошлому. Этот подраздел имеет принципиальное значение для данного исследования, поскольку в нем рассматривается то, как понимается новым медиевализмом возникновение исторического и историографического различия, о приоритетности которого говорится во втором параграфе первой главы. То есть, речь пойдет о происхождении иной, чем в культурной истории, практики историографической инновации. Тому историческому различию, с которым работает культурная история с ее герменевтическими операциями, противопоставляется новомедиевалистское «чистое различие», и этому ключевому для нового медиевализма понятию будет посвящен заключительный параграф этой главы (2.5.).
В третьей главе я намерен вернуться к пространственное историографии, но уже в связи с собственно проблемой топологии новизны в новом медиевализме, вопросом о том, где следует локализировать все описанные в предыдущих главах изменения, как оп-
ределить то место, где возникает новое в новом медиевализме. Эта глава отличается от других тем, что в большей мере воспроизводит последовательность вопросов, как они возникали в процессе моей конкретной работы с текстами исторических исследований. В первом параграфе (3.1.) этой главы рассматриваются несколько примеров новомедиевалист-ских исследований, относящихся к области социальной истории литературы, интеллектуальной истории и истории ментальностей. Цель рассмотрения этих примеров -проследить, каким образом изменяется в новом медиевализме отношение к старым критериям новизны, источникам и методам. Ставится вопрос о том, в какой мере они остаются неотъемлемой частью работы историка, что здесь меняется, в какой мере происходящие изменения могут быть локализированы в этой области. Во втором параграфе (3.2.) я намерен обратить внимание на то, что не может быть отнесено к сфере источников и методов. В частности, в связи с этим следует отметить важность для новых медиевалистов написания теоретических комментариев к собственным работам. Эти комментарии, создающие особый контекст для конкретных исследований, и тем самым изменяющие их прочтение (при всей видимой идентичности просто исследований, исследований самих по себе, тому, что было раньше), отличаются от тех моделей комментирования, что существовали ранее, и потому должны быть рассмотрены как новый элемент работы историка. Третий параграф (3.3) посвящен некоторым ключевым моментам предыстории новомедиевалистского комментирования, а также тому, как историографический комментарий перестает быть просто дополнением к основному тексту. Эта способность комментария занимать место основного текста, а основного текста - место комментария, наличие динамического соотношения между ними, рассматривается в четвертом параграфе (3.4.) как одна из основных отличительных черт нового медиевализма. Именно такое соотношение комментария и текста позволяет избежать той однозначной локализации пространств прошлого и пространства историка, о которой говорилось в предыдущих главах, но одновременно и сохраняет различие между ними, делая работу с этим различием основной задачей историка. Превращение комментария в приоритетное место историографической инновации в заключительном параграфе этой главы (3.5.) будет рассмотрено, во-первых, как необходимое следствие той деэпистемологизации историописания, о котором говорится в первой главе, и во-вторых, в связи с проблематикой второй главы, как реализация того «чистого различия», которое рассматривается многими историками 1990-х гг. как источник и наиболее предпочтительная форма историографической инновации.
В заключении будут подведены основные итоги исследования.
Объективное отличающееся и культурно иное прошлое в старом медиевализме
Наиболее ранним из них является представление о своеобразии Средневековья как такового. Можно сказать, что в этом случае речь идет о «внешних», «объективных» или «материальных» отличиях этой эпохи. К примеру, феодальная экономика была иной по отношению к капиталистической, средневековый символизм - иным по отношению к современному, положение женщин в Средние века было не таким, как сейчас, восприятие телесного различалось, и так далее. Объективность отличий не препятствует рассмотрению прошлого при помощи современных понятий, таких как «формы государственности», «экономики», «индивидуальности», «символизма», «фемининности/маскулинности», «телесности» и т.д.
При всех своих существенных различиях явления средневекового мира и современного, или же средневекового и античного, сопоставимы, и именно в таком сопоставлении их своеобразие может быть выявлено. При этом такое сопоставление не обязательно должно отличаться эволюционизмом или телеологичностью, хотя косвенно и склонно к этому, поскольку подразумевает хотя бы имплицитное существование во все времена государственности, экономики, символизма и т.д. Эти явления могут быть выявлены в прошлом и изучены независимо от того, насколько используемые для их обозначения понятия соответствовали сознанию людей того времени, их самовосприятию. События прошлого могут иметь объяснения, к которым были не способны люди прошлого, как например климатические изменения.
Отличие современного общества от прошлого проблематизируется в рамках этого подхода в той мере, в какой он стремится искоренить анахронизмы - то, что объективно не принадлежит исследуемому времени. В этом смысле историк не должен «модернизировать» Средневековье, переносить в прошлое элементы современной ему реальности. Симметрично борьбе с анахронизмами возникает проблема ложной экзотизации Средневековья, рассмотрения его как целостности, слишком строго отграниченной от Нового времени.В силу этого, для такой медиевистики с ее объективным пониманием отличий характерны споры о границах Средневековья, о средневековых Возрождениях (от Ч.Г. Хаскинса до С. Джегера10) и Реформациях (Б. Болтон, Р. Маккитерик11), о возникновении новоевропейского индивидуума (от Я. Буркхардта до П. Хайду12), конце античной и начале новоевропейской экономики (А. Пиренн, Ж. Дюби, Ф. Бродель13), обретении народными языками способности быть средством выражения в таких областях, где раньше могла использоваться лишь латынь (Х.Ф. Мюллер, Ф. Лот, М. Рихтер14) и пр., вплоть до сложных конструкций многоуровневых темпоральностей, обладающих различной длительностью временных структур, в рамках которых переходы от одной эпохи к другой хронологически не совпадают (Ф. Бродель, Р. Козеллек, Г. Роза15), из чего может следовать, что всякое историческое изменение относительно, ибо внутри всякого периода могут быть выделены и различия, и преемственности, а преобладание того или иного аспекта зависит от избираемой исследователем перспективы (Л. Стоун). Все это, в конечном счете, приводит к сложной проблеме исторической периодизации16.
Дискуссии такого рода продолжаются уже долго, это довольно старое понимание отличий Средневековья от Нового времени, что, однако, не означает исчерпанности и неактуальности темы. В этих дискуссиях могут появляться и ранее не использовавшиеся аргументы, имеющие отчетливо актуальную значимость. Так, например, английский медиевист Джулия Смит в 2000 году поставила вопрос о том, имел ли место конец римской империи в женской истории . Статья Смит как бы дополнила вышедшую в 1984 году книгу Дж. Келли «Женщины, история, теория», в которой ставилось под сомнение существование у женщин эпохи Возрождения18. Примерно тогда же, когда появиласть статья Смит, ее американская коллега К. Бидцик увидела в выделении «средневековой эпохи», со свойственным этому понятию европоцентричным универсализмом, своего рода исторический колониализм: так, перенесенное в индийскую историю для описания времен индуистского, мусульманского и британского господства, деление на Древность, Средневековье и Новое время служит дискриминации мусульманского периода как «мрачной эпохи»19. Еще ранее Э. Леруа Ладюри писал о том, что делению на Древность, Средневековье и Новое время не подчиняется «неподвижная история» европейского крестьянства . В 2003 году П. Скиннер обратила внимание на столь же особый ритм истории европейских евреев21. По мнению Скиннер, даже общепринятое сегодня использование понятия «Средневековье» просто как условного обозначения для времени между 500 и 1500 годами не является абсолютно нейтральным, поскольку само выделение этих хронологических рамок несет в себе подсознательное пренебрежение историей целых групп населения средневековой Европы, для которых, к примеру, распространение христианства могло не быть (наиболее важной) составной частью их прошлого.
Наконец, совсем недавно тема преемственности со Средневековьем приобрела особую насущность в дискуссии именитых медиевистов (Ж. Ле Гофф, М. Миттерауэр, М. Боргольте и др.) об истоках культурного единства современного Евросоюза22. Однако как раз эта, можно сказать, самая актуальная, дискуссия особенно хорошо показывает, насколько далеко современные обсуждения вопроса о границах времен на самом деле ушли от того образа объективного времени, который существовал еще для Пиренна, Лота и даже Козеллека.
Так, руководимый Ж. Ле Гоффом проект «Сотворение Европы» («Faire ГЕигоре») критикуется за волюнтаризм и телеологизм, заключающийся в повторении для Европы той историографической работы, которая была проделана по отношению к нациям в конце XIX века23.
«Различие»: от исторической семиотики к новому медиевализму
Еще Деррида, равно как и Хайдеггер, остается в рамках представления о том, что изначальна действительность, а ее репрезентация вторична, изначальное лишь оказывается теперь фантазмом, а его репрезентация - единственной реальностью.
Новые медиевалисты, однако, утверждают, что первичными не являются ни реальность, ни ее репрезентация, и тем самым разрушают всю предшествовавшую им диалектику познания. И знаку, и реальности предшествует их различение - третий элемент конструкции, который оставался невидимым для «старых медиевалистов» и который оказывается в центре внимания теперь. Репрезентация и присутствие в равной мере вторичны по отношению к акту разделения, который вводится в целое мира таким образом, что пространства репрезентации отделяются от пространств присутствия. Лишь путем введения этого различия мы обретаем возможность говорить и о том, и о другом. И репрезентация, и присутствие функционально зависят от фигуры различия и следуют из нее. Эта фигура различия, таким образом, есть подлинно фундаментальная. Как таковой, ею нельзя пренебрегать, и тем более воспринимать ее как препятствие или простое отсутствие. Именно такого рода пренебрежение, однако, можно увидеть в «старомедиевалистской» культурной истории. Она стремится к наиболее полной интерпретации и репрезентации прошлого, к учету наиболее маргинальных значений, желает свести объективно существующее различие реальности и репрезентации к минимуму, хотя и признает его принципиальную непреодолимость. «Новый медиевализм» отказывается от этого желания, и этот отказ не повторяет те, что уже известны из историографии.
Так, еще Ж. Дюби писал о том, что сами факты прошлого недостижимы, поскольку не существуют как таковые, независимо от людей: они всегда являются чьим-то свидетельством, результатом интерпретации, и потому историку следует интересоваться не тем, что скрывается за этими свидетельствами, а самими более или менее сознательными представлениями, ментальностями людей прошлого37. Но при этом сами свидетельства, сами репрезентации, переставали для Дюби существовать как таковые, они утрачивали свою медиальность, превращаясь в другой объект реальности. Воображаемое у Дюби перестает дискриминироваться, приравнивается к другим явлениям прошлого, но тем самым и лишается своего отличия от них. Причину этой неспособности Дюби сохранить за репрезентацией статус репрезентации можно увидеть в том, что отказавшись преодолевать различие между репрезентацией и реальностью, он одновременно исключил это различие из своего поля зрения. Проблема различия возникает, таким образом, из признания несостоятельности предшествующей исследовательской дихотомии, не способной, как оказалось, помыслить ни реальность (она есть лишь интерпретация, объективная истина недостижима), ни репрезентацию (она мыслится по старой модели реальности). Лишь сохранение различия позволяет говорить о реальности и репрезентации.
Отказ от преодоления различия между реальностью и знаком нельзя понимать и так, что раньше понятие «инакового прошлого» (существования различия между средневековой реальностью и ее современной репрезентацией в работах медиевистов) служило наиболее полному объяснению или пониманию особости прошлого, и, таким образом, его приближению к современному читателю, а теперь, вопреки прежней исследовательской логике, различие вводит абсолютную временную дистанцию, чтобы сделать ее непреодолимой.
В рассмотрении новоемедиевалистских работ важно не упустить то, что отказываясь от «гегемонии метода», новый медиевализм вовсе не стремится создать негативную эпистемологию, оставаться в рамках старых противопоставлений. Вместо этого, новый медиевализм, по словам Стивена Николса, стремится «поставить под вопрос и переосмыслить те представления, которые ныне лежат в основе медиевистики, понимаемой в самом широком смысле» . Одним из таких ключевых представлений как раз и является различение реальности и репрезентации, а также связанные с ним соотношения своего и чужого, субъектного и объектного.
В том, что касается историчности этих представлений, новые медиевалисты (С. Николе, Ю. Вэнс, Р.Х. Блок, П. Зюмтор и др.39) исходят прежде всего из исследований средневековой семиотики в 1970-80-е годы (в частности, написанных в те годы ими самими). В конце 1990-х эти работы по исторической семиотике уже были бы отнесены к «ста-ромедиевалистским», но в 1991 году Николе видит еще новый медиевализм как проект, преемственный с этими более ранними исследованиями. Так, Николе особо указывает в своем введении к сборнику «Новый медиевализм», что это направление включает в себя проблематику того, что особого есть в средневековых отношениях репрезентации и мимезиса.
Внимание к самому различию для Николса еще во многом связано с дискуссиями 1970-х гг.: речь идет об исследовательской ценности самих отношений репрезентации, самих средневековых способов установления различия между знаком и реальностью, а не только изучавшихся ранее содержаний репрезентации. Вместе с тем, внимание к различию позволяет отказаться от фиксации на дуальной проблеме реальности и знака, субъекта и объекта. Отказ от эпистемологической парадигмы позволяет увидеть средневековую технику репрезентации иначе, чем она представлялась до сих пор, сводимая к послесредневе-ковой проблеме достижимости истинного значения или же его фальсифицируемости.
Здесь я хотел бы привести короткое и выборочное резюме тех размышлений медиевистов, которые впоследствии были обращены ими на их собственную профессию, на их собственную современность. Это резюме я в значительной его части заимствую из книги Г.У. Гумбрехта «По эту сторону от герменевтики». Так, например, по словам Г.У. Гумбрехта40, в эпоху Ренессанса возникает иконографическая традиция, в рамках которой мир все еще отображался как плоская поверхность, вокруг которой вращались сферы, накрывающие мир подобно куполу, но все это изображалось таким образом, как если бы оно было видимо извне. Иногда даже мы, находящиеся вовне этого мира зрители, замечаем на этих изображениях аллегорическую фигуру, репрезентирующую человечество, как будто желающую проникнуть сквозь эти сферы и присоединиться к нам. Человек, таким образом, присутствует в этих изображениях дважды: он сам наблюдает за вселенной, и вместе с тем он есть тот, кто сам наблюдаем за этим занятием.
С одной стороны, Гумбрехт рассматривает такого рода изображения как признак произошедших по сравнению с эпохой Средневековья изменений в мировосприятии: в то время как в средневековой христианской традиции преобладающим было восприятие человеком себя как составной части окружающего мира (такого же творения Божьего, как и сам человек), то в эпоху Возрождения человек видит себя особым, отдельным от мира существом, глядящим на него со стороны. С другой стороны, с этим первым изменением, с восприятием человеком самого себя как децентрированного в отношении мира, связано еще и другое, происходящее в осознании существа самого наблюдателя, а именно, он начинает ощущать самого себя духовным, бестелесным существом (что было философски концептуализировано лишь несколько столетий спустя). Быть сугубо духовным существом человек может теперь себе позволить, так как единственное задание, которым он эксплицитно наделяется, есть наблюдение за миром, и для того, чтобы это задание выполнять, кажутся достаточными исключительно когнитивные его способности. Это естественно подразумевает, что такого рода способ восприятия, подчеркивающий собственную бестелесность, не допускает возможности какого-либо упрека, относящегося к телу наблюдателя. Он ни в малейшей мере не связан какой-либо предрасположенностью или предвзятостью, определяемой, к примеру, его половой принадлежностью. Такой образ исследователя стал в XVII веке основой эпистемологического мышления, и только в наше время феминистская критика заново наделила исследователя телесностью, убедительно продемонстрировав, что «бесполость» служила щитом, прикрывавшим отчетливо выраженные мужские стереотипы эпистемологии Нового времени41.
Место историка в пространственной историографии (к постановке проблемы)
Описать обращение медиевалистов к теме пространственности было важно постольку, поскольку оно позволяло прояснить те предпосылки, из которых исходит новый медиевализм в своем образе историографии. Такой порядок описания не вполне логически последователен, поскольку сначала речь идет о некоторых следствиях нового медиевализма для историописа-ния, а затем уже о самом новом медиевализме как историографическом направлении, но в действительности именно такая последовательность, на мой взгляд, позволяет лучше понять характер новомедиевалистских инноваций: они заключаются не столько во введении новых методов исследования, не столько в самой исследовательской практике, а в том, что возникает некий иной образ прошлого, который требует пересмотра существующих способов работы историков. «Пространственный поворот» затрагивает в первую очередь не историографию, не способы писать историю, а, так сказать, способ существования прошлого. Именно поэтому важно было в структуре этого исследования сохранить ту последовательность, которая изначальным моментом изменения определяет само прошлое, а историографию уже рассматривает как нечто вторичное, как то, что вынуждено подчиняться и следовать происходящим в прошлом изменениям. Теперь же, когда эти изменения в общих чертах были описаны, следует перейти к самой историографии, к тому, как она определяет свое положение, свое «место», перед лицом столь изменившегося, «опространствленного» прошлого.
Каково было место историографии в прошлом? Как пишет во введении к «Написа нию истории» М. де Серто, место историка всегда было при власти, при этом сам он этой властью не обладал. Новоевропейская историография начинается с «Истории Флоренции» Макиавелли, представляющей собой своеобразную игру историка в князя. Пространство историографии имеет основой такого рода игру, фикцию, суть которой в том, что историк есть одновременно и учитель-господин, и слуга, его пространство и дозволено властью, создано ею, и отделено от нее. Он зависит от «действительного князя» и создает «князя возможного». Он вынужден вести себя так, как если бы действительная власть была вос приимчива к его поучениям, как если бы власть желала ввести саму себя в рамки демокра тической организации. Таким образом, сама эта основополагающая для историографии фикция делает химерической возможность того, что политический анализ найдет свое продолжение в действительной практике власти. Никогда, пишет Серто, «возможный князь» не станет «действительным князем»2. . «.
Хотя культурная история теперь и не предсказывает будущее, и не извлекает из прошлого уроков, а стремится сделать мир лишь более многообразным, создавая для настоящего образы иного, которые, как считается, с завершением эры географических открытий ему больше взять неоткуда, тем не менее историография по-прежнему остается в положении слуги, не способного к каким-либо самостоятельным действиям. Историк, если он вообще задумывается над политическим значением того, что пишет, создает образы прошлого каждый раз для кого-то другого, чем он сам, обладающего необходимой для прямого воплощения будущего суверенностью, и под этим коллективным другим можно понимать народ (всю массу читателей), принимающий решения в либеральном демократическом государстве, или же какой-то иной, менее идеальный субъект власти - власти, понимаемой в традиционном смысле или же в значении биополитики, и т.п., - суть от этого остается неизменной: сам историк не видит себя субъектом власти, он оставляет решение кому-то другому, способному придать значение его образам.
С этой политической несуверенностью связана и эпистемологическая несуверенность: современному историку далеко до Декарта с его уверенностью в собственном «я», которое теперь представляется историкам постоянно неидентичным и чуждым самому себе, так что даже субъективистское (будь то релятивистское или реляционистское) исто-риописание оказывается в наше время, строго говоря, едва ли возможно.
Может ли историк быть кем-то еще, кроме «учителя-слуги», как его окрестил Сер-то? Способна ли историография возвыситься когда-нибудь до положения государя? Или, возможно ли иное место историографии, вне старой и скомпрометировавшей себя (в том числе и эпистемологически) оппозиции слуги и суверена?
Этот вопрос имеет принципиальное значение для проблематики новизны в исто риографии. Обновляется ли историография «объективным течением истории», «совре менностью», «обществом» и т.п, или же она сама может быть способна к введению изме нений, сама может стать местом истории Сама постановка вопроса о новизне в историографии, а не о внешних факторах, которые будут определять в будущем ее су ществование, является уже допущением того, что историография не обречена на положе ние слуги, на вечное запаздывание по отношению к истории . Каким образом историо графия может избежать этого положения?
Подходя к этому вопросу, важно избежать ошибки многих историков, стремившихся непосредственно участвовать в политической борьбе, в том числе в новейшее время, например, пытаясь в различных странах противостоять «советскому режиму». При этом каждый раз политическая несамостоятельность, отсутствие гражданского общества, реальное отсутствие у людей политического суверенитета, декларированного в конституции («власть принадлежит народу»), критиковалось на общем уровне, как если бы все дело было в политическом устройстве, в то время как сама их профессия, сама историография и поддерживаемый ею образ мышления не предполагали подобного суверенитета.
Здесь важен урок медиевистики, отказавшейся от рассмотрения власти как преимущественно политических или экономических структур. Как на это указывали Ж. Дюби, А.Я. Гуревич, ЮЛ. Бессмертный, П. Фридман и другие исследователи, правящие и управляемые, знать и крестьяне различаются в Средневековье не столько объективным социальным положением, сколько своей культурой, своим образом мышления, и, шире, вообще манерой поведения, в том числе телесными практиками, манерой «держать себя». В частности, возможность социальной мобильности, возвышения знатных, рассматривалась как связанная изначально, прежде всего, не с обретением дополнительного богатства или привилегий, а с изменениями в образе мышления отдельного человека, следствием которого уже была экономическая и юридическая власть.
Этот поворот в понимании суверенности важно совершить и для историографии, в осознании ею собственного «места» - ей необходимо внутренне перестроить свой образ мышления таким образом, чтобы стать суверенной, или не суверенной, а какой-то иной, но главное - избежать того места, которое Серто определял как «место учителя-слуги». При этом внешние условия реализации этой «суверенности», которые преимущественно и обсуждаются в современной историографии (наличие достаточного финансирования, общественного внимания, участие историков в «комиссиях по этике» и в комиссиях по учреждению новых государственных праздников, и тому подобные актуальные темы) оказываются вопросом вторичным.
Проблема различимости нового в новомедиевалистких работах
В известной мере новый медиевализм действительно был сменой вывески, и в этом поиске подходящих вывесок можно увидеть отличительную черту историографии конца 1980-х - начала 1990-х, с непрерывно провозглашавшимися лингвистическим, визуальным, прагматическим, культурным, архивным, пространственным и пр. поворотами и множеством других обозначений, которыми считала необходимым наделить себя хоть сколько-нибудь значительная группа историков, что контрастирует с более ранними десятилетиями, когда обозначения если и возникали, то были довольно невыразительны, слишком всеобщи, как «Sozialgeschichte» в ФРГ или «nouvelle histoire» и «anthropologic historique» во Франции. За ними не стояла какая-либо особая работа над названием, используемой в нем терминологией (как позднее, в противопоставлении «истории идей» и «интеллектуальной истории», «истории понятий» и «анализа дискурса» и т.п.). Прежние названия имели целью обозначить некий особый объект исследования, некий подход, все равно кем применяемый, а не обозначить некую группу историков1. Необходимость иметь собственное, узнаваемое, отличаемое от многих других концептуальное лицо возникает, на мой взгляд, как раз в конце 1980-х, и в ранних работах новых медиевалистов можно увидеть определенный поиск, испробование на себе разных обозначений, соотнесение своей работы со многими уже существующими обозначениями. Изданный в 1990 г. специальный номер журнала «Speculum» озаглавлен «Новая филология», но во вводной статье к нему Николе больше говорит о «филологии культуры манускриптов», а Спигел в этом же номере пишет о «теории среднего плана», Ли Паттерсон использует понятия «маргинальная история», «ироническая история», «постмодернизм». Бай-нум о своих работах пишет, что они в разное время заслуживали похвалы феминисток, включались в антологии по «новой культурной истории», публиковались в рубрике «новый историзм» и т.д. В самом сборнике «Новый медиевализм» еще сохраняется на уровне подраздела «литературная антропология», и в этом контексте обозначение «новый медиевализм» ре-лятивизируется как одно из обозначений среди многих, по тем или иным причинам оказавшееся более удачным, но столь же внешнее по отношению к содержанию исследований, как и все другие, оказавшиеся по тем или иным причинам менее удачными (редкое употребление, узкое значение - как в случае «новой филологии» или «филологии культуры манускриптов»). Вместе с тем, этот сугубо внешний, и отчасти, вероятно, довольно случайный, характер устоявшегося обозначения, противоречит той значимости, которая придавалась в раннемедиевали-стских работах поиску нужного названия, испробованию различных вариантов.
Из сегодняшней перспективы все эти придуманные обозначения выглядят столь же странными, как и «кубизмы», «супрематизмы», «сюрреализмы», «футуризмы», «дадаизмы» и им подобное в искусстве столетней давности. Дальнейшее провозглашение новых направлений, вроде недавно заявленного У. Фреверт «политического поворота»2, или на- конец достигнутого преодоления лингвистического поворота у Л. Роупер , выглядит скорее комичным казусом, пережитком прошлого.
Тем не менее, на мой взгляд, эта терминологическая концептуализация все же сыграла роль в изменении историографии, и подобно тому, как авангардистское искусство, несмотря на исчезновение «-измов» продолжает во многом определять сегодняшнюю художественную ситуацию, так же и «новый медиевализм», абсолютно никем не упоминаемый уже в 2000-е гг.4, оставил после себя историографию, исследования Средневековья совершенно иными, чем раньше. В контексте этих изменений, смещения пространства инновации, о котором будет идти речь в этой главе, забота о терминологической концептуализации, теоретизация названий, оказывается гораздо более важной и гораздо более заслуживающей серьезного рассмотрения, чем можно бьшо бы подумать, глядя на попытки внешне скопировать этот жест называния историками вроде Фреверт и Роупер.
Начну, однако, сначала, со сложностей в эмпирическом различении старого и нового, и, в отличие от предыдущих глав, с их скорее пространственной диспозицией, буду стараться следовать здесь временной последовательности моего исследования.
Так как я уже писан об эмпирической неразличимости старого и нового, в особенности в связи с отношением новых медиевалистов к микроистории5, ограничусь здесь в демонстрации этой неразличимости лишь тремя короткими примерами, касающимися отличимости нового медиевализма от социальной истории литературы, интеллектуальной истории и истории ментальностей. В качестве примеров я выбрал книги Бригитт Казелль, Кэролайн Байнум и Пола Фридмана6.
Б. Казеллъ, «Несвятой Грааль: Социальное прочтение "Conte du Graal" Кретьена де Труа»7 (Новый медиевализм и социальная история литературы)
В этой книге, опубликованной в 1996 г., Казелль подвергает сомнению устоявшееся мнение, что последний, незаконченньвЗ роман Кретьена де Труа представляет читателям/слушателям спиритуализированный идеал нового типа рьщарства, которым руководит общее для всех видение искупительной миссии рьщарства в этом мире. Предлагая социально-историческое прочтение этого романа, Казелль утверждает, что такое прочтение позволяет увидеть общество Грааля не как воплощение нового, перерожденного рьщарства, а скорее как свидетельство озабоченности Кретьена упадком традиционного рьщарства. В ее прочтении Персеваль оказывается лишь наивной пешкой в противостоянии двух враждующих партий, Артура и Грааля, каждой из которых руководят линьяжные интересы. Каждая из сторон лицемерно использует свой собственный идеологический дискурс: Артур - традиционного рыцарского идеализма, а партия Грааля - христианских, трансцендентных ценностей, что служит идеологическим трюком, имеющим целью привлечь Пер-севаля на свою сторону. Поскольку это мир, которым движут скорее амбиции и власть, нежели бескорыстное стремление к поддержанию в королевстве мира и гармонии, Артур неспособен сдерживать агрессивные побуждения своих рыцарей, по-прежнему оставляя свое королевство в «корпускулярном» состоянии. Граалю же не удается обеспечить решение рыцарской несостоятельности, поскольку это вовсе не священный кубок, а «пустой сосуд, лишенный внутренней ценности»8.