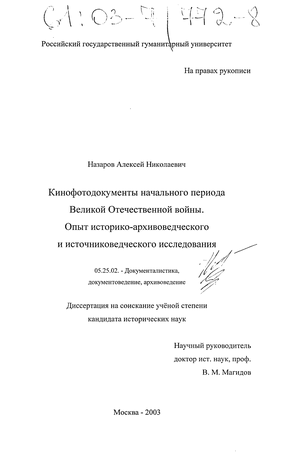Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. СССР в первые месяцы Великой Отечественной войны (22 июня - 6 декабря 1941 г.) 53
1.1. Периодизация начального периода Великой Отечественной войны 53
1.2. Представления советских людей конца 1930-х - начала 1940-х годов о войне. Милитаризация сознания советского общества 59
1.3. Основные этапы начального периода войны и их интерпретация 72
1.3.1. Приграничные сражения (22 июня-начало июля 1941 г.) 72
1.3.2. Смоленское сражение (10 июля- 10 сентября 1941 г.) 89
1.3.3. Оборона Москвы (октябрь - начало декабря 1941 г.) 101
Глава 2. Кинофотодокументы начального периода Великой Отечественной войны с позиций современного архивоведения 125
2.1. Состав и содержание кинофотодокументов начального периода войны в отечественных архивах 125
2.2. Комплектование отечественных архивов кинофотодокументами начального периода войны в 1940-е - 1950-е годы 166
2.3. Классификация кинофотодокументов начального периода войны и вопросы оптимизации их хранения 172
Глава 3. Источниковедческая интерпретация кинофотодокументов начального периода Великой Отечественной войны 187
3.1. Основные принципы источниковедческого анализа кинофотодокументов 187
3.2. Особенности организации и проведения хроникальных съёмок войны в июне-сентябре 1941 года 191
3.3. Смена приоритетов в документальном изображении войны (октябрь-декабрь 1941 года) 216
3.4. Источниковедческая критика кинофотодокументов о начале войны 225
Заключение 267
Список использованных источников и литературы 279
Приложения 298
- Представления советских людей конца 1930-х - начала 1940-х годов о войне. Милитаризация сознания советского общества
- Комплектование отечественных архивов кинофотодокументами начального периода войны в 1940-е - 1950-е годы
- Особенности организации и проведения хроникальных съёмок войны в июне-сентябре 1941 года
- Источниковедческая критика кинофотодокументов о начале войны
Представления советских людей конца 1930-х - начала 1940-х годов о войне. Милитаризация сознания советского общества
Сам факт начала Великой Отечественной войны не стал неожиданностью для советского общества. По сути дела, все 1930-е годы были периодом целенаправленной подготовки Советского Союза к новой мировой войне. Её неизбежность объяснялась непреодолимыми классовыми противоречиями и необходимостью отстаивания суверенитета первого в мире советского государства, находившегося в капиталистическом окружении. Как справедливо отметила в своей монографии Е. С. Сенявская, этот период отечественной истории можно кратко охарактеризовать как состояние «взведённого курка».
Конец 1920-х и особенно 1930-е годы вообще стали периодом, когда весь мир после небольшой передышки начал постепенно втягиваться во Вторую мировую войну. Во многих странах Европы и Азии в эти годы сложился и начал активно культивироваться милитаризм, основанный на национальной, расовой или классовой почве. Милитаризм является комплексом мероприятий, призванных подготовить общество к войне. Помимо непосредственно военных приготовлений он включает в себя трансформацию политической системы и общественного сознания с учётом военных интересов.
Не стал исключением и Советский Союз. Подготовительные мероприятия были развёрнуты очень широко во всех сферах жизнедеятельности СССР: в экономике, во внутренней и внешней политике, в строительстве современной армии. Далеко не последнее место имело проведение подобных мероприятий в области формирования в общественном сознании определённого отношения к будущей войне. Очевидно, что для того, чтобы война состоялась и была успешной, это отношение обязательно должно было быть положительным, основанным на чувстве непререкаемой собственной правоты и абсолютного превосходства над предполагаемым противником.
В своей статье о советском милитаризме О. 10. Никонова пишет: «Милитаризация общества в СССР протекала на фоне глобального процесса складывания новой социокультурной и политической идентичности, человека «советского типа». Некоторые основы будущего «советского общества» были заложены, несомненно, уже в первые годы существования Советской власти. Трансформация общественного и политического строя, однако, не затронула основы повседневной жизни населения Советской России. Вплоть до середины 20-х гг., по мнению Ш. Плаггенбора, повседневная жизнь и быт советских людей воспроизводили традиционные устои деревенской и городской жизни1 Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке. Исторический опыт России. М., 1999. дореволюционной России. Подлинное становление сущности советских людей происходило на фоне гигантских индустриальных строек, слома традиционных деревенских устоев (коллективизации), «культурной революции» и милитаристской пропаганды. В связи с этим война стала неотъемлемой частью идентичности советского человека, вошла в его быт и повседневную жизнь».1
Тяготы сельской жизни и «непрестижность» крестьянского статуса в условиях модернизации страны и индустриализации экономики заставляли молодёжь искать возможности перебраться в другую социальную среду. Часто армия виделась единственным средством ухода из деревни. Отсюда такое страстное желание молодёжи 1930-х годов служить в Красной Армии. Момент призыва в армию был очень волнующим. Один из бывших крестьян вспоминал: «Ночь перед припиской я не знал, как скоротать, не спал, боялся проспать, ... да и переживания невероятные, так хотелось служить в армии».2 Бывали случаи, когда молодые люди кончали с собой из-за того, что не могли быть военными.
Задачами воспитания в массах патриотизма и боевого духа была вызвана потребность обращения к имевшемуся в тот период в стране военному опыту. Самым близким как в хронологическом, так и в идеологическом плане оказался опыт Гражданской войны, который и начал активно распространяться в советском обществе. Именно она в тот момент стала своеобразной составной частью идентичности советского человека. Например, Первая мировая война напротив описывалась в советской научной, учебной и популярной литературе той эпохи как «империалистическая», «грабительская», «захватническая». Естественно, что такие эпитеты не могли создать в массовом сознании позитивного представления о Первой мировой войне и вызвать у людей желание подражать её героям. Гражданская же война целенаправленно«справедливая», «народная», «освободительная». Соответственно, её образ обладал преимущественно положительными коннотациями. А это, в свою очередь, неизбежно вело к мифологизации представлений о Гражданской войне.
В таких условиях особенно благодатной почвой для милитаристской пропаганды была молодёжь, а точнее - представители тех возрастных групп, которые родились уже после Гражданской войны и не могли видеть её своими глазами.
Именно для этих людей понятие «советский человек» органично и неразрывно смыкалось с понятиями «красногвардеец», «красноармеец», «краснофлотец», «чапаевец», «ворошиловец» и т.д. Для наглядной репрезентации своей идентичности им необходимо было овладеть моделями поведения, означенными в массовом сознании, как характерные для героев Гражданской войны. «А потому именно на этой стадии молодой человек начинал тренироваться в примеривании масок, учился конструировать биографию, а заодно, кстати, вообще обучался биографической идентичности».
Огромное значение имел тот факт, что 1920-е - 1930-е годы стали тем временем, когда в СССР был достигнут стопроцентный уровень грамотности населения. В этот же период проходил процесс становления системы советского профессионального и высшего образования. Учебные заведения всех уровней стали мощным инструментом воспитания подрастающего поколения в духе советской (в том числе и милитаристской) идеологии.
Большую роль в формировании массового милитаризованного сознания в Советском Союзе играли добровольные военно-патриотические организации, самой крупной из которых было Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). С 1930 по 1941 год им былаподготовлена 121 тысяча лётчиков, 122 тысячи парашютистов, 27 тысяч планеристов. Шесть миллионов человек сдали нормативы на значок «Ворошиловский стрелок», а всего перед войной в этом обществе насчитывалось 14 миллионов человек.Границы поколений имеют в нашем случае достаточно большое значение. Те, кому в 1941 году было двадцать лет, родились в 1921 году, те, кому было двадцать пять - в 1916-м. Следовательно, основная масса представителей «военного» поколения либо вовсе не была очевидцем революции и Гражданской войны, либо находилась к моменту окончания Гражданской войны в возрасте пяти лет. Поэтому, составить своё
Комплектование отечественных архивов кинофотодокументами начального периода войны в 1940-е - 1950-е годы
На наш взгляд, описанное положение во многом связано именно с исторически сложившейся в нашей стране системой комплектования специализированных архивов кинофотодокументами.
В 1940-е годы комплектование государственных архивов кинофотодокументами и организация их хранения осуществлялись на основании «Положения о Государственном архивном фонде Союза ССР», утверждённого Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР №723 от 29 марта 1941 года. В соответствии с этим «Положением», «фоно-фото-киноматериалы: негативы кинофильмов и фотографий, дополняющие их позитивы, матрицы граммофонных пластинок и материалы звукозаписи, имеющие научно-историческую и культурную ценность» впервые в истории нашей страны включались в состав Государственного архивного фонда наравне с «актами государственной власти, официальной и частной перепиской, планами, чертежами, рисунками, рукописями научных и художественных произведений, мемуарами и дневниками, плакатами, воззваниями, прокламациями». В двенадцатом параграфе «Положения» указывалось, что законченные производством фоно-фото-киноматериалы могли храниться в архивах учреждений, организаций и предприятий-создателей «до окончания копирования, но не свыше трёх лет». При этом, Главному архивному управлению НКВД СССР и его местным органам предоставлялось право в отдельных случаях изменять указанные в двенадцатом параграфе сроки хранения документальных материалов. Вообще, согласно нормам «Положения», весь «порядок концентрации, систематизации,
хранения и научной обработки ГАФ Союза ССР в государственных архивах определялся приказами и инструкциями Главного архивного управления НКВД СССР».1 В том числе, ГАУ НКВД СССР и его местным органам предоставлялось исключительное право разрешать вопросы о политической, практической и научной ценности материалов Государственного архивного фонда СССР, а также принимать совместно с заинтересованными учреждениями, организациями и предприятиями решения о выделении материалов, не подлежащих хранению. «Лица, виновные в незаконном уничтожении документальных материалов или проявившие халатность по службе, следствием чего явилась гибель или порча этих материалов» должны были привлекаться к уголовной ответственности.2
Очевидно, подобная система должна была гарантировать максимальную сохранность и надлежащее качество учёта и описания кинофотодокументов не только в мирное время, но и в годы войны. Однако, на практике архивисты столкнулись с большими трудностями в деле комплектования, организации хранения и обеспечения сохранности интересующих нас материалов. Одной из главных причин этих трудностей была плохая организованность работы, межведомственная несогласованность и неразбериха, связанная с началом и ходом Великой Отечественной войны. Так, например, «Положение о Государственном архивном фонде Союза ССР» было опубликовано только в 1942 году, то есть в то время, когда как архивы, так и большинство источников их комплектования находилось в эвакуации. Естественно, что в подобных условиях они просто физически не могли осуществлять планомерное комплектование документальными материалами. Более того, даже после издания, опубликованное под грифом «Для служебного пользования» «Положение» в течение длительного времени оставалось неизвестным во многих учреждениях, организациях и предприятиях-создателяхкинофотодокументов, не входивших в структуру Главного архивного управления НКВД СССР.
Яркой иллюстрацией подобного положения может послужить докладная записка, составленная 25 мая 1942 года заместителем начальника Центрального государственного кинофотофоноархива Колтановским на имя начальника Управления государственными архивами НКВД СССР майора государственной безопасности Г. Никитинского. В ней говорится о том, что на основании Постановления СНК СССР №723 за 1941 год и приказа Народного Комиссара Внутренних Дел СССР №1001 за 1942 год сотрудниками архива были обследованы издательства газет «Правда», «Известия», «Московский Большевик», «Московский Комсомолец», «Вечерняя Москва», «Красная Звезда» и журналов - «Фронтовая Иллюстрация», «Огонёк», «Смена», «Работница», «Исторический журнал». В результате обследования было установлено, что «ни одно из вышеперечисленных издательств до сих пор не знает о существовании Управления государственными архивами и Центрального государственного кинофотофоноархива, не говоря уже о тех инструкциях, на основании которых они должны периодически сдавать свои материалы в архив.
Ни одно из издательств также не имеет понятия о постановлении Совнаркома СССР и приказе Наркомвнудела СССР».1
Далее в докладной записке указывается, что все обследованные издательства имеют значительные фотоархивы, состоящие, в основном, из фотоснимков и лишь в виде исключения из негативов. «В некоторых издательствах ... не признают права контроля и вообще какого-либо вмешательства Управления государственными архивами, а по сему не пускают в свои фототеки.
Каждое издательство периодически производит чистку своего архива. Материалы, подлежащие уничтожению, отбираются и утверждаются специально выделенной тройкой под председательством главного редактора».1
Помимо редакций газет и журналов были обследованы Центральная студия кинохроники, Мосфильм и копировальная фабрика. Беседа с председателем Всесоюзного комитета по делам кинематографии И. Г. Большакомым показала, что он также ничего не знает о Постановлении Совнаркома и «категорически возражает против сдачи хроникальных киноматериалов по зверствам немецких оккупантов, считая их необходимыми для работы студий».2
В докладной записке отмечалось, что похожее положение сложилось и в Фотохронике ТАСС: «Игнорирование приказа подтверждает Фотохроника ТАСС (директор т. Серебряников), который, зная о существовании приказа, передал в Централиный государственный кинофотофоноархив репродукцию имеющихся у него материалов по зверствам немецких оккупантов, оставив у себя документальные подлинники, считая их необходимыми для своей
Особенности организации и проведения хроникальных съёмок войны в июне-сентябре 1941 года
Как показало исследование, предпринятое в предыдущей главе, хранящиеся в отечественных архивах кинофотодокументы по истории начального периода Великой Отечественной войны не отражают многих сторон тех событий, которые происходили в изучаемый период. Например, поражения, потери и, даже, само отступление Красной Армии практически не нашли прямого отражения в рассматриваемых источниках. С другой стороны, отдельные стороны военной действительности (такие как мобилизация, перегруппировка войск, подготовка населённых пунктов к обороне и др.) представлены достаточно широко.
Не случайно, поэтому, перед нами встаёт вопрос: в чём же причина того, что дошедшие до нас кинофотодокументы имеют именно такое содержание? Для ответа на него нам потребуется изучить специфику процесса кинофотодокументирования, характерную для рассматриваемого периода.
Отметим, прежде всего, несколько причин, ограничивавших возможность создания достаточно полной картины обстановки, складывавшейся в стране в первые месяцы войны. Среди них одной из основных в нашей литературе (особенно в официальных изданиях 1940-х -1950-х годов) считают то, что к началу войны в Советском Союзе было очень мало кинооператоров, имевших опыт проведения киносъёмок в боевых условиях. Не случайно председатель Комитета по кинематографии СССР И. Большаков писал: «Первые фронтовые киносъёмки показывали незначительные военные эпизоды: сбитые немецкие самолёты, горящие сёла и деревни, первых пленных гитлеровцев и совсем не показывали боевыедействия. Это объясняется тем, что большинство кинооператоров не имело опыта съёмок боевых эпизодов».1
Вот как оценивается эта ситуация в киноведческой литературе конца 1950-х годов: положение было осложнено тем, что «в дни войны не сразу была найдена наиболее целесообразная форма организации работы фронтовых кинооператоров. Многие из них действовали самостоятельно, не всегда правильно ориентируясь в быстро меняющихся событиях».2
Очень часто отмечаются также те технические сложности, с которыми связано создание кино- и фотодокументов вообще и во фронтовой обстановке особенно. К ним относятся: необходимость быстро подобрать и установить на аппаратуре нужную оптику, безошибочно определить глубину резкости, выдержку и диафрагму, умение быстро перезарядить плёнку на открытом месте, не засветив её, постоянная опасность повредить аппаратуру и т.д. Большие неудобства создавало, также, отсутствие в танках и самолётах специально оборудованных и вообще свободных мест для работы операторов.
Зачастую фронтовые фотографы и кинооператоры были просто физически лишены самых необходимых материалов для проведения съёмок. Отсутствие регулярного снабжения вынуждало их самостоятельно изыскивать возможности пополнения своих запасов фотографических материалов. Начальник бригады фотокорреспондентов Политотдела 40-й армии П. П. Вершигора, ставший впоследствии соратником знаменитого С. А. Ковпака, вспоминал: «При отступлении из Курска мы взяли из фотомагазинов и складов фотобумагу, плёнку, химикалии». Эта удача дала бригаде возможность бесперебойно выполнять свои обязанности, но так было не всегда.
В воспоминаниях П. П. Вершигоры мы находим ценное свидетельство о том, как относились даже очень грамотные и хорошо образованные офицеры кработе фотокорреспондентов: «С политотдельцами я сдружился быстро. Комиссар дивизии, профессор психологии Зубков, хмурый человек, тепло разговаривал со мной. Он откуда-то узнал о моей гражданской профессии. Однажды под Щиграми мы шли с ним по полю, утопая в сугробах. Зубков остановился передохнуть и сказал мне:
Мне говорили сегодня бойцы, что какой-то фотограф ходил вместе с ними в атаку и снимал неразорвавшиеся тяжёлые снаряды на снегу. Зачем вы делаете это? Я слыхал, что подготовка кинорежиссёров стоит государству очень дорого. Неужели мало ценностей сжигаем мы на войне?».1
Часто корреспондентам просто официально запрещали вести съёмку, мотивируя запрет соображениями секретности. Фронтовой фотокорреспондент Сергей Косырев вспоминал об одном случае, когда в дни Московской битвы он впервые увидел «Катюши», занимавшие позиции для ведения огня. Несмотря на то, что боевая часть машин была зачехлена, репортёрам категорически запретили их снимать. Охрана увела журналистов на достаточно большое расстояние, с которого можно было слышать звуки выстрелов, но невозможно было ничего разглядеть. С. Косырев отмечал, что впоследствии видел и снимал «Катюши» многократно, но ту - первую - съёмку ему провести так и не удалось.
Не стоит забывать так же о тех опасностях, которым в условиях боя каждый оператор подвергается наравне с солдатами, которых он снимает. П. Д. Касаткин вспоминал, что, когда они с оператором Т. 3. Бунимовичем попросили в ноябре 1941 года командование одной из авиационных частей допустить их к участию в полёте, то получили категорический отказ, так как командир полка считал их «почти штатскими» и не мог гарантировать им безопасность.3
О похожей ситуации вспоминает и А. Крылов. Прибыв в штаб 24-й армии в сентябре, группа операторов сразу стала проситься на передовую под Ельню. В ответ они услышали: «Днём? Одни?! Ни в коем случае! Только ночью и только в сопровождении броневика! Снайперы, десанты».1
Необходимо отметить, что опасения командования были полностью оправданными. Многие кино- и фоторепортёры погибли, выполняя свой долг. Большой потерей стала гибель 28 августа 1941 года, при совершении знаменитого Таллинского перехода на транспорте «Вирония» почти всей киногруппы Северо-Западного фронта. Спасся только А. М. Межуев. Погибли: А. Знаменский, П. Лампрехт, В. Сумкин, И. Драныш, М. Прехнер, П. Савченко. Во время этого перехода погиб и корреспондент Фотохроники ТАСС Юз Зиньковский. Вместе с ними погибли все бесценные материалы, снятые киногруппой в первые месяцы боёв в Прибалтике.2
При всём этом, нужно ориентироваться в окружающей обстановке настолько хорошо, чтобы успеть заснять на плёнку быстро меняющиеся события, ведь второго дубля не будет. У кино- и фотооператоров, в отличие от пишущих журналистов, нет возможности по памяти восстановить события даже самого недавнего прошлого.
Источниковедческая критика кинофотодокументов о начале войны
Помимо выяснения условий возникновения кинофотодокументов начального периода Великой Отечественной войны первостепенное значение для их источниковедческого изучения имеют вопросы их атрибутирования. То есть, установления авторства и датировки интересующих нас документов. Чрезвычайно важной задачей для исследователя на этом этапе является решение трёх основных вопросов: кто, где и когда в СССР начал снимать войну.
В связи с этим, хочется подчеркнуть, что работа с фотодокументами осложнялась именно тем, что многие из них плохо атрибутированны. В некоторых случаях не даётся указание не только на дату и место съёмки, но, даже, отсутствует указание на фамилию автора.1 Анализ показал, что среди изученных документов наиболее часто в авторском каталоге фотодокументов РГАКФД встречаются фамилии Л. Великжанина, Д. Чернова и Е. Халдея.
К числу первых фотодокументов о войне с большой долей уверенности можно отнести всем хорошо известную фотографию Е. Халдея «Москвичи на одной из улиц столицы слушают по радио заявление советского правительства», на которой изображены люди, слушающие на улице 25-го Октября (ныне - Никольской) обращение В. М. Молотова по радио 22 июня. То же относится и к фотографии А. Скурихина «Колхозники слушаютвыступление В. М. Молотова 22.06.1941г.».1 Сразу понятно, что эти снимки относятся к первым часам войны, так как из истории точно известно, что выступление В. М. Молотова транслировалось по радио в 12 часов дня 22 июня. И работа исследователя в данном случае заключается лишь в том, чтобы ещё раз перепроверить, действительно ли данный кадр запечатлел граждан, слушающих выступление В. М. Молотова 22 июня, а не, например, И. В. Сталина 3 июля. Сделать это можно с помощью мемуарной литературы и периодической печати того периода (если снимок был опубликован). Например, во вступительной статье к своему фотоальбому Е. А. Халдей рассказывает, как в первый день войны его вызвали в Фотохронику ТАСС, находившуюся тогда на улице 25 Октября. Сидя в кабинете редактора, он в двенадцать часов увидел в окно толпу людей, собравшихся у динамика и с напряжением вслушивавшихся в сообщение радио. Выбежав на улицу, он снял этих людей и лишь после этого узнал, что В. М. Молотов объявил о начале войны.2
В ряде случаев периодические издания могут помочь также и в установлении личности отдельных людей, запёчатлённых в кадре. Особое значение данный источник информации приобретает в тех случаях, когда речь идёт не о выдающихся деятелях в той или иной области (руководители партии и правительства, военачальники высокого ранга, ударники, герои войны и труда, и т.д.), а о рядовых гражданах, портреты которых не печатают в учебной, информационно-справочной и научной литературе. Примером подобного рода может служить та же фотография Е. Халдея «Москвичи на одной из улиц столицы слушают по радио заявление советского правительства». На переднем плане данного снимка запечатлена молодая женщина, напряжённо вслушивающаяся в слова правительственного обращения. Долгое время её личность оставалась неизвестной даже для самогоавтора фотографии. Все попытки выяснить, кто запёчатлён на снимке, оканчивались неудачей вплоть до 1974 года, когда домой Е. Халдею по собственной инициативе позвонила разыскиваемая женщина. Однако, этот факт ещё долгие годы оставался неизвестен исследователям. Имя героини фоторепортажа с московских улиц не было опубликовано даже в вышедшем в свет пять лет спустя авторском фотоальбоме Е. Халдея «От Мурманска до Берлина». Оно стало известно только в 1987 году, благодаря публикации в газете «Московская правда».1 Выяснилось, что на снимке в группе прохожих запечатлена москвичка Анна Яковлевна Трутнева. В тот день рано утром она узнала о начале войны от своей сестры, которая ссылалась на слова соседей, но Анна Яковлевна не могла поверить в реальность подобных событий и вышла на улицу в надежде получить более подробную информацию. Проходя по улице 25 Октября мимо здания Фотохроники ТАСС, она услышала по радио обращение советского правительства.
Предпринятая нами в предыдущей главе попытка классификации показала, что помимо указанных выше, к числу фотодокументов, созданных в первые дни и часы войны можно отнести группу фотографий, запечатлевших реакцию гражданского населения СССР известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Большая часть из обнаруженных нами снимков подобного рода была сделана в Москве. Фотодокументы данной группы можно условно поделить на две подгруппы. Первая из них будет включать в себя фотографии, рассказывающие о митингах протеста против фашистской агрессии, прошедших в конце июня 1941 года на многих предприятиях, в учреждениях и организациях столицы. Примерами подобных фотографий могут служить снимки М. Рунова, сделанные во время митинга в Воєнно-воздушной академии имени Жуковского, его же фоторепортаж о митинге нафабрике Парижской коммунны, а также фотографии, запечатлевшие митинги на Трёхгорной мануфактуре и на заводе «Серп и Молот», авторы которых, к сожалению, не указаны.
Ко второй подгруппе относятся фотодокументы, отражающие патриотический подъём среди населения и запись добровольцев в ряды Красной Армии. В их числе можно назвать датированный 22-м июня снимок И. Калашникова «Москвичи в одном из военкоматов подают заявления с просьбой об отправке на фронт»,4 фотографию В. Зунина «Группа призывников Пролетарского района»,5 сделанную 26 июня, и датированную июлем фотографию неизвестного автора «Запись добровольцев в отряд народного ополчения города Москвы».6
По причине рассредоточенности кинофотодокументов о начале ВОВ по различным учреждениям и организациям и их неудовлетворительной атрибутированости, очень сложно не только определить какие кадры можно причислить к числу снятых в первые дни войны, но и определить к какому году (1941 или 1942) относятся эти документы.7
Особые сложности вызывает атрибутирование съёмок боевых действий или жизни тыла в тех случаях, когда в аннотации фотодокумента указывается неверная дата съёмки. При внешней схожести снимков, сделанных летом 1941 и летом 1942 годов, подобные ошибки могут легко ввести исследователя в заблуждение. Примером могут служить снимки Б. Н. Ярославцева, запечатлевшие бойцов Красной Армии, занявших позиции в подсолнечном поле и готовящихся к отражению вражеской атаки.8 В описи все они датированы 1942 годом, но на каталожных карточках проставлены даты,указывающие на то, что эти фотографии были сделаны в июле - августе 1941 года. Разрешить сомнения относительно правомерности датирования этих документов 1941 годом помогает один из перечисленных снимков,1 на котором изображён красноармеец, вооружённый противотанковым ружьём системы Дегтярёва. Эти ружья были приняты на вооружение РККА 29 августа 1941 года, и до 31 декабря их было выпущено всего 600 штук.2 Очевидно, что данные снимки не могли быть сделаны ни в августе, ни, тем более, в июле 1941 года. Поэтому, мы можем предварительно датировать их 1942 годом.
Приведём ещё несколько примеров некорректного атрибутирования фотодокументов по истории начального периода Великой Отечественной войны. В РГАКФД хранится фотоальбом «Очаги поражения и выполнение аварийных работ по ним в городе Москве в годы Отечественной войны (разрушенные здания, аварийные работы)», составленный, как это явствует из заголовка, Штабом гражданской обороны СССР в 1941-1942 годах. В нём помещён снимок, на переднем плане которого изображён разбитый немецкий танк, стоящий на обочине дороги на фоне городской окраины. Сам собой напрашивается вывод о том, что в этом месте, на ближних подступах к столице, фашистские войска были остановлены осенью - зимой 1941 года, и на снимке запечатлены места недавних боёв. Однако, при ближайшем рассмотрении выясняется, что на данном фотодокументе изображён немецкий танк T-V «Пантера». Машины этого типа появились у вермахта на Восточном фронте только в июле 1943 года во время сражения на Курской дуге,4 и, значит, они не могли использоваться в 1941-1942 годах в битве за Москву