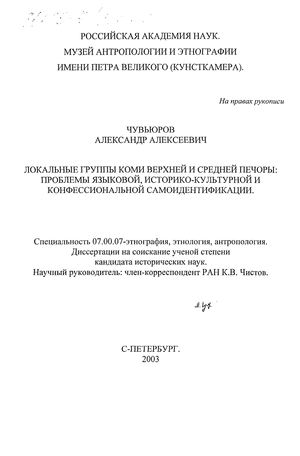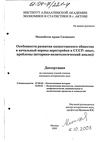Содержание к диссертации
Введение
Глава I. «Формирование локальных групп коми» 31-78
1. «Заселение коми бассейна Верхней и Средней Печоры» 32-40
2. «Конфессиональная история коми Верхней и Средней Печоры» 40-59
3. «Языковая, историко-культурная и конфессиональная самоидентификация современного коми населения» 59-78
Глава II. «Внутренняя организация общинной жизни старообрядцев» 79-96
Глава III. «Семейная обрядность» 97-141
1. «Родильная обрядность» 97-100
2. «Таинство крещения» 100-109
3. «Свадебная обрядность» 109-121
4. «Похоронно-поминальная обрядность» 121-141
Глава IV. «Церковный и народный календарь» 142-171
1. «Церковные праздники коми» 142-154
2. «Молодежные игры и обряды календарной обрядности» 154-171
Глава V. «Особенности функционирование традиционного фольклора» 172-196
1. «Жанровая классификация устной прозы» 173-189
2. «Билингвизм и религиозная терминология» 190-196
Заключение 197-200
Библиография 201-213
Приложение 214-253
Фотоприложение 254-263
Карты 264-265
Список информантов 266-267
Список сокращений 268
- «Заселение коми бассейна Верхней и Средней Печоры»
- «Таинство крещения»
- «Церковные праздники коми»
- «Жанровая классификация устной прозы»
Введение к работе
Постановка вопроса и актуальность темы. Изучение этнолокальных и этноконфессиональных групп является одним из важнейших направлений в российской этнографии. В последние десятилетия в разработке данной проблемы (как на теоретическом, так и практическом уровне) достигнуты определенные успехи1. В этнографии коми разработка вопросов, связанных с формированием локальных, этнографических групп, получила свое развитие в работах Л.П. Лашука, Л.Н. Жеребцова, Н.Д. Конакова и О.В. Котова . Этими исследователями было произведено этнографическое районирование и выделены этнографические группы коми, классификация которых была основана на особенностях хозяйственно-культурного типа той или иной группы и характерных признаков её материальной культуры. К сожалению, при этом не учитывались конфессиональные различия внутри этих этнографических групп (неоднородных и по своему составу). Этнографическое районирование локальных групп без учета конфессиональной спецфики существенно снижает ценность этих исследований, так как в этом случае не учитываются такие важные признаки выделения этноконфессиональных групп как самосознание, этнокультурная и этноконфессиональная ориентация. При этом также оказывается неполно описанной и обрядовая сфера, в частности, различные ритуалы, связанные с церковной практикой, которые органично вошли в народную культуру и стали важнейшими составляющими культуры таких групп. Подобный подход к народной культуре, когда религиозная традиция или совсем игнорировалась, или же изучалась односторонне с акцентом на изучение дохристианских верований и ритуалов, был во многом характерен для отечественной этнографии в предыдущие десятилетия. В настоящее время ситуация меняется: издаются опросники, этнографические полевые программы, в которых разрабатывается методика сбора и фиксации христианских ритуалов и обрядов, выходят работы в которых дается комплексное этнографическо-археографическое описание церковной традиции и ее роли в народной культуре славян (Т.А. Бернштам, М.М. Громыко и др.)3.
В истории и культуре коми, наряду с официальным православием, значительное место занимает старообрядчество. Проблемы старообрядчества в настоящее время вызывают значительный исследовательский интерес, что связано с переменами в общественно-политической жизни нашей страны, в частности, снятием различного рода "идеологических» и цензурных запретов в религиоведческих исследованиях. Безусловно, интерес к теме старообрядчества обусловлен и общественными потребностями - поисками самобытных форм социально-экономического развития Российского государства. Свидетельством возросшего интереса к старообрядчеству являются многочисленные конференции, издание различного рода региональных сборников, посвященных этой теме4. На фоне общего подъема изучения старообрядчества стал актуален и вопрос об исследовании фенбмена старообрядчества у финно-угорских народов: карел, коми, коми-пермяков, начало которому положено в работах Ю.В. Гагарина5, О.М. Фишман6, Е.М. Сморгуновой . . До Октябрьской революции старообрядчество среди коми было распространено в пяти регионах: на Верхней и Средней Печоре (в современном административном делении — Печорский, Вуктыльский и Троицко-Печорский районы Республики Коми); на Удоре (в бассейне реки Вашки, — бегунское согласие), на Верхней Вычегде (в Керчомской и Помоздинской волостях, — "глухая нетовщина" спасского толка) и в двух районах расселения коми-ижемцев, — в волостях Красноборской и Кедвавомской (беспоповцы поморцы даниловского толка). В 1960-1970-ые гг. исследованием коми старообрядчества занимался Ю.В. Гагарин. Им были выявлены основные этапы истории старообрядчества в Коми крае. Однако сама специфика старообрядчества у коми в его работах не была рассмотрена.
В последние десятилетия активные исследовательские работы по изучению старообрядчества в Республике Коми предприняты сотрудниками Сыктывкарского государственного университета и Коми Научного Центра УРО РАН. Проводятся исследования подобных групп на Нижней Печоре (Усть-Цилемский район), на Верхней Вычегде и на Удоре, в южных районах Республики Коми (Прилузский район).
Наше диссертационное сочинение посвящено одной из таких малоразработанных тем в истории старообрядчества Европейского Северо-Востока - формированию локальных групп коми в бассейне Верхней и Средней Печоры. Предпринятое нами исследование может оказаться полезным также в плане разработки различных вопросов, связанных с изучением этнокультурных процессов и, в частности, формирования и функционирования локальных, этноконфессиональных групп коми в современных условиях.
Методологические принципы и методы исследования.Исследование построено на. междисциплинарном подходе к анализу и интерпретации источников. В ее основу положены историко-культурный и сравнительно-исторический методы, которые позволили дать многостороннее описание культуры населения исследуемой территории и сравнить полученные результаты с этнокультурными, этноконфессиональными традициями старообрядцев в других регионах. При описании и реконструкции традиционной культуры мы опирались на теоретические и практические разработки отечественных исследователей, занимающихся изучением этнических и этнокультурных процессов. В целом можно выделить несколько направлений, составивших методологическую основу настоящего исследования: - методика изучения локального варьирования культуры (К.В. Чистов, Т.А. Бернштам) ; - методика изучения народного православия (М.М. Громыко)9; - феноменология народного православия (Т.А. Бернштам)10; методика петербургской школы этнолингвистики (А.С. Герд)11.
Классификация этнолокальных групп коми производилась с учетом научных разработок отечественных исследователей, связанных с вопросами теории этноса, этнических процессов, с разработкой важнейших таксономических терминов этнических исследований (Ю.В. Бромлей, СИ. Брук, Н.Н. Чебоксаров, Я.В. Чеснов, П.И. Пучков, А.Н. Ипатов и др.). ,
В отечественной этнографии в качестве таксономических единиц при классификации этнических общностей применяются следующие понятия: «этническая , группа», «этнографическая группа», «конфессиональная общность (группа)»12. В.И. Козлов выделяет два значения употребления термина «этническая группа»: «1) региональная часть какого-то этноса, не вполне слившаяся с ним и имеющеющая особенности разговорного языка (диалект), культуры и быта, а также особое самосознание и название (например, гуцулы и лемки среди украинцев, мегрелы и сваны среди грузин); 2) Небольшая часть какого-то этноса, территориально отделившейся от него в результате миграции, но сохраняющее прежнее этническое самоназвание, а в какой-то степени язык, особенности культуры и быта (например, украинцы в Казахстане, немцы в Казахстане и в Алтайском Крае)»13.
Первое значение термина «этническая группа» по ряду признаков весьма близко соотносится с другим важным таксономическим понятием этнических общностей - «этнографическая группа», под которой подразумевается «локальное подразделение этноса, отличающееся от аналогичных ему своим диалектом (говором) и теми или иными компонентами материальной и духовной культуры, выявляемых главным образом в результате специальных обследований (этнографические группы северо-русских и южно-русских)»14. Обычно этнографические группы возникают при расширении этнической территории, в результате чего определенные части этноса оказываются в различных природно-климатических условиях, слабо общаясь между собой и контактируя с различными иноэтническими группами. Все это приводит к изменению их прежде одинакового типа традиционного хозяйства, к изменениям их материальной, а отчасти и духовной культуры15. У этих локальных групп этноса, вследствие удаленности и специфических природных условий жизни (например, поморы) или особого же особого социального статуса (например, донские, терские, уральские казаки) со временем может возникнуть особое самосознание и самоназвание, благодаря чему они становятся субэтносами16. В свою очередь субэтносы в процессе консолидации этнической могут утратить особое самосознание, превратившись тем самым в этнографические группы (например, заволжские "кержаки" и другие группы русских староверов)17.
Несколько иной тип этнической общности представляет этноконфессиональная группа18. Разработка данной темы значительное место получила в работах таких исследователей как А.Н. Ипатов, П.И.
Пучков. А.Н. Ипатов следующим образом характеризует этноконфессиональную общность: «Этноконфессиональная общность характеризуется как особый тип социальной общности людей с религиозно оформленным жизненным укладом, этническое самосознание которых выступает как религиозное, принимающее в конкретных социально-исторических условиях функции этнического определителя».19 Исследователь отмечает, что подобная таксономическая единица возникает в процессе сопряжения двух составляющих - этнической и конфессиональной. При этом, как подчеркивает А.Н. Ипатов, с одной стороны, этнические явления, свойства (ряд особенностей культуры и быта) в течение длительного взаимодействия впитываются культом, становятся его составными элементами, «конфессионализируются». С другой стороны, отдельные компоненты культового комплекса, особенно его ритуалы, религиозные обычаи и традиции, проникая в национальные формы общественной жизни, посредством слияния с народными верованиями, которые этногенетичны, приобретают характер этнических явлений, этнически окрашиваются, «этнизируются»20.
П.И. Пучков выделяет два типа этноконфессиональной общности (групп): «1) сопряжение с той или иной конфессией какой-то части этноса и возникновение в результате этого специфических культурных свойств (т.н. субэтноконфессиональная группа); 2) сопряжение с одной конфессией нескольких близких по культуре и компактно расселенных этносов и появление у них общего самосознания (т.н. метаэтноконфессиональная группа)»21. Исследователь особо подчеркивает, что этноконфессиональные группы (субэтноконфессиональные) отличаются от собственно конфессиональных групп внутри этноса (например, немцев-лютеран, немцев-реформаторов и немцев-католиков), так как конфессиональные различия в данных группах не повлекли за собой появление у них каких-либо специфических культурных черт, существенно обособивших их друг от друга22.
Важнейшей частью методологических принципов, используемых в нашей работе, стали также теоретические и практические разработки отечественных исследователей старообрядчества, с учетом опыта которых нами производился выбор конкретных исследовательских тем в полевой работе, а также осуществлялась разработка самой методики этнографического сбора.
Опыт отечественных исследователей, особенно ведущих историко-археографических школ, таких как "московская", "петербургская" и "новосибирская", дает возможность опереться на выработанные ими методические принципы описания и классификации старообрядческой культуры. Известный московский археограф, доктор филологических наук И.В. Поздеева в качестве важнейших инструментов и механизмов развития и воспроизводства старообрядческой культуры выделила три составляющих — книга, личность, община23. Полноценное описание и такое понимание требует комплексного, междисциплинарного подхода: обращение к данным и методике смежных историко-филологических дисциплин. Многолетние исследования МГУ в районах компактного проживания старообрядческого населения (Верхокамье; Ветковско-Стародубский район (Гомельская область Республики Беларусь, Брянская и Смоленская области Российской Федерации); Молдова) свидетельствуют, что именно комплексный подход оказывается наиболее продуктивным, способным обеспечить полноценное описание традиционной культуры старообрядцев. Изучение книжной культуры и ее функционирования в старообрядческой среде показало, что книга и книжность являлись духовной основой и важнейшим инструментом развития и воспроизводства традиционной культуры в целом. Именно выявление и изучение богослужебных уставов тех или иных общин помогает объяснить вариативность в обрядовой сфере, понять истоки локальных различий между отдельными группами старообрядцев, во многом обусловленных спецификой конкретных согласий и толков. Характерной особенностью такого типа культуры является неразрывное единство книжной культуры и фольклора. Книжная культура оказала значительное влияние на бытовую культуру старообрядцев: на повседневные нормы поведения и религиозно-бытовые установки. При этом значительная часть этих предписаний на современном этапе бытует в устной традиции, что позволило СЕ. Никитиной выделить для ряда старообрядческих регионов особый тип устной народной культуры с книжно-письменной доминантой24. Система религиозных запретов, бытующих в старообрядчестве, как показали исследования СЕ. Никитиной, оказала влияние на бытование различных жанров фольклора (прозаических жанров, лирических песен). При этом оказалось, что различия в фольклоре наблюдаются не только между старообрядческим и православным населением, но и между различными старообрядческими толками и согласиями25. Таким образом, оказалось, что книжная культура несет яркую печать конфессиональной принадлежности, определяя функционирование и развитие всей совокупности традиционной культуры старообрядцев, различные аспекты их жизнедеятельности и жизнеобеспечения, включая обрядовую сферу, производственную и хозяйственную этику и др. .
Еще одним из аспектов изучения книжной культуры современного старообрядческого населения явилась проблема двуязычия, — взаимопроникновение церковнославянизмов и диалектных форм в бытовые и литургические тексты . Для исследователей старообрядчества у финно-угорских народов данная тема имеет особое значение. Проблематику поднимаемых в этих исследованиях вопросов можно очертить следующим кругом задач: изучение влияния книжных оборотов на повседневную бытовую речь; соотношение церковнославянского, русского и национального языка в религиозной и обрядовой сфере27. О.М.Фишман отмечает, что в традиционной культуре тихвинских карел старообрядцев конфессиональное двуязычие (церковно-славянский и карельский) соотносится с разговорным (карельский и русский) . Этномузыковед В.А.Лапин предлагает обозначать подобный тип культуры термином "фольклорное двуязычие", которое им рассматривается как определенный этап межэтнического, межконфессионального взаимодействия, с двуосновным и двуязычным (в некоторых случаях, тернарным) характером культуры, важнейшей особенностью которой является параллельное функционирование некоторых фольклорных жанров, видов или форм на разных языках2 .
Ещё одним важнейшим направлением в изучении старообрядчества стало, исследование религиозно-бытовой культуры. Отсутствие священства, церковной иерархии вынуждало беспоповцев вносить определенные изменения в обрядовую сферу, основные положения которых свелись к соблюдению только тех обрядовых действий и предписаний, к совершению которых, в отдельных исключительных случаях, допускались миряне. Как отмечает А.Ф. Белоусов, жизнедеятельность старообрядцев-беспоповцев осуществлялась как бы в аварийном режиме, то что он определяет термином "великое" понятие "нужды", когда оказалось невозможным, в силу происшедших перемен в данной ветви старообрядчества (утрата церковной иерархии), исполнение многих правил и предписаний религиозной жизни30. Как показали дореволюционные исследования (П.С. Смирнов, Н.П. Ивановский), эволюция церковных обрядов в различных старообрядческих толках имела свои особенности: так, у беспоповцев, из многообразных черт религиозной жизни дониконовской церкви, сохранились только два таинства (крещение и исповедь)31. Как показывают современные этнографические исследования (работы Т.А. Листовой, И.А.Кремлевой, О.М. Фишман, Т.И. Дроновой и др.),32 функционирование церковных обрядов в общинах беспоповцев зависело от целого ряда различных факторов: уставов согласий, уровня книжной (старообрядческой) грамотности в этих общинах, от контактов с другими этническими и конфессиональными группами. Родильная, свадебная (в меньшей степени похоронно-поминальная) обрядность в различных старообрядческих регионах, в целом, развивались в русле традиционной обрядности тех или иных локальных групп33. Таким образом, исследования старообрядческих групп различных регионов позволяет по-иному взглянуть на старообрядчество, как на достаточно динамично развивающееся религиозное движение, которому, в силу тех или иных социально-политических обстоятельств, не чужды различные новации и изменения в обрядовой сфере. Так, И.А. Кремлева, один из авторов коллективной монографии "На путях из земли Пермской в Сибирь" отмечает следующее: «Рассмотренный материал по погребально-поминальной обрядности дает возможность пересмотреть все еще существующую в литературе общую оценку старообрядчества как движения консервативного, направленного на сохранение обычаев допетровской Руси. Изучение бытовой культуры старообрядцев показывает, что такая оценка старообрядчества в целом неправомерна, так как бытование архаичных обрядов было неодинаковым у разных толков и, к тому же, сама обрядность у всех групп населения не оставалась неизменной» . Данные выводы и наблюдения отечественных этнографов и фольклористов совпадают с мнением известного исследователя русской культуры С.А. Зеньковского, автора фундаментальной монографии по старообрядчеству "Русское старообрядчество: Духовные движения XVII века", в котором старообрядчество рассматривается в рамках общеевропейской исторической модели развития — одновременно являясь реформацией и контрреформацией35.
Безусловно, особая тема в исследованиях старообрядчества сам феномен старообрядчества у финно-угорских народов. ОМ. Фишман, исследовательница тихвинских карел старообрядцев, отмечает, что для последних старообрядчество явилось одним из важнейших индикаторов этнического самоопределения. Старообрядчество в данной среде воспринималось как своя карельская вера в противоположность русской вере (православной) окружающего русского населения36.
Принципиально важным для нашего исследования является подход к традиционной культуре как целостной системе, выраженный в работах ряда исследователей (Т.А. Бернштам, М.М. Громыко, СЕ. Никитина, А.А. Панченко) , для которых народная религия является целостной системой, образованной в результате взаимодействия различных религиозных систем в единый комплекс взаимообусловленных и функционально нерасторжимых обрядов, верований, в основе которой лежит христианская религиозная система. Так, СЕ. Никитина в послесловии к работе Г.П. Федотова "Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам" пишет: «На материале духовных стихов ему (Г.П. Федотову — А.Ч.) удалось показать, что народная вера представляет собой не механическое смешение, не функциональное распределение элементов язычества и христианства (именно при такой ситуации, на наш взгляд, стоит употреблять термин "двоеверие", которым, кстати, пользовался и сам Г. Федотов), а нерасторжимый сплав, представляющий качественно иное духовное образование, чем ортодоксальное христианство, сплав, где преображенное язычество стало необходимой частью мировоззренческой системы» . Серьезные возражения у исследователей вызывает употребление в научном обиходе термина "двоеверие" и прямолинейное его истолкование, как формальное поверхностное соединение в народной религии "двух вер". Так, А.А. Панченко подчеркивает, что понятие "двоеверие" может относиться только к определенному периоду русской культуры — ко времени, непосредственно последовавшее за принятием христианства на Руси . '
Данные наблюдения и выводы являлись для нас ключевыми как при обработке архивного материала, так и при полевых экспедиционных работах, при сборе этнографического и фольклорного материала. В частности, при описании семейного обряда мы старались не только фиксировать те или иные обрядовые действия, но и стремились выяснить, каким кругом религиозно-богослужебной литературы пользуются информанты при исполнении различных церковных треб (крещение, похороны, поминания), а также бытуют ли те или иные предписания в устном виде или же в обиходе при исполнении треб пользуются требниками.
Объект исследования. Объектом исследования является коми старообрядческое население Верхней и Средней Печоры (в современном административном делении - Печорский, Вуктыльский и Троицко-Печорский районы Республики Коми). Предпринятое нами исследование является частью программы изучения старообрядчества в Республике Коми, проводимых в последние годы силами сотрудников СГУ и КНЦ УРО РАН.
Предмет и хронологические границы исследования. Предметом настоящего исследования является традиционная духовная культура (семейная и календарная обрядность, фольклор) локальных групп коми старообрядческого населения Верхней и Средней Печоры. Исследованием охвачен период с конца XVII в. до последних десятилетий XX века включительно, что позволяет рассмотреть традиционную культуру в исторической динамике, —' от начала заселения коми Верхней Печоры вплоть до ее современного состояния.
Источники. Значительную часть источниковедческой базы данного диссертационного сочинения составили экспедиционные материалы, собранные автором в 1993 - 2002 гг. в ходе полевых этнографических исследований локальных групп современного старообрядческого населения Республики Коми (Печорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский, Усть-
Кул омский, Удорский и Усть-Цилемский районы). Методические приемы, применявшиеся в ходе исследований, включали наблюдение и фиксацию (фотографирование, аудиозапись) различных обрядовых действий, а также стандартизированное интервью, проводимое в разных возрастных и социальных группах, в ходе которого, наряду с кругом вопросов по традиционной обрядности старообрядцев, выяснялось, с какими этнографическими, этнокультурными группами соотносят себя информанты, в какой мере они владеют информацией об этнокультурном прошлом их региона и конкретного поселения, в котором они проживают.
, Специфическую группу источников составляют материалы полевых исследований Ю.В. Гагарина, в течение многих лет (1960-1970-ее гг.) занимавшегося изучением старообрядчества в Коми крае. В 1967—1968 г. им были проведены этнографические исследования в Печорском и Троицко-Печорском районах Коми АССР. Материалы данных экспедиционных исследований в настоящее время хранятся в Научном архиве Коми Научного Центра (НА КНЦ УРО РАН, ф.1 он. 13 д. 159; НА КНЦ УРО РАН, ф.1, оп.13, д. 167). Отчеты содержат разнообразный фактический материал: здесь приводятся фамилии старообрядческих наставников, численный состав старообрядцев по ряду населенных пунктов, материал по духовной культуре коми старообрядцев (эсхатологические представления, этикетные нормы), описываются старообрядческие библиотеки. Приводимые в них сведения требуют критического осмысления. Это в первую очередь относится к материалам социологического опроса: в условиях антирелигиозных преследований, характерных для тех лет, эти опросы не могли дать достоверных результатов (информанты подчас не хотели признаваться в своей приверженности религии, вынуждены были искажать свои ответы, опасаясь каких-либо санкций государственных структур). В недостаточной степени, оказался изученным обрядовый комплекс, бытовая сторона старообрядчества (этикетные нормы и предписания), конфессиональная специфика фольклора.
Наряду с полевыми материалами, собранными Ю.В. Гагариным на Верхней и Средней Печоре, нами использовались его экспедиционные отчеты по Усть-Куломскому, Удорскому и Усть-Цилемскому району, в районах проживания коми и русского старообрядческого населения (НА КНЦ УРО РАН, ф.5, он. 2, д. 70; НА КНЦ УРО РАН, ф.5, оп. 2, д. 98).
Характер полевых материалов, иногда фрагментарно освещающих ту или иную проблему, их недостаточность по отдельным периодам и районам привели к необходимости обращения к архивным источникам, восполнившим эти пробелы полевых данных.
В НАРК (Национальный архив Республики Коми) были использованы материалы следующих фондов: ф. 273 (оп. 1, д. 74, 140, 143 -Межевая книга Генерального межевания 1786 г. по Усть-Сысольскому уезду); ф. 343 (оп. 1, д. 12, 16, 25 -ревизские сказки 1834, 1850, 1858 гг. по Усть-Сысольскому уезду); ф. 229 (оп. 1, д. 1-5, 8 - клировые ведомости Усть-Кожвинского прихода за 1900-1903 гг; 1914 г.); ф. 230 (on. 1., д. 4 -Летопись Щугорской Стефановской церкви; оп. 1, д. 382 - Клировая ведомость Савиноборской Николаевской церкви Усть-Сысольского уезда; оп. 1, д. 195 -Летопись Почерской церкви Усть-Сысольского уезда).
В ВУФ ВОГА (Велико-Устюгский филиал Вологодского областного Государственного архива) - нами были использованы материалы Великоустюгского православного Стефано-Прокопьевского братства (ф.265, оп.1, д.88; ф.265, оп.1, д.158; ф.265, оп.1, д.195—196; ф.265,юп.1, д.181; ф.265, оп.1, д.229; ф.265, оп.1, д.253; ф.265, оп.1, д.324; ф.265 оп.1 д.345; ф.265, оп.1, д. 416; ф.265, оп.1, д.452 — миссионерские отчеты, рапорты, отчеты приходских священников за 1898-1917 гг.), в которых содержатся сведения разнообразного характера, касающиеся жизни коми старообрядческих общин.
В РГИА (Российский государственный исторический архив) использовались документы из фондов 796 и 1290 фондов: «Донесение преосвященного архиепископа Варсанофия Архангельского (1743 г.) с экстрактом о сгоревших его епархии, о раскольниках и прочем» (ф. 796, оп. 28, д. 79/211); рапорты (1854-1855 гг.) в Св. правительственный Синод епископа Вологодского и Устюжского о состоянии раскола в Вологодского епархии (ф. 796, оп. 135, д. 308); Материалы I Всеобщей переписи 1897 г. -ведомости распределения населения по вероисповеданию Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ф. 1290, оп. 11, д. 364).
Из ГААО (Государственный архив Архангельской области) нами для соответствующих разделов работы привлекались материалы ревизских сказок по Архангельской губернии (ф. 51, оп. 11, т. 25, д. 12, 34; ф. 51, оп. 11, т. 23, д. 311 -ревизские сказки крестьян Мезенского уезда за 1782Ч858 гг.); миссионерские отчеты (ф. 29,.оп.2, т. 5, д. 655; ф. 487, оп. 1, д. 47); переписные листы материалов I Всеобщей переписи 1897 г. (ф. 6, оп. 18, д. 1-62).
Из Печорского государственного архива (ПГА) нами привлекались материалы похозяйственных книг (ф. 126, оп. 1, д. 4, 14, 16, 41, 55, 233, 276-279, 334, 335).
Из материалов Коми республиканского архива общественно-политических объединений нами использованы материалы переписки о состоянии религиозного движения в Коми Автономной области обкома ВКП (б) Коми Автономной области с укомами: ф. 1, оп. 2, д. 634, 807 -информационные сводки областного отдела ОГПУ за 1925 г.
В целом, анализируя источники, выявленные к настоящему времени, можно сказать, что этноконфессиональная история коми Верхней и Средней Печоры документирована достаточно неравномерно. Наиболее слабо освещен ранний период (XVTI-XVIII вв.) истории коми данного региона. Достаточно широким и разнообразным кругом источников представлен XIX и начало XX века.
Степень изученности темы. Начало изучению этого региона было положено работами дореволюционных исследователей - В.Н. Латкиным, Н.Д. Голицыным, Н.А. Иваницким, Ф.М. Истоминым, Е.П. Савостьяновым, К.Д. Носиловым, СВ. Мартыновым, П.А. Сорокиным41. В их работах содержится разнообразный материал по истории и этнографии коми данного региона, но приводимые в них сведения о культуре и быте коми старообрядцев в значительной степени носят отрывочный, случайный характер.
После Октябрьской революции и гражданской войны центром изучения национальной культуры и истории народа коми стало Общество изучения Коми края (ОИКК), которое было образовано в 1922 г. Среди многочисленных работ членов этого общества, для нашей диссертационной работы определенный интерес представляет статья местного краеведа и историка A.M. Мартюшева «К истории заселения Печорского края» . На основании распространенного среди верхнепечорских коми элового диалекта и анализа фамилий жителей этого района им был сделан вывод о преимущественном заселении Верхней и Средней Печоры мигрантами со Средней Сысолы, с незначительным участием удорских коми.
Активизация этнографического изучения традиционной материальной и духовной культуры народа коми происходит после Великой Отечественной войны. С 1945 по 1952 гг. на территории Коми АССР, в том числе на Средней и Верхней Печоре, собирала этнографический материал по самой широкой тематике видный советский этнограф В.Н. Белицер. Впоследствии этот материал был обобщен В.Н. Белицер в фундаментальной монографии «Очерки по этнографии народа коми» . В ней приводится обширный материал по материальной и духовной культуре, особенностям хозяйствования различных групп коми (в том числе и проживающих в бассейне реки Верхняя и Средняя Печора) и коми-пермяков. Безусловно, изучение различных этнографических вопросов на такой обширной территории (районов проживания коми-зырян и коми-пермяков) не могло не сказаться на определенном схематизме приводимых данных (в частности, по духовной культуре), в недостаточной степени при этом учитывалась этноконфессиональная специфика этнотерриториальных групп коми. В том же 1958 г. в Сыктывкаре вышла книга Л.П. Лашука «Очерк этнической истории Печорского края»,44 явившаяся результатом многолетних этнографических исследований автора в бассейне реки Печоры. На Верхней и Средней Печоре им были выделены две этнографические группы коми и охарактеризованы присущие им особенности хозяйственной и материальной культуры: коми-ижемцев (изъватас) и верхнепечорских коми {печора катыдса). На основании анализа писцовых книг XVII в. Л.П. Лашуком был документально подтвержден вывод A.M. Мартюшева о мигрантах, вошедших в состав верхнепечорских коми: переселенцы из Средней Сысолы, Вашки, Мезени, Верхней Вычегды.
В 1959, 1960 г. на Верхней и Средней Печоре Институтом русской литературы (Пушкинский дом) были проведены две археографические экспедиции45. Основной целью этих исследований было изучение рукописной традиции местных коми старообрядцев, круга чтения старообрядцев, центров поступления старообрядческой литературы. В ходе экспедиционных работ были выявлены фамилии местных переписчиков рукописных сборников в данном регионе, а также наиболее крупные владельцы старопечатных книг.
Значительный вклад в изучение фольклора коми внесли известные фольклористы А.К. Микушев и Ф.В. Плесовский.
В 1956—1957 годах сбор фольклорного материала на Верхней Печоре (Троицко-Печорский район) проводил А.К. Микушев. Данные исследования показали, что коми фольклор Верхней Печоры не только в своих эпических, но и в лирических жанрах тяготеет к эпической традиции русского населения Печоры (эпические сказания «Красивый Роман», «Казань-гора», лирические песни «В поле ягодка лесная», «Ванька ключник» и др.)46.
В 1968 г. вышла монография Ф.В. Плесовского «Свадьба народа коми»47. Работа ценна тем, что ее основу составляют полевые материалы (студенческие работы Коми пединститута, а также полевые материалы, собранные самим исследователем в различных регионах проживания коми). Исследователь проводит глубокий историко-этнографический анализ свадебного обряда, свадебных песен и причитаний, отмечает их региональные отличия (среди различных этнографических групп к'оми). Особую ценность работе придают выполненные Ф.В. Плесовским переводы текстов причитаний на русский язык, поскольку архаичная лексика и традиционная метафорическая система плачей чрезвычайно затрудняют их понимание. Монография, Ф.В. Плесовского до настоящего времени остается наиболее фундаментальным сводом сведений по свадебной обрядности коми. К сожалению, в силу различных обстоятельств, ему не удалось провести на Верхней и Средней Печоре систематических и планомерных исследований и сведения о верхнепечорской свадьбе достаточно разнородны и фрагментарны.
Различные аспекты культуры и истории коми Верхней и Средней Печоры (формирование этнических групп, традиционное жилище и хозяйственные постройки, хозяйственные занятия и др.) получили освещение в ряде работ известного этнографа Л.Н. Жеребцова 8.
Систематические, планомерные исследования коми старообрядчества начались в 60-х гг. XX в. В рамках диссертационной работы по теме «История религии и атеизма народа коми» Ю.В. Гагариным были обследованы русские и коми старообрядческие группы Коми АССР -
Усть-Цилемский, Усть-Куломский, Печорский, Троицко-Печорский,
Удорский районы Коми .АССР. Материалы данных исследований послужили основой для ряда его работ по старообрядчеству в Коми крае49.
Итогом многолетних полевых и архивных изысканий Ю.В. Гагарина стала его фундаментальная монография «История религии и атеизма народа коми»50. Работа содержит разнообразный фактический материал, собранный в архивах, труднодоступных изданиях (в дореволюционных периодических изданиях). В то же время в ней, как и в других публикациях исследователя, достаточно явственно ощущается отпечаток времени: явное і преувеличение «невежества и консерватизма» старообрядцев.
В этнографических экспедициях Ю.В. Гагарина принимала участие Н.И. Дукарт. Результатом этих исследований стали ее работы, в которых рассматриваются различные стороны календарной обрядности коми51. Благодаря ее обширным полевым изысканиям в научный оборот был введен значительный материал, касающийся святочных персонажей и игр, а также молодежных развлечений, приуроченных к весенне-летнему циклу. Содержание большинства календарных обрядов, гаданий и игр рассматривалось Н.И. Дукарт в связи с магией плодородия. Следует подчеркнуть, что районы проживания печорских коми старообрядцев в ее работах оказались изучены неравномерно. В частности, практически не был обследован Печорский район.. Безусловно, данные территориальные лакуны не позволяют в полной мере представить своеобразие календарной обрядности печорских коми старообрядцев.
В 1973 г. на Средней Печоре, по заданию Древнехранилища ИР ЛИ и научной библиотеки им. Горького, работала археографическая экспедиция ЛГУ (руководитель Н.С. Демкова). В силу различных обстоятельств экспедиции не удалось обнаружить в данном районе рукописную традицию, не были также выявлены значительные собрания старопечатных книг в библиотеках местных старообрядцев52.
В 1979 г. в сборнике «Полевые исследования института этнографии» была опубликована статья А.И. Терюкова «Погребальный обряд печорских коми»53, написанная на основе полевых исследований автора 1976 г. на Верхней и Средней Печоре. Материалы данных исследований вошли в диссертационное сочинение А.И. Терюкова, в котором он, на основании привлечения широкого круга источников (дореволюционные публикации по духовной культуре коми, исследования отечественных этнографов по семейной обрядности коми, а также полевые материалы, собранные автором в различных районах проживания коми-зырян), приводит подробное описание основных ритуальных действий похоронно-поминальной обрядности коми.
В 1986 г. выходит работа Ю.Г. Рочева о традиционных представлениях коми о духе-двойнике55. Данная работа, выполненная на основе полевых исследований автора среди коми-ижемцев, вносит ряд дополнений к статье А.И. Терюкова «Представления коми-зырян о душе»56.
Значительные исследования в послевоенный период по изучению диалектных особенностей коми населения Верхней и Средней Печоры были проведены лингвистами, на основании которых были изданы словари верхнепечорского и ижемского диалектов коми языка57.
Различные аспекты истории заселения и освоения коми Печорского края нашли отражение в работах. И.Л. Жеребцова «Население Коми края в конце XVI - начале XVIII вв.», «Коми край в XIX века территория и население» . На основании широкого круга источников (ревизские сказки, окладные книги, клировые ведомости и др.) им были проанализированы основные этапы формирования коми населения на Верхней и Средней Печоре в XVII - середине XIX вв., подробно освещена история населенных пунктов этого региона.
Различные вопросы истории и культуры коми Верхней и Средней Печоры (формирование этнографических групп, семейная и календарная обрядность, хозяйственные занятия) рассматривались в работах В.А. Семенова, Н.Д. Конакова, О.В. Котова, Д.А. Несанелиса, Н.Н. Чесноковой59.
Активизация исследований коми старообрядческого населения во второй половине 80-х годов связана с образованием при СГУ Проблемной научно-исследовательской лаборатории фольклорно-археографических исследований (ПНИЛ ФАИ). Основное направление деятельности лаборатории было сосредоточено на создании источниковедческой базы по духовной культуре Европейского Северо-Востока. География фольклорных экспедиций включала различные районы Коми республики, а также Архангельской и Кировской области . ' В 1988 г. было начато фольклорно-археографическое обследование Верхнепечорского региона, ас 1991 г. аналогичные исследования стали проводиться на Средней Печоре (Печорский район). Полевая работа в этом регионе носила многоаспектный характер. Кроме выявления и собирания письменных памятников, участники экспедиций фиксировали современное состояние фольклорной традиции, обширный этнографический материал, сведения, касающиеся этноконфессионального самосознания местного населения, изучали религиозный быт и верования печорского старообрядчества. В ходе экспедиций было также выявлено несколько старообрядческих книжных собраний. Самое крупное из них - библиотека Самуила Андреевича Мамонтова, насчитывающая до 40 книг, среди которых преобладают старопечатные сборники конца XVIII - нач. XIX вв.61 История распространения старообрядчества в Печорском крае рассматривается в работах Ю.В. Савельева . Первоначально, в XVIII в., как полагает исследователь, старообрядчество в Печорском крае развивалось под влиянием нижнепечорского старообрядческого центра и реализовывалась в рамках даниловского толка. Позднее местные старообрядцы попали под влияние московской федосеевской общины. Серьезного внимания заслуживает, в частности, вывод исследователя о том, что «Печорский край с точки зрения изучения конфессиональных течений следует рассматривать как регион, объединяющий в себе два исторически сложившихся старообрядческих центра - Среднепечорский и Верхнепечорский. В районе Средней Печоры распространилось федосеевское учение, проникшее сюда с низовий реки; на формирование религиозных взглядов верхнепечорцев большое, подчас определяющее влияние, оказывала традиция «истинно православных христиан-странников» .
В конце 1980-х-нач. 1990-х к тематике старообрядчества активный интерес начинают проявлять этнографы и фольклористы ИЯЛИ КНЦ'УРО РАН (В.Э. Шарапов, Т.И. Дронова, П. Ф. Лимеров). Результатом этих исследований стала серия публикаций Т.И. Дроновой, в которых рассматриваются различные аспекты культуры русских старообрядцев Нижцей Печоры (семейная и календарная обрядность, формирование этноконфессиональной группы устьципемов)64.
В середине 1990-х выходит ряд работ В.Э. Шарапова, написанных на основе полевых исследований старообрядческих групп Удоры, Верхней Вычегды и Средней Печоры. В этих статьях поднимаются различные вопросы культуры коми старообрядцев-беспоповцев: христианская символика в народной традиции и влияния староверия на формирование центров росписи по дереву у коми; взаимодействие устных и письменных форм в культуре коми старообрядцев (христианские апокрифы; эсхатологические тексты; язык и символика сновидений и их этноконфессиональная специфика и др.), обрядовая и бытовая культура65.
В конце 1990-х в рамках диссертационной работы «Группы коми (зырян) староверов: конфессиональные особенности социально-обрядовой жизни (XIX-XX вв.)» начинается изучение коми старообрядческих групп сотрудницей отдела этнографии ИЯЛИ КНЦ УРО РАН В.В. Власовой66. В рамках данной работы ею были проведены исследования на Удоре (Удорский район) и на Верхней Вычегде (Усть-Куломский район), была написана серия статей. Тематика ее исследований затрагивала такие важные вопросы старообрядческой культуры как структура и функция старообрядческих общин; изучение механизмов передачи религиозного опыта, формирование старообрядческих групп среди коми-зырян, обрядовая сфера и др. В ряде.ее статей получила освещение ранее не разработанная тема, связанная с изучением основных центров поступления старообрядческого медного литья на территорию Республики Коми и особенностями бытования медного литья среди коми (календарная и семейная обрядность) . Как мы уже подчеркивали, ее исследования в основном затрагивали две группы коми-зырян староверов - вычегодских и удорских69. Исследования среди печорских коми старообрядцев ею не проводилось, поэтому многие вопросы, связанные с историей формирования старообрядческих локальных групп на Верхней и Средней остались за рамками ее работы.
В целом в исследованиях по истории и культуре коми Верхней и Средней Печоры основное внимание было уделено формированию этнографических групп коми в данном регионе, особенностям материальной культуры, традиционных промыслов и занятий. Гораздо слабее оказалась изученной традиционная семейная обрядность коми данного региона. Собранные материалы по семейной обрядности (родильные, свадебные обряды и обряд крещения) недостаточны для ее обобщающей характеристики: записи, сделанные в разные годы и в разных местностях, несистематичны, часто случайны, фрагментарны. Основная часть собранных этнографических материалов относится к периоду 50-70х г.г. XX вв. Практически не документирован в этнографическом отношении дореволюционный период, что ставит перед исследователями серьезную проблему при выяснении истоков локальных различий в обрядовом комплексе. В недостаточной степени также была изучена специфика календарной обрядности коми старообрядческого населения Верхней и Средней Печоры. Практически не исследовалось влияние старообрядческой книжной культуры на фольклор коми данного региона (христианские апокрифические тексты, эсхатологические представления и др.). С целью расширения источниковедческой базы, для восполнения существующих по данной проблематике лакун автором были предприняты полевые исследования современных старообрядческих групп в бассейне Верхней и Средней Печоры70.
Сбор материалов проводился по программе, разработанной на основе методических пособий, подготовленных преподавателями іСГУ (Т.В. Волкова, Д.А. Несанелис. Методика проведения опроса населения северных регионов коми АССР по программе «Духовная культура Севера». Сыктывкар, 1989; В.А.Семенов. «Традиционная семейная обрядность коми (зырян)». Сыктывкар, 1989).
Опрос информантов по обряду крещения проводился по специально разработанному автором опроснику (Прил. II). При разработке опросника привлекались материалы уставной литературы (требники). При сборе материала по теме «Эсхатологические представления. Этикетные нормы и религиозные предписания» мы опирались на исследования А.Ф. Белоусова и СЕ. Никитиной .
Цели и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе этнографического материала и привлечения широкого круга архивных источников и литературы попытаться дать комплексную характеристику современных этнокультурных процессов коми населения в бассейне Верхней и Средней Печоры. При этом мы считаем важным не только дать подробное описание конкретных этнолокальных групп коми, но и проанализировать сам механизм формирования этих групп; выявить роль старообрядчества, как одного из важнейших его составляющих в данных процессах. Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи исследования, определяющие содержание диссертационного сочинения: - Выявить место старообрядчества в этнокультурных процессах коми Верхней и Средней Печоры и изучить особенности этнической и конфессиональной идентификации коми исследуемого региона. - Исследовать особенности конфессиональной жизни старообрядческих общин: взаимоотношения внутри общины и с представителями других конфессий. - Дать характеристику семейных обрядов современного коми населения: различия в обрядовой культуре различных конфессиональных групп (старообрядцы-поморцы, бегуны, православные); степень ее сохранности в настоящее время. - Изучить этнокультурную ориентацию современного коми населения (обрядовая сфера, поведенческие стереотипы и установки).
Исследовать функционирование церковных праздников в среде современного коми населения: различия в старообрядческом и православном церковных календарях; отношение старообрядцев к архаичным играм и обрядам календарной обрядности (святочные игры, гадания и др.), а также к церковным праздникам и святым, утвердившимся в Русской Православной церкви после реформ Никона.
Раскрыть, каким образом происходило взаимодействие устной и письменных форм в народной культуре, в частности, выявить роль старообрядческой книги в формировании норм и предписаний бытовой культуры (этикет, пища, гигиена и др.). - Изучить особенности функционирования традиционного фольклора (прозаические жанры, песенный фольклор, духовные стихи и др.): их трансформация и деформация в старообрядческой среде. - Исследовать взаимодействие русского, церковнославянского и коми языков в повседневной и религиозной сфере жизни, взаимопроникновение церковнославянизмов и диалектных форм в бытовую речь и литургические тексты, а также выявить круг заимствований в религиозно-обрядовой сфере.
Научная новизна. Научная новизна работы состоит в том, что впервые старообрядчество рассматривается в качестве одного из факторов формирования этнолокальных групп коми. При этом не только выявляется его роль в современных этнокультурных процессах на Верхней и Средней Печоре, но и производится анализ механизма взаимодействия различных этнических и конфессиональных традиций. В диссертационном сочинении вводится в научный оборот материал, выявленный в различных архивах, а также собранный в ходе многолетних полевых исследований (1993-2002) коми старообрядческого населения Верхней и Средней Печоры.
Практическая значимость работы. Диссертационное исследование вносит определенные дополнения к имеющимся в научном обороте сведениям об этнотерриториальных группах коми в бассейне реки Верхней и Средней Печоры, а также в нем дается подробная характеристика современных этнокультурных процессов в данном регионе. В научном плане работа может быть привлечена для историко-сравнительного исследования по культуре русских и коми старообрядческих групп Европейского Северо-Востока, а его материалы могут быть использованы для лекционных курсов по истории религии, в частности, православных народов России, а также по этнографии коми-зырян. 1 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М, 1983; Бернштам Т.А. Поморы: Формирование группы и система хозяйства. Л., 1978; Берштпам Т.А. Русская народная культура Поморья XIX — начала XX в.: Этнографические очерки. Л., 1983; Логинов К.К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья (конец XIX — начало XX в.) СПб., 1993; Русский Север. К проблеме локальных групп. СПб., 1995; Чистов КВ. Этническая общность, этническое сознание и некоторые проблемы духовной культуры // СЭ, 1972, № 3. С. 73-86; Чистов КВ. Народные традиции и фольклор. Л., 1986 и др. 2 Жеребцов Л.Н. Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVII — начале XX в. М, 1972; Жеребцов Л.Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. М., 1982; Лашук Л.П. Очерки этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958; Лашук Л.П. Формирование народности коми. М., 1972; Конаков Н.Д., Котов О.В. Этноареальные группы коми: формирование и современное этнокультурное состояние. М., 1991 3 Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб., 2000; Громыко ММ. Традиционные нормы поведения'и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986; Громыко ММ. Мир русской деревни. М., 1991. 4 Устные и письменные традиции в духовной культуре Севера. Сыктывкар, 1989; Источники по истории народной культуры Севера. Сыктывкар, 1991; Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, ' Азии и Америки. Новосибирск, 1992; Старообрядчество. История. Культура. Современность. М., 1997; Мир старообрядчества. Живые традиции: результаты и перспективы комплексных исследований русского старообрядчества. М., 1998; Старообрядчество. История. Культура. Современность. М., 1998 и др. 5 Гагарин Ю.В. История религии и атеизма народа коми. М., 1978; Гагарин Ю.В. Старообрядцы. Сыктывкар, 1973. 6 Фишман ОМ. К изучению этнической культуры карел. Верхневолжья // Современное финно-угроведение. Опыт и проблемы. Л., 1990, С. 158-163; Фишман ОМ. Феноменологическийй подход к изучению группового сознания тихвинских карел//Кунсткамера. СПБ., 1993. Вып.2—3, С. 20-28; Фишман ОМ. О таинстве крещения у тихвинских карел-старообрядцев // Международная научная конференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры русского Севера. «Рябининские чтения-95». Сборник докладов. Петрозаводск, 1997, 398-406; Фишман О.М. Жизнь по вере: тихвинские карелы- старообрядцы. М., 2003. 7 Сморгунова Е.А. Старообрядцы Верхней Язьвы: особая языковая ситуация. // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992, С. 157-162.
Бернштам Т.А. Поморы...; Бернштам Т.А. Русская народная культура Поморья...; Русский Север. К проблеме локальных групп. СПб.,1995; Чистов КВ. Этническая общность, этническое сознание...; Чистов КВ. Народные традиции... 9 Громыко ММ. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986; Громыко ММ. Мир русской деревни. М., 1991; 10 Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян: Учение и опыт Церкви в народном христианстве. СПб., 2000; 11 ГердА.С. Введение в этнолингвистику. СПб., 1995. 12 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983, С. 57-87. і 13 Козлов В.И. Этническая группа // Свод этнографических понятий и терминов. Этнические и этно-социальные категории. Выпуск 6. М., 1995. С. 147. 14 Козлов В.И. Этнографическая группа // Свод этнографических понятий и терминов. Этнические и этно-социальные категории. Выпуск 6. М., 1995. С. 149. 15 Там же. С. 149. 16 Там же. С. 149. .17 Там же. С. 149. 18 Брук СИ., Чебоксаров Н.Н., Чеснов Я.В. Проблемы этнического развития стран зарубежной Азии // Вопросы истории, 1969, № 1, С. 99. 19 Ипатов А.Н. Этноконфессиональная общность как социальное явление //
Автореф. докт. дисс. М., 1980. С. 9. і 20 Там же. С. 16. 21 П.И. Пучков. Этнос и религия // Этнические процессы в современном мире. М., 1987, С. 73; П.И. Пучков. Этноконфессиональная общность. // Свод этнографических понятий и терминов. Этнические и этно-социальные категории. Выпуск 6. М., 1995, С. 149-151.. 22П.И. Пучков. Этноконфессиональная общность... С. 150. 23 Поздеева ИВ. Книга .- личнрсть - община - инструменты воспроизводства традиционной культуры (30 лет изучения старообрядческих общин Верхокамья) // Старообрядческий мир Волго-Камья. Проблемы комплексного изучения. Материалы научной конференции. Пермь, 2001, С. 7-30. 24 Никитина СЕ. Устная традиция в народной культуре русского населения Верхокамья // Русские письменные и устные традиции и духовная культура. М., 1982. С. 93-126 25 Никитина СЕ. Духовные стихи в современной старообрядческой культуре: место, функция, семантика // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. XI Международный съезд славистов. Братислава 1993. М., 1993, С. 247-259; Никитина СЕ. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993; Никитина СЕ. Устная традиция в народной культуре русского населения Верхокамья // Русские письменные и устные традиции и духовная культура. М., 1982, С. 111-123. 26 Сморгунова Е.А. Лингвистические проблемы в археографических исследованиях (языковые особенности русского старообрядческого населения). // Русские письменные и устные традиции и духовная культура.М., 1982, С. 72-90; Iryda , Grek-Pabisova. Религиозная и культовая терминология и ее функционирование в говоре старообрядцев в Польше и Болгарии. // Skupiska staroobrzewcow w Europie, Azji і Ameryce ich mieysce і tradycje we wspotczesnym swiecie. Варшава. 1994, С. 301-312; Anna Zielinska. Билингвизм старообрядцев в Сувальской области. // Skupiska staroobrzewcow w Europie, Azji і Ameryce ich mieysce і tradycje we wspotczesnym swiecie. Варшава. 1994, С. 333-337. 21 Сморгунова Е.А. Старообрядцы Верхней Язьвы... С. 157-162 28 Фишман О.М. Этноконфессиональное сознание карельских старообрядцев. // Узловые проблемы современного финно-угроведения. Йошкар- Ола, 1995, С. 186-188; Фишман ОМ. религиозно-культурный феномен карельского старообрядчества. New-York - Ontario. The dwin Mellen Press. 2000. С 183-199; Фишман О.М. Жизнь по вере... С. 188-196. ' 29 Лапин В.А. Историческая, проблематика русского музыкального фольклора // Автор, дисс. док. искусствоведения. СПб., 1999. С. 17 30 Белоусов А. Ф. Из заметок о старообрядческой культуре: "великое" понятие "нужды". // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979, С. 68-73. 31 Смирнов П.С. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. СПб., 1898; Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Сергиев Посад, 1913; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909—1912. Т.1, 2; Голубинский Е. К нашей полемике со старообрядцами. М., 1905; Ивановский Н.П.Критический разбор учения беспоповцев о церкви и таинствах. Казань, 1892. 32 Листова Т.А. Таинство крещения у старообрядцев Северного Приуралья. // Традиционная духовная и материальная культура в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, С.207-212; Кремлева И.А. Похоронно-поминальная обрядность у старообрядцев Северного Приуралья // Традиционная духовная и материальная культура в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, С.202- 206; Фишман О.М. О таинстве крещения у тихвинских карел-старообрядцев // Международная научная конференция по проблемам изучения, сохранения и актуализации народной культуры Русского Севера. // «Рябининские чтения-95». Сборник докладов. Петрозаводск, 1997, С. 398-406; Дронова Т.Н. Русские староверы-беспоповцы: конфессиональные традиции в обрядах жизненного цикла (конец XIX-XX вв.). Сыктывкар, С. 2002, С. 82-93. 33 Макашина Т.С. Свадебный обряд русского населения Латгалии // Русский народный свадебный обряд. Л., 1978, С. 138-158; Липинская В.А. Старожилы и переселенцы. Русские на Алтае XVIII—начало XX века. М., 1996;. На путях из земли Пермской в Сибирь. Очерки этнографии североуральского крестьянства XVII—XX вв. М., 1989. См. также статьи этих авторов в сборнике: Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992; Иванец Э. Обряд крещения у старообрядцев в Польше // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992, С. 262-269. 34 На путях из Земли Пермской в Сибирь. Очерки этнографии североуральского крестьянства VII-XX вв. М., 1989, С. 307. 35 Зенъковскш С.А. Русское старообрядчество: Духовные движения XVII века.М., 1995, С. 486-491. ' 36 Фишман О.М. . Этноконфессиональное сознание карельских старообрядцев... 186-188; Фишман О.М. Религиозно-культурный феномен карельского старообрядчества... С. 169-171; 361-362; Фишман О.М. Жизнь по вере... С. 173-175. 37 Бернштам Т.А. Русская народная культура и народная религия // СЭ. 1989, №.1, С. 91—92; Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986, С. 24-25; Никитина СЕ. "Стихи духовные" Г. Федотова и русские духовные стихи. // Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. М., 1991, С.141; Панченко А.А.Исследования в области православия: Деревенские святыни Северо-Запада России. СПб., 1998, С. 22; 38 Никитина СЕ. "Стихи духовные"... С.141 39Бернштам Т.А. Русская народная культура... С.91—92; Панченко А.А. Указ. соч. С.20—22. 40 Панченко А.А. Указ. соч. С. 22. 41 Латкин В.Н. Дневник во время путешествия на Печору в 1840—1841 и 1843 годах// Зап. РГО. 1853. Кн.7.; Иваницкий НА. Из Вологды на Печору. Путевые заметки, // РГО, разряд 7 оп. 1 д. 50; Ермилов НЕ. Поездка на Печору. Путевые заметки. Архангельск, 1888; Голицын Н.Д. Записка по обозрению Печорского края летом 1887 г. Архангельск, 1888; Истомин Ф.М. Поездка в Печорский край летом 1889 года // Известия русского географического общества. T.XXVI. СПб., 1890. С.142—170; Истомин Ф.М. О религиозном состоянии обитателей Печорского края (из путевых наблюдений). // Церковные ведомости СПб.,'1890, № 19 от 8 мая; Савостьянов Е.П. Печорский край Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. // РГО, разряд 7, опись 1 д. 98; Мартынов СВ.Печорский край. Подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда. СПб., 1904 Ч. 1; Мартынов СВ. Печорский край. Подворно-экономическое исследование селений Печорского уезда, произведенное доктором СВ. Мартыновым. СПб., 1905. Ч. 2.; Сорокин П.А. К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян // Известия Архангельского общества Изучения Русского Севера (ИОАИРС), 1911г.,№5 С.356-357. 42 Мартюшев A.M. К истории заселения Печорского края // Записки общества изучения Коми края. Сыктывкар, 1929. Вып. 3. С. 44-66. 43 Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми XIX—начало XX в. // Тр.ИЭ.М., 1958. Т. 45 44 ЛашукЛ.П. Очерк этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958 45 Бегунов Ю.К., Демин А.С., Панченко A.M. Отчет об археографической экс педиции в верховья Печоры и Колвы в 1959 г. // ТОДРЛ. Т. 17. М.;Л., 1961. С.545—557; Балашов Д.М., Бегунов Ю.К. Поездка за рукописями в Печорский район Коми АССР в 1960 г. // ТОДРЛ. Т. 18. М.-Л., 1962. С. 420—425. 46 Микушев А.К. Народно-песенное творчество верховьев Вычегды и Печоры // Русский фольклор. Материалы и исследования. Т. 4. М.-Л., 1959. С. 435—439. 47 Плесовский Ф.В. Свадьба народа коми. Сыктывкар, 1968. 48 Жеребцов Л.Н. Расселение коми в XV-XIX вв. Сыктывкар, 1972; Жеребцов Л.Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. М., 1982. 49 Гагарин Ю.В. Распад печорского старообрядчества. // Ист. - фил. сборник, вып. 9. Сыктывкар, 1965; Гагарин Ю.В. Старообрядцы. Сыктывкар, 1973; Гагарин Ю.В. Преследование старообрядчества в Коми крае русской православной церковью и самодержавным государством в (XIX—начала XX вв.) // Вопросы истории Коми АССР (XVII—начала XX вв.). Труды ИЯЛИ КФАН СССР, Вып. 16. Сыктывкар, 1975. 50 Гагарин Ю.В. История религии и атеизма народа коми. М., 1978. 51 Дукарт НИ. Весенне-летние праздники и обряды в северной деревне конца XIX—начала XX вв. // Труды ИЯЛИ КФАН. Сыктывкар, 1975. Вып. 16. С.141—152; Дукарт НИ. Святочная обрядность коми конца XIX—начала XX вв.// Традиционная культура и быт народа коми // Тр. ИЯЛИ КФАН СССР. Вып.20. Сыктывкар, 1978. С. 91—103 52 Демкова НС. Отчет об археографической экспедиции на Печору // ТОДРЛ. Т.ЗО. Л., 1976. С. 357—360 ' 53 Терюков А.И. Погребальный обряд печорских коми // Полевые исследования института этнографии 1977 г. М., 1979. С. 80-86. 54 Терюков А.И. Похоронно-поминальная обрядность коми-зырян (вторая половина XIX—начало XX вв.). Автореф. на соиск. канд. и. н. Л., 1990. 55 Рочев Ю.Г. Традиционные представления коми об орте и их трансфор мация в современности // Традиция и современность в культуре сельского населения Коми АССР // Тр. ИЯЛИ КФАН СССР. Вып. 37. Сыктывкар, 1986. С.57—70. 56 Терюков А.И. Представления коми-зырян о душе // Этнокультурные процессы в современности и традиционных обществах. М., 1979. С. 174—182. 57 Сахарова М.А., Селъков Н.Н. Ижемский диалект коми языка. Сыктывкар, 1965; Сахарова М.А., Селъков Н.Н., Колегова НА. Печорский диалект коми языка. Сыктывкар, 1976. 5&Жеребцов ИЛ. Население коми края во второй половине XVI—начале XVIII в. Екатеринбург, 1996; Жеребцов ИЛ. Коми край в XVIII - середине XIX: территория и население. Сыктывкар, 1998. 59 Семенов В.А. Ритуал и символ. Сыктывкар, 1991; Он же. Традиционная семейная обрядность народов Европейского Севера. СПб., 1992; Конаков Н.Д., Котов О.В. Этноареальные группы коми. М., 1991; Конаков Н.Д. От святок до сочельника. Сыктывкар, 1993; Несанелис ДА. Раскачаем мы ходкую качель. Сыктывкар, 1994; Чеснокова НН. Источники к истории формирования этноконфессиональных групп Припечорья // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. Сыктывкар. 1996. Т.1. С. 297—314. 60 Об археографической деятельности ПНИЛ ФАИ см.: Волкова Т.Ф., Власов А.Н. Работа Проблемной лаборатории фольклорно-археографических исследований Сыктывкарского университета по изучению духовной культуры Севера // Исследования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера, Сыктывкар, 1997, С. 3-19 61 Власов А.Н, Савельев Ю.В. Старообрядческий книжник С.А. Мамонтов. К вопросу о формировании крестьянских библиотек на Севере // История вузовских музеев страны. Сыктывкар, 1994. С.169—170; Власов А.Н. Древнее благочестие у коми // Памятники Отечества: Земля Коми. 1996. № 36, С. 206-208. 62 Савельев Ю.В. Старообрядчество в Печорском крае Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии // Старообрядчество. История. Культура. Современность. Вып. 5. М., 1996, С. 55—60; Савельев Ю.В. Старообрядчество в Печорском крае Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии // Исследования по истории книжной и традиционной народной культуры Севера. Сыктывкар, 1997. С. 96—105. 63 Савельев Ю.В. Старообрядчество в Печорском крае Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии // Старообрядчество. История. Культура. Современность. Вып. 5. М., 1996. С. 58-59. 64 Бабикова (Дронова) Т.И., Семенов В.А. Детские и молодежные развлечения в контексте семейной обрядности "устьцилемов" // Источники по истории народной культуры Севера. Сыктывкар, 1991. С. 83-88; Бабикова (Дронова) Т.И. Формирование этноконфессиональной группы «устьцилемов» // Эволюция и взаимодействие культур народов Северо-Востока Европейской части России. Сыктывкар, 1993, С. 27-42; Бабикова (Дронова) Т.И. Погребально-поминальный обряд "устьцилемов". Сыктывкар, 1998. 65 Шарапов В.Э. Христианские сюжеты в фольклоре коми старообрядцев Средней Печоры // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. Сыктывкар. 1996. Т.2. С. 310—320; Шарапов В.Э.Сон и сновидение в фольклоре коми // Арт. 1997. С. 222—230; Шарапов В.Э.Графическая и свободнокистевая роспись по дереву на территории Коми края в Х1Х-нач. XX веков // Музеи и краеведение. Тр. Национального музея Республики Коми. Сыктывкар, 1997. С. 104-116. Шарапов В.Э. Перна - наперсный крест // Арт. 1998. № 3. С. 134-141; Шарапов В.Э. Намогильные резные иконы и деревянные кресты у коми старообрядцев-беспоповцев // Старообрядчество: история, культура, современность. № 9. М., 2002. С. 25-29. 66 Власова В.В. Группы коми (зырян) староверов: конфессиональные особенности социально-обрядовой жизни (XIX-XX вв.). Автореф. на соиск. канд. и. н. СПб., 2002. 67 Власова В.В. Современный обряд крещения у верхневычегодских и удорских коми староверов // Этнокультурная история Урала XVI-XX вв. Материалы научной конференции. Екатеринбург, 1999, С. 117-119; Власова В.В.Институт наставничества у коми (зырян) староверов-беспоповцев // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы конференции. М., 2001, С. 181-191; Власова В.В. Распространение старообрядчества среди коми (зырян): проблема формирования этноконфессиональных групп // Коренные этносы Севера европейской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность. Материалы международной конференции. Сыктывкар, 2000, С. 235-239. 68 Власова В.В. Старообрядческое медное литье на территории Коми края // Проблемы материальной и духовной культуры России и зарубежных стран. Тезисы докладов. Сыктывкар, 1999, С. 47; Власова В.В. Медное литье в традиционной культуре коми-зырян староверов-беспоповцев // Христианский мир: религия, культура, этнос. Материалы Всероссийской научной конференции. СПб., 2000, С. 268-274. 69 Власова В.В. Группы коми (зырян) староверов: конфессиональные особенности социально-обрядовой жизни (XIX-XX вв.). Автореф. на соиск. канд. и. н. СПб., 2002, С. 4. 70 Этнографические исследования 1995-1997 гг. финансировались отделом культуры Печорского горисполкома. Материалы данных этнографических исследований хранятся в научном архиве Печорского краеведческого музея: ф.20, оп.6, д.1. Шарапов В.Э., Чувъюров А.А. Научный отчет этнографической экспедиции Печорского краеведческого музея. Материалы по истории заселения бассейна реки Средняя Печора и традиционной духовной культуре коми старообрядческого населения в данном регионе. Сыктывкар, 1995; фонд 25 (фонд религия и атеизм) - КП 2941/1, КП 2941/2, КП 2984/1, КП 29842, КП 2984/3; 71 Белоусов А.Ф. О влиянии старинной письменности на мировоззрение русских сторожилов Прибалтики // Учен, зап./ Тартуский гос. ун-т, 1979, вып. 491. Типология русской литературы и проблемы русско-эстонских литературных связей: Тр. по рус. и слав, филологии. Т. 31. Тарту, 1979, С. 3-12; Белоусов А.Ф. Литературное наследие Древней Руси в народной словесности сторожилов Прибалтики. Автореферат дис. кан. фил. Наук. Тарту, 1980; Белоусов А.Ф. Последние времена // Сборник памяти о. Александра Меня. М., 1991; Никитина СЕ. Духовные стихи... С. 247-259; Никитина СЕ. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.
«Заселение коми бассейна Верхней и Средней Печоры»
Заселение коми Верхней и Средней Печоры происходило в XVII— XIX веках. До появления коми основными насельниками этих мест являлись обские угры (ханты и манси), которые, не имея постоянных селений, передвигались с места на место, в поисках лучших охотничьих и рыболовных угодий.3 Однако, начиная с XVII в. ханты и манси уже не были единственными собственниками промысловых угодий на Печоре. Рыбными тонями и звериными ловищами по Печоре и ее притокам (Подчерему и Щугору) в этот период уже владели чердынцы и вычегодские коми.4 Первое коми селение на Верхней Печоре - починок Кузьминский (ныне с. Троицко-Печорск) — появилось в 1674 г. Основатели его пришли на Печору из самых разных районов Коми края. В 1678 г. в починке было уже 5 крестьянских дворов. В них жили переселенцы с Лузы — 1, из Визинги — 1, из Вотчи — 1, с Удоры — 1 и один неизвестный.5 Вплоть до 1710 г. починок Кузьминский был приписан к верхневычегодскому погосту Пожегу. А с 1710 г. стал самостоятельным погостом (Печорским), состоявшим из 14 дворов. В 1720 г. в нем, кроме основателя Кузьминцева, жили Политов, Пыстин, Кузнецов, Петров, Бажуков, Юрьев, Шахторов, Жангуров, Логинов и Перший. В начале XVIII в. починок был переименован в погост Печорский, а после постройки в 1707 г. в селе церкви во имя Живоносной Троицы, он был переименован в Троицкий погост (с. Троицко-Печорск). Коми название поселения Мылдт -гидронимического происхождения: "расположено у реки Мылвы". Число приписанных по 10 ревизии (1858 г.) к Троицко-Печорскому сельскому обществу составляло 1015 человек (муж.-448, жен.-517).8 Наиболее распространенными фамилиями среди них были Пыстины, Поповы, Бажуковы, Кузнецовы, Юдины, Мартюшевы.9 Из них 648 жителей (289 муж., 359 жен.) проживало в самом селе Троицко-Печорском, в котором в тот период было 108 дворов.
Коми население Верхней Печоры, крайне малочисленное в начале XVIII века, быстро возрастает к концу этого столетия. В 1787 г. при Генеральном межевании крестьянских дач на Верхней Печоре было 13 деревень, в которых насчитывалось 153 двора и 1047 душ обоего пола11: Троицко-Печорское, Сойва, Покчинская, Скаляповская, Кодачдин, Овининская, Евтюжинская, Савинобор, Пырединская, Подчерская, Щугорская, Усть-Сопляс, Позориха.
Среди жителей этих деревень в ревизских сказках наиболее часто встречаются фамилии: Пыстин, Бажуков, Мартюшев, Мамонтов, Логинов, Растворов, Мезинцев, Шахтаров, Денисов12. Упоминаются также фамилии: Турбылев, Казаков, Кузнецов, Нестеров, Филиппов, Остяков, Юдин, Игнатов, Головин13.
Исследования Л.П. Лашуком и Л.Н. Жеребцовым фамильного состава жителей Печорского края (Верхняя Печора) свидетельствуют о том, что Верхняя Печора преимущественно заселялась коми переселенцами из Сысолы и Верхней Вычегды. Так, фамилия Шахтаров, широко распространенная (по материалам ревизий) среди верхнепечорских коми, происходит с Сысолы, где она упомянута в писцовой книге 1608 г. в Межадоре, а в писцовой книге 1646 г. - в Пыелдине. 4 Фамилии Пыстин, Бажуков, Кузнецов также были типичны для Сысолы и распространены среди населения Визинги, Вотчи и Пыелдина. Логиновы в 1720 г. проживали в д. Кужба на Верхней Вычегде.15 Широко распространенные среди верхнепечорских коми фамилии Мамонтов, Мартюшев и Мезенцев имеют различное происхождение. Крестьяне Мамонтовы впервые упоминаются на Сысоле в погосте Кибра, на верхней Вычегде Усть-Немской и Мыелдинской волостях, откуда некоторые из них в XVIII в. переселились на Печору.16 Фамилия Мартюшев в XVIII в. встречается на Выми, — в Усть-Выми и Княжпогосте, на Сысоле — в погосте Иб, на Удоре — в Глотовской слободке.17 Фамилия Тырбылев, также отмеченная в ревизских сказках среди верхнепечорских коми, в 1585 г. упоминается в числе жителей погоста Вочь (Верхняя Вычегда). Фамилия Мезенцев нигде, кроме Печоры, не известна: вероятно, она ведет свое начало от прозвища переселенцев из Верхней Мезени.
За период с 1784 г. по 1843 г. численность поселений на Верхней Печоре увеличилась вдвое: в своем дневнике В.Н. Латкин перечисляет 27 населенных пунктов; помимо указанных в Генеральном межевании, добавились деревни: Митрофановская, Пашня, Дема, Кузьдибож, Дугово, Лемты, Лемтибож, Вуктыльская (Вуктыл-дин), Усть-Воя, Борис-Дікост, Оранец (Аранец), Конецборская, Красный бор.20 Кроме этих деревень отмечены три вновь образованных поселения: первое, - между Кодачинской (Петрушино) и Митрофановской (д. Кодачдикост); второе, — между с. Подчерем и Усть-Щугором (д. Солдат (Боярский Яг)); третье, — на р. Сойве (Пилястав), в 20 километрах от волостного центра (Троицкого погоста) и в нескольких верстах выше уже упоминавшейся д. Сойвы (Сойвинской).21 В материалах девятой и десятой ревизий в числе жителей этих поселений отмечены уже упоминавшиеся фамилии Денисовых, Бажуковых, Казаковых, Мезенцевых, Пыстиных22, что позволяет говорить, что освоение этой территории в период с 1784 г. по 1843 г. происходило в основном за счет внутренней колонизации.
Таким образом, к началу XIX в. верхнепечорские коми заселили пространство от устья Северной Мылвы до устья реки Кожвы, где в конце XVIII в. была основана д. Усть-Кожва с выходцами с Ижмы и Верхней Печоры.
Согласно местному преданию, записанному в конце прошлого века, д. Усть-Кожва была основана верхнепечорскими и устьцилемскими старообрядцами. Впервые д. Усть-Кожва упоминается в материалах 5-й ревизии 1795 г.: в ней проживало 30 человек (17 муж., 13 жен.). В числе основателей поселения указаны Петр Степанович Канев и Василий Трофимович Истомин из Мохчи, Леонтий Лаврентьевич Семяшкин из Ижмы и Евстивей Борисович Артеев из Краснобора 4. Оседание в Усть-Кожве ижемских семей — Артеевых, Истоминых, Каневых, Филипповых, Рочевых, Чупровых и Семяшкиных в значительной мере было обусловлено тем, что деревня находилась на важнейшем направлении оленеводческих перекочевок из района Ижмы в Болынеземельскую тундру.25
«Таинство крещения»
При совершении Таинства Крещения старообрядцы различных направлений (беспоповцы и поповцы) руководствовались дониконовскими служебниками (требниками), но эволюция обряда крещения в различных толках и согласиях имела свои особенности. В среде старообрядцев-поповцев продолжала соблюдаться традиция крещения новорожденных в купели, с полным погружением. У старообрядцев-поповцев, оно производилось священником и лишь в исключительных случаях (если ребенок болел и существовала угроза его смерти без крещения, а в данной местности старообрядческий священник отсутствовал), крещение совершалось мирянами. На восьмой день от крещения обычно производилось Миропомазание. Но у старообрядцев-беспоповцев, в силу прекращения института священничества, реализовывались в практической жизни только те разделы требников, которые могли исполнять миряне.
Именно поэтому в богослужебной практике беспоповцев это важное таинство отсутствовало.
Таинство крещения совершалось в естественных водоемах или на дому (в купели). Относительно возраста крещаемых среди отдельных групп беспоповцев также существовали разные традиции. Первоначально среди поморцев, как и в православной церкви, бытовала практика крещения новорожденных. В то же время у старообрядцев-беспоповцев в ряде регионов, в силу различных обстоятельств, сложились свои местные, локальные варианты крещения. Так, у русских старообрядцев Латгалии и Польши предписывалось крестить ребенка только после того, как мать перестанет кормить его грудью, т.е. приблизительно через полтора - два года26. В Архангельской губернии, в Пинежском уезде, среди старообрядцев-беспоповцев в середине XIX века бытовала практика перехода в старообрядчество (среди мужчин) в преклонном возрасте, так как мужчины, связанные с отходничеством, находясь на заработках, общались с «никонианами» и тем самым существовала опасность «обмирщления», «осквернения» святого крещения . Аналогичная практика крещения была распространена в странническом (бегунском) согласии: по их учению, принявший крещение должен порвать всякие связи с миром антихриста, поэтому крестят пожилых людей, уже не связанных семейными узами .
У старообрядцев-беспоповцев при переходе к ним из официального православия было принято совершать повторное перекрещивание; у старообрядцев-поповцев приобщение к старообрядчеству православных происходило посредством таинства Миропомазания . Необходимость перекрещивания старообрядцы-беспоповцы объясняли тем, что «крещение в никонианской церкви не есть крещение, но паче осквернения, так как совершается еретическими священниками30, притом не по старым требникам, а как у "латынян" — обливанием» . Среди отдельных беспоповских толков (федосеевцев, бегунов) существовала также практика повторного перекрещивания при переходе к ним старообрядцев из других толков и согласий.
Как показывают современные этнографические исследования (работы Т.А. Листовой, О.М. Фишман, Э. Иванец и др.У", изменение церковных таинств, в частности, Крещения, в разных старообрядческих группах имели свои особенности, которые определялись рядом причин: уставами согласий, контактами с нестарообрядческим населением, уровнем грамотности руководителей общин — наставников. Предпринятое изучение современных коми старообрядческих групп во многом подтверждает эти наблюдения и позволяет выявить некоторые общие закономерности в формировании старообрядческого таинства Крещения.
По представлениям коми старообрядцев, крещение является не только обрядом очищения— от первородного греха и от грехов, совершаемых окрещаемым при жизни, — но и обязательством перед Богом жить в согласии с Его предписаниями и заповедями. Именно поэтому считается, что в загробном мире крещеного, жившего распутно, ждут более тяжкие муки, нежели мирского, так как грехи крещеного являются произвольными (сознательными), в то время как грехи мирского являются деяниями, совершенными по неведению, по непросвещению, почему и мирские в загробном мире будут слепыми, что во многом облегчит их страдания в аду, — вследствие слепоты они не будут видеть всех «ужасов и страхов ада». По словам информантов, «отступник будет находиться в аду ниже мирского-некрещеного и только в дни "вселенской панихиды" увидит райский свет как бы сквозь игольное ушко». 4 Последствия смерти без крещения для отдельных возрастных групп были различны: если взрослого некрещеного ждут адские муки, то некрещеные младенцы будут просто слепыми и будут обитать в раю; «крещеные младенцы будут летать, как ангелы и собирать пищу с райских деревьев, а некрещеные младенцы будут ползать по земле и собирать то, что будет падать с деревьев»35. Среди некоторых информантов бытует мнение, что дети до 18 лет являются безгрешными — их грехи ложатся на родителей36. Различия между поморцами и странниками (бегунами) заключаются как в некоторых обрядовых действиях, так и в строгостях, налагаемых на окрещенных после совершения крещения: у поморцев окрещенный живет среди своих близких, только должен питаться за отдельным столом (если домашние не старообрядцы) и из своей посуды, в то время как у странников окрещенный должен порвать всякие отношения с миром и «жить как монахи». В современном понятии это означает: не получать пенсию, под этим «ложным годом» (летоисчислением) не подписываться (не оформлять различных юридических документов), жить только под «верным именем» (полученным после крещения) и без фамилии. Свое пропитание они должны или добывать своим чрудом (от своего огорода) или получать как помощь от «благодетелей», т.е. своих единоверцев, сторонников учения «истинно православных христиан» (странников), которые еще не приняли крещения и живут в «миру».
По Правилам поморского согласия, крещение совершали над новорожденными, как отмечают информанты, на 3-й или на 8-й день. Необходимость совершения крещения новорожденного фиксируется в целом ряде фольклорных текстов, записанных в среде коми-старообрядцев Средней Печоры. В одной из легенд рассказывается: «Одна женщина семерых родила. Одного окрестила, а шестерых нет. Не успели, почему-то так получилось. Так вот эти шестеро некрещеных стали бесами. Один к реке спустился — стал Ваусой («водяной»), второй в бане поселился — это Гуранъка («банный»), третий в лес ушел — стал Лешим, четвертый Дедко стал, пятый — Шыань («хозяйка хлева»), а шестой Опись («домовой»). Это все некрещеные дети. Раньше старухи говорили, что, как ребенок родится, надо обязательно крестить».37 Некрещеного ребенка, как отмечают некоторые информанты, воспрещалось женщине кормить грудью, если, пройдя послеродовое очищение, она возобновляла супружескую близость с мужем. Также считается, что если мать окрещенного новорожденного не старообрядка, то она не может кормить ребенка грудью, а должна сцеживать молоко и кормить из специальной, — «верной» посуды. Необходимость совершения крещения на 8-й день объясняют тем, что «и сам Исус Христос на восьмой день был крещен».38
«Церковные праздники коми»
Церковные христианские праздники относятся к числу наиболее значимых элементов традиционной культуры коми, развитие которой, начиная с XIV века, происходит в русле христианства.
Как отмечают исследователи, религиозная практика старообрядцев-беспоповцев, в целом была ориентирована на круг церковных праздников, оформившихся в русской православной церкви до реформ Никона. Отсутствие «специфически» старообрядческих праздников объясняется тем, что у беспоповцев не сложилось определенного канонического круга почитаемых старообрядческих подвижников. Обусловлено это рядом причин историко-культурного развития этой ветви старообрядчества. «Беспоповцы, — пишет Д. Канаев, — после принятия доктрины о "духовном антихристе" с вытекающим из нее безиерархическим положением в церкви, при котором не могут совершаться даже многие из таинств, не могли обеспечить никакого более авторитетного прославления старообрядческих мучеников, чем констатация их подвигов и чудес в "Винограде Российском" Симеона Денисова. К этому можно добавить лишь малоизвестное почитание (хотя и при наличии служб и даже обрядов) четырех «отцов» Выга: Андрея и Симеона Денисовых, Данила Викулова и Петра Прокопьева, которые имели дни памяти и величались "преподобными отцами"».
Христианские церковные праздники, по важности воспоминаемых св. Церковью событий, разделяются на великие, средние и малые и различаются между собою богослужением.4
Великие праздники. В число великих входят Пасха и двенадцать важнейших церковных праздников: Вход Господень в Иерусалим (за неделю до Пасхи), Вознесение Господне (в 40-й день по Пасхе), Пятидесятница или Сошествие Святаго Духа на апостолов (в 50-й день по Пасхе), Крещение Господне, Сретение Господне, Преображение Господне, Воздвижение честного Креста, Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы, Введение во храм Пресвятой Девы Марии, Благовещение Пресвятые Богородицы, Успение Пресвятые Богородицы. Накануне великих праздников происходит предпраздничное богослужение (всенощная). Великие праздники также сопровождаются особым богослужением — "отданием праздника", за исключением особых случаев, когда между праздником и его отданием, отмечается какой-нибудь другой из великих нарочитых праздников.
Т.А. Бернштам отмечает, что народные массы не знали полного объема официального календаря, так как до начала XVIII в. такие календари не печатались, а основным источником для соблюдения церковных праздников являлись различные рукописные календари, составленные на основе апокрифических сказаний разнообразного происхождения (Месяцесловы, Острологии, Лунники и т.д.).5 Старообрядцы-беспоповцы вплоть до XX в., когда началась публикация церковных календарей, в своей религиозной практике пользовались различными месяцесловами. Мы уже отмечали в предыдущих главах, что круг грамотных наставников среди коми старообрядцев был невелик, поэтому неудивительно, что многие почитаемые даты и события Церковной истории оставались не включенными в традиционную культуру печорских коми. В приводимом ниже обзоре мы останавливаемся только на тех праздниках, бытование которых зафиксировано нашими полевыми материалами.
Благовещение Пресвятые Богородицы (25 марта/7 апреля). Празднование Благовещения Пресвятой Богородицы установлено в честь события, описанного в Евангелии, рассказывающей о явлении Архангела Гавриила к Деве Марии, во время которой Ей было возвещено о рождении Спасителя -Иисуса Христа. В этот день запрещались любые работы, кроме ухода за скотом. Даже косы девушки заплетали накануне вечером. Запрет на работы в день Благовещения местное население объясняло легендой о кукушке: «На Благовещение кукушка свила гнездо, за что Бог проклял ее — чтоб тебе вовек не выводить выводка в своем гнезде, чтоб нести тебе яйца в чужие гнезда и пусть чужие высиживают твоих детей и растят их. Оттого кукушка все время и кричит-просит: Ку-ку, пукты, ку-ку пукты (ку-ку, положи, ку-ку, положи)». Считается, что красные пятна, появляющиеся летом на листьях берез и ив — это следы от кукушкиных слез.
Пасха (Ыджыд лун). Праздник Святой Пасхи установлен св. Церковью в память Светлого Христова Воскресения, которому предшествует многодневный Великий пост.
За несколько дней до праздника Пасхи женщины собирались и начинали мыть жилые помещения, переходя из дома в дом. С песнями мыли в домах всё, начиная с потолка и кончая полом. В Великий четверг обязательно топили баню и переодевались во все чистое. Накануне Пасхи в домах окуривали кадилом иконы (медные складни). Рано утром выпекали шаньги, рыбные пироги (чери нянь, кулебака), готовили пасхальные яйца. В каждой семье к Пасхе обязательно готовили новую одежду, которую надевали на праздник .
В ночь на Пасху старообрядцы собирались в доме наставника или у кого-нибудь из верных, на всенощное богослужение. В отличие от православных, старообрядцы в эту ночь не совершали крестного хода, а пасхальное богослужение заключалось в коллективном чтении и пении молитв. Там, где были церкви, например, в селах Троицко-Печорск, Покча этот праздник отмечался, в отличие от других праздников, пышным богослужением. «С утра в Пасху вокруг церкви и внутри нее зажигали свечи, украшали свежими еловыми ветками стены, бросали на пол. В 12 часов и старые, и малые шли к обедне. Крестный ход с хоругвями и иконами, с пением пасхальных песен обходил вокруг церкви. Обязательным в этот день считалось освящение куличей, крашеных яиц. Колокола на церкви звенели в течение шести дней».
В верхнепечорских деревнях накануне Пасхи стреляли из ружей с целью отпугивания нечистой силы, колдунов, которые в эту ночь, по представлениям местных жителей, наводили порчу на людей и скотину. Бытовали поверья, что в ночь на Пасху колдуны грызут большой церковный колокол, поэтому молодежь в каждую Пасху поднималась посмотреть, не остались ли следы зубов колдунов на колоколе . Для отпугивания нечистой силы, зверей на берегу реки или где-нибудь на возвышенном месте, если рядом не было реки, зажигали большой костер, а чаще всего бочки со смо-лои .
«Жанровая классификация устной прозы»
Прозаические жанры. Прозаические жанры представлены различным кругом текстов: исторической прозой (рассказы о первопоселенцах, о ранних насельниках Печорского края (ханты, манси, легендарная чудь), рассказы о местных христианских подвижниках, старообрядческих . наставниках:. Средняя Печора — С.А. Мамонтов (Самарин), Е.Т. Поздеев (дед Ефимко), А.Н. Шахтарова (Сандра), М.С. Пыстина; Верхняя Печора — Н.Г. Мартюшев, П.И. Мезенцев (раб Божий Василий)), былинками о колдунах, о низшей демонологии и др. Особую группу рассказов составляют былички, связанные с различными играми и обрядами народного календаря. Былички этого круга нами уже приводились в соответствующем разделе нашей работы. Они касаются различных сторон досуга сельских жителей в период тех или иных народных празднеств и гуляний: в них описываются молодежные игры и развлечения (святочные переодевания, гадания и др.), архаичные обряды, таких как вежа пуляк или лудук петкодбм. Общий тон этих рассказов, безусловно, различается, в зависимости от степени приобщенности информанта к религиозной традиции. Старообрядцы, как правило, приводят эти рассказы с интонацией осуждения, иногда с подчеркнутым желанием показать в уничижительных тонах представителей православной церкви. Так, одна из информантов, на вопрос бытовали ли в данном селе святочные игры, ответила следующим образом: "Это щепотники (православные — А.Ч.) на святки гадали. Затем ходили на Крещение к проруби, мыться святой водой. Я сама не видела, к проруби к ним не ходила. Видела только, как воду принесли с проруби и на берегу обмывали лицо".6 Резко отрицательно к святочным играм и гаданиям относятся представители странического согласия (бегуны). У них порицается не только участие в этих играх, но и рассказы об этом также считаются грехом. Как правило, столкнувшись с расспросами о молодежных играх и развлечениях, информанты умолкают или вовсе прекращают всякую беседу.
Несмотря на строгость религиозных запретов в старообрядчестве, как прказывают наши полевые материалы, оказались законсервированными различные пласты дохристианских верований. Одним из интересных явлений религиозного синкретизма являются "покаянные молитвы" (Прил. 1.2.2. № 27-36). Они читаются на коми языке утром, после пробуждения, и вечером, перед сном. Вначале перед иконами совершается молитвенное "начало": читается краткий текст с поклонами. Затем выйдя во двор и, повернувшись лицом на восток, произносят Исусову молитву в старообрядческом варианте. По совершении крестного знамения и поясного поклона следует приветствие окружающей природе: Небесной Господьб, здоровоте. Милой святойъяссб здоровоте. Печора-матушка о, здоровоте. Милой вбр-бадьб, здоровоте. Елкаясбй, береза бй, здоровоте1 (Перевод: Приветствую Тебя, Небесный Господь и святые Божьи угодники. Здравствуйте, Печора-матушка, леса и кустарники, березы и ели.). Порядок вечерней молитвы тот же, но в конце читается покаянная молитва: Любой Печора-матушка б. Печора кузътаыс унаысь ветлім да, мунім да, локтім. Простит миянтб, грешнщаясбс. Милой ваб простит миянтб, грешницаясбс, быд став грекысь: Ванас вердін да, ютін да. Ворб и бадьб. нэмсб кузяла ветлім да, коркб ббрдім а, коркб сььілім а, быдсямаыс волі. Прдститбй мэнб, грещницабс. Милой земля-матушка б, простит мэнб, грещницабс. Земля кузътаыс уна ветлалім да уиа грек карим да. Милой шондіб, простит мэнб, грещницабс. Милой лунабй, простит мэнб, грещницабс. Милой кодзулъясбй, проститбй мэнб, грещницабс (Перевод: Любезная ты наша, Печора — матушка. Много раз по твоим водам плавали. Поила нас и кормила. Прости нас, грешных. Леса и кустарники, много раз мы с вами встречались: когда-то плакали, когда-то пели, всякое бывало. Простите меня, грешную. Земля — матушка, прости меня, грешную. Много по тебе я ходила, много всяких грехов творила. Любезное Солнце, прости меня, грешную. Любезная Луна, прости меня, грешную. Любезные звезды небесные, простите меня, грешную).
Всего за время экспедиций записано четыре варианта данных неканонических молитв (т.е. молитв, бытующих в устной традиции). Повторные записи текстов от одних и тех информантов (Прил. 1.2.2. № 29-31; 34-35) показали, что ситуация с данными устными молитвами во многом близка к импровизационным жанрам (причитаниям): тексты различаются не только между отдельными исполнителями, но и варьируют, в зависимости от личных обстоятельств информанта (общее настроение, физическое состояние). Локально данные тексты ограничены ее. Кожва, Соколово (Печорский р-н). В других населенных пунктах, где проживают коми старообрядцы — беспоповцы (Печорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский р-н), они не зафиксированы.
По содержанию и характеру исполнения данные неканонические молитвы близки "покаянным стихам", распространенным в прошлом среди некоторых групп русских старообрядцев, в частности нетовцев, и исполнявшимся перед исповедью в своеобразном обряде покаяния, — "прощания с землей" (один из таких обрядов был записан в начале XX в. священником А.Н. Соболевым в Судогодском уезде Владимирской губернии9).
Лексический состав этих неканонических молитв коми старообрядцев (включение значительного числа русских слов, не характерных для бытовой речи — солнце, луна, река и др.) позволяют предполагать, что первоначально эти тексты бытовали на русском языке. Примечательно, что значительная часть этих неканонических молитв была записана в с. Соколово, которое в конце XVIII в. было основано переселенцами из Усть-Цильмы, где исследователями также отмечалось бытование "исповеди земле". Так, протоиерей Николай Замяткин в конце прошлого века писал, что «у раскольников Устьцилемского прихода встречаются различные мнения относительно исповеди. Один говорит, что лучше исповедоваться Богу дома, про себя, потому что истинного священства нет, оно взято на небо. Другая заявляет: " Я приложу ухо к земле, и Бог меня услышит и простит". Целая группа крестьян заявляет: "Мы исповедываемся Богу, матери — сырой земле...10». Недавние записи Т.И. Дроновой . неканонических молитв в Усть-Цилемском районе показывают, что между этими текстами существует значительное сходство и близость. Для сравнения приведу один из текстов, записанных Т.И. Дроновой в с. Трусово (Усть-Цилемский р-н) и молитву, записанную нами в 1995 г. в с. Соколово.
С. Трусово (Усть-Цилемский р-н): Кормилечо, красно Солнышко, прости меня грешну во всех тяжких греках. Ясный месяц, прости меня, грешну. Кормилеча свята вода, прости меня, грешну. Простите меня, леса дремучие, грешну. Прости меня да ключевая вода, грешну. Ты прости меня грешну, да вольный свет .