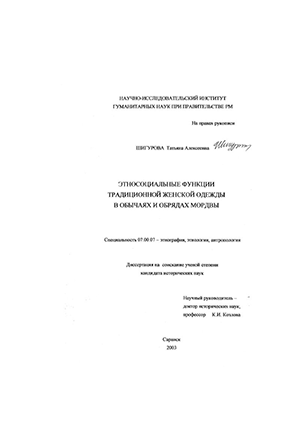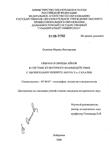Содержание к диссертации
Введение
1. Общее и особенное в традиционной женской одежде мордвы
1.1. Рубаха, как основной элемент традиционной одежды мокши и эрзи 22
1.2. Головной убор мордовских женщин - важнейший показатель этносоциальных особенностей костюма 31
1.3. Пояс, поясная одежда, фартуки в традиционном женском костюме мокши и эрзи 48
1.4. Туникообразная распашная одежда из холста в традиционном костюме мордовских женщин 71
1.5. Вышивка - наиболее распространенное украшение одежды мордовских женщин 80
1.6. Украшения в традиционной мордовской одежде 104
1.7. Верхняя одежда из сукна и меха 110
1.8. Традиционная обувь мордвы 113
Выводы 119
2. Этносоциальные функции традиционной женской одежды в обычаях и обрядах мордвы
2.1. Роль одежды в общественных обычаях и обрядах 125
2.2. Использование традиционной одежды мордвы в свадебных обычаях и обрядах
2.2.1. Роль народной одежды в обычае "кладки" 154
2.2.2. Роль традиционной мордовской одежды в приданом невесты 165
2.2.3. Функции костюма невесты в различные периоды свадебного обряда 181
2.2.4. Одежда и атрибуты участников свадьбы 199
2.3. Традиционная мордовская одежда в родильных обрядах 215
2.4. Использование традиционной одежды мокши и эрзи в погребальных обрядах 223
Выводы 243
Заключение 248
Список сокращений 268
Библиографический список 269
Приложения 291
- Рубаха, как основной элемент традиционной одежды мокши и эрзи
- Туникообразная распашная одежда из холста в традиционном костюме мордовских женщин
- Роль народной одежды в обычае "кладки"
- Использование традиционной одежды мокши и эрзи в погребальных обрядах
Рубаха, как основной элемент традиционной одежды мокши и эрзи
Основным элементом мордовского традиционного костюма являлась рубаха, которая нередко служила нижней и верхней одеждой одновременно. Этот компонент одежды имел несколько вариантов обозначения: у мордвы-эрзи - "панар", "покай", "паля", у мордвы-мокши - "панар", "щам". Различие терминов рубахи у эрзянского населения объяснялось разницей в назначении и украшении этого элемента одежды. Так, например, в селах северной части Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне - Большеигнатовского района) словом "панар" обозначали нижнюю рубаху без вышивки, а - именуемую "покай" носили поверх нижней и она обязательно имела вышивку (ПМА: Дьякова). В других районах проживания эрзи "покай" - это праздничная обрядовая рубаха. У мокшанского населения различие терминов рубахи объяснялось территориальными особенностями. Для западных районов более распространенным термином является "щам", для восточных - "панар", в некоторых районах термины бытовали одновременно.
При рассмотрении одежды первостепенное значение придается, обычно, особенностям ее кроя - одного из основных показателей сходства / различия данных предметов материальной культуры. Рубахи эрзянского населения Симбирской и Пензенской губерний характеризовались единым способом оформления ворота, рукавов, подола: два полотнища холста, перегнутые поперек и сшитые между собой, составляли стан рубахи с четырьмя швами, шедшими по середине груди и спины, а два - по бокам. Вдоль переднего шва рубахи холст подгибался внутрь на 5-7 см. с обеих сторон от шва, отчего задняя часть получалась несколько шире, чем передняя. Впереди сверху оставляли незашитым расстояние (примерно в 30 см.), подгибая к плечам на глубину 5-6 см. таким образом, что образовывался конусообразный вырез. Для сравнения отмечу, что в рубахах других народов Поволжья горловину обязательно вырезали, что свидетельствовало о следующем этапе в развитии кроя. Н. И. Гаген-Торн утверждала, что эрзянская рубаха для народов Поволжья была "более древним типом" [Гаген-Торн, 1960: 8]. Глубина выреза горловины у рубахи была продиктована чисто практическими соображениями. В большой патриархальной семье женщина могла при необходимости переодеть рубаху даже в присутствии мужчин: накидывая чистую рубаху сверху и закрываясь ею, снимая через плечи вниз нижнюю [Ежова, 1956:140].
Крой эрзянской рубахи, являвшийся устойчивым этническим признаком на всей территории проживания эрзи, был, по словам женщин-информантов, очень удобным [ПМА: Дьякова]; он сохранялся для нижней рубахи даже в тех местах, где в начале XX в. уже носили юбку и кофту (например, в Ичалках) [Толстов, 1928: 11]. Сохранение этого кроя одежды в варианте, не видимом окружающими, когда его социальная значимость практически свелась к нулю, подчеркивает устойчивость народной традиции, в том числе и на подсознательном психологическом уровне.
Внизу рубахи спереди оставляли незашитым расстояние 15-20 см., что также имело прагматическое обоснование: длинная и узкая одежда бьша бы неудобной при ходьбе и во время физических работ [Белицер, 1973: 40]. Рукава эрзянской рубашки шили прямыми, без клиньев, длина их равнялась ширине холста. Поскольку ширина холста, изготавлявшегося эрзянскими женщинами, достигала 29-32 см., то рукава были сравнительно короткими: до локтя или чуть ниже, что было удобно во время постоянной физической работы как дома, так и в поле. Прямой рукав без проймы пришивался к краю холста в области плеча и лишь по нижней границе соединения его со станом вшивали квадратные ластовицы ("кавалалкс пацят" э.) для облегчения движений руки.
Крой рубахи у эрзи, проживающей на территории современной РМ, имел локальные особенности. Например, у Теньгушевской эрзи рубаха отличалась большей длиной рукава: если у всех эрзянских рубах длина рукава была чуть ниже локтя, то здесь - она достигала запястья, что объяснялось большей шириной холста, изготавливаемого в данной местности, и, по мнению В. Ежовой, мокшанским влиянием [Ежова, 1956:139].
Своеобразным покроем рукава характеризовалась праздничная верхняя рубаха "нанга" или "нангунь панар" у эрзянского населения Спасского уезда Тамбовской губернии. Стан ее был также сшит из двух полотнищ с продольными швами на груди и на спине, однако расширен за счет своеобразного покроя рукавов, где полоса холста, как бы обертываясь вокруг руки, спускалась вниз вплоть до талии, сшиваясь с постепенно сужающимися на подоле клиньями. Этот тип рубахи, будучи наиболее архаичным из сохранившихся вариантов кроя, может быть соотнесен с вариантом рубахи из коллекции Пал 25 ласа XVIII в. [Крюкова, 1965: 179].
Крой мокшанской рубахи, являясь устойчивым этническим признаком на всей территории проживания мокшанского населения, относился, согласно классификации Б.И. Куфтина, ко второму подтипу волжско-финского туникообразного типа и был характерен также для марийских, чувашских, удмуртских рубах. Следует отметить, что крой рубахи из 4-х полотнищ с расположением цельного полотнища посредине груди и спины характерен также для многих южнорусских районов Тульской, Рязанской, Пензенской, Орловской, Тамбовской, Воронежской губерний [Чижикова, 1988: 146].
Оформление ворота рубахи в мокшанских селах имело несколько вариантов. В Спасском уезде Тамбовской губернии бытовал прямоугольный глубокий вырез рубахи, украшенный с двух сторон неширокой вышивкой. Собранные мною во время экспедиции образцы недошитых рубах наглядно показывают сам процесс оформления ворота. Вначале на центральном полотнище вышивкой выделяли две стороны выреза и лишь затем, разрезая, подгибали ткань, образуя прямоугольник [ПМА: Абузова]. Подобная форма грудного выреза рубахи бытовала в мокшанских селах Темниковского уездов Тамбовской губернии, Чембарского уезда Пензенской губернии, в Нижегородской губернии [Гейкель, 1899: т. XXI, XIV, XXXIX]. Кроме того прослеживается связь с рубахами эрзянского населения Темниковского уезда Тамбовской губернии, "терюшевской" эрзи Нижегородской губернии т. е. по линии "север / юг", что согласуется с высказыванием В. И. Козлова о движении переселенческих масс населения с севера на юг [Козлов, I960: 17]. В мокшанских селениях северовосточной части Темниковского уезда Тамбовской губернии женщины шили рубахи с треугольным воротом, в Инсарском уезде Пензенской губернии наряду с вышеназванным вариантом бытовали рубахи с круглым вырезом ворота "сиве", разрезанным посередине спереди и обшитым узкой полоской кумача. Крой и размер рукава мокшанских рубах также имели отличия в различных селениях, расположенных ныне на территории Р М. В юго-западных районах проживания мордвы-мокши (Спасский уезд Тамбовской губернии) прямой и непременно длинный рукав расширялся к пройме за счет клина, а также квадратной ластовицы. Особенности кроя здесь заключались в следующем: брали две точи холста, одну - в длину рукава, другую - на 5 см. короче. Вторая разрезалась с угла на угол и получившиеся клинья пришивали к первой точи, чтобы они оказались сзади. Таким образом, широкий у плеча рукав сужался к кисти. В швы соединения рукава с полотнищем спины и переда в некоторых селах вшивали квадратную ластовицу "ицкол" из "французского" ситца. В начале XX в. во многих мокша-мордовских селах Пензенской губернии стали носить рубаху с рукавами из другой материи, иногда рукава вшивали в плечевую пройму.
Одна из особенностей, отличающей рубахи юго-западного комплекса от других мокшанских рубах, - это отсутствие разреза на подоле. На рубашках мордвы-мокши Пензенской губернии вышивка подола отчетливо указывает на бытование в недалеком прошлом разреза центрального полотнища. Все вышеперечисленные особенности кроя мокшанской рубахи населения Тамбовской губернии (прямоугольный вырез ворота, длинный и расширенный за счет клина рукав, отсутствие разреза подола) имели довольно древнее происхождение, поскольку все они повторялись в рубахах середины XIX -начала XX в. у населения Чембарского уезда Пензенской губернии, которое, как известно из достоверных источников, сложилось в результате миграционных процессов XVI - XVTf вв. мордвы-мокши на юг [Козлов, Там же: 17].
Туникообразная распашная одежда из холста в традиционном костюме мордовских женщин
Для традиционного женского костюма мордвы в XIX в. была характерна верхняя распашная туникообразная одежда из холста "руля", "импанар", "паньжат" (э.), "плахон", "мушкас"(м.). "Женщины и девицы носят спальные халаты из самообработанного белого холста с узкими и короткими рукавами [РГО, разр. 53, оп. 1, д. 31, л. 9]. Подобная одежда в это время была характерна также для некоторых комплексов традиционной марийской одежды, для русского костюма Пензенской, Тамбовской, Рязанской, Воронежской, Тульской губерний [Чижикова, 1988: 215].
Верхняя распашная одежда из холста бытовала у мордвы-мокши Пензенской губернии, в Тамбовской губернии она не зафиксирована, вероятно по той причине, что здесь носили верхнюю короткую не распашную одежду, известную позднее как "запон", и распашные варианты: "грудник", "юпка", "куртчка". Безрукавка "куртка" являлась составной частью нарядного национального женского костюма д. Дюрки Симбирской губернии: "Шьется из купленного синего кумача, воротник, полы и подол отделываются белой мерлужкой" [Иванцев, 1893: 571].
Мордовки шили верхнюю распашную одежду из хорошо отбеленного тонкого холста, в восточных районах РМ, где наряду с коноплей сеяли и лен, чаще всего - из льняного. В начале XX в. в связи с проникновением в мордовские деревни хлопчатобумажных ниток и тканей фабричного производства женщины ткали холсты из х/б ниток пополам с льняными или посконными. Такое, однако, могли позволить себе только состоятельные женщины. В конце XIX - начале XX вв. для шитья верхней одежды стали использовать белую х/б ткань. По покрою руця была туникообразной, однако имела некоторые особенности в конструкции боковин, рукавов.
Исследование покроя верхней распашной одежды из холста серьезно осложнено в связи с ее исчезновением у части населения уже в начале XX в. Так, в селах, расположенных ныне в Болынеигна-товском районе, сохранились лишь воспоминания старожилов о бытовании в прошлом широкой распашной ритуальной одежды "руця" без рукавов, которую шили из четырех, соединенных между собой (исключая два центральных впереди), полотнищ холста, перекидываемых попарно через плечи. Об аналогичном верхнем одеянии арзамасской мордвы писал П.С. Даллас: "К совершенному убранству принадлежит широкое холщовое верхнее одеяние с короткими, но в пол-аршина широкими рукавами..." (Даллас, 1809: 82]. Широкие проемы для рук свободно свисали по плечам. Некоторые сведения о подобной одежде приводятся в работе Т.А. Крюковой "Коллекция П.С. Палласа по народам Поволжья" [Крюкова, 1949:147].
У Нижегородской терюшевской мордвы-эрзи в середине XIX в. бытовала свадебная одежда "супопря" с широкими рукавами, вышитая по бедрам и рукавам шерстью в 3 и 5 рядов [РГО, разр. 23, оп.1, д. 100, л. 16]. Термин "полоскопайка", упоминаемый В.Н. Бе-лицер [Белицер, 1973: 85] для обозначения распашной одежды, в источнике РГО от иеромонаха Макария определяется как рубашка. Сообщая о верхней одежде эрзи Нижегородской губернии, Макарий в середине XIX в. писал: "А на верх всей сряды надевается дудяшник, который вышивается рядами" [РГО, разр. 23, оп. 1, д. 100, л. 16]. К сожалению, данный объект исследования отсутствует, что затрудняет делать какие-то выводы. В то же время приведенные примеры свидетельствуют о некоторых изменениях, которые происходили на протяжении XIX столетия с туникообразной одеждой мордвы.
Упоминание П.С. Палласа об одежде с широкими рукавами, сведения, почерпнутые из материалов РГО, сохранившиеся экземпляры рубахи "нанга" теньгушевских женщин и воспоминания информаторов позволяют утверждать сам факт бытования вплоть до конца XIX в. старинного туникообразного халата без рукавов с широким станом из восьми полотнищ домотканого холста у эрзянских женщин, проживавших в приграничных селениях Симбирской и Нижегородской губерний. К началу XX в. подобная одежда исчезла. Воспоминания о бытовании широкой верхней одежды без рукавов и воротника "балахон" сохранились у русского населения (нынешних Краснослободского, Ельниковского и Темниковского районов) РМ [СРГ, 1978:27].
Распашная верхняя одежда мордвы-эрзи Ардатовского уезда Симбирской губернии и Саранского уезда Пензенской губернии имела локальные особенности кроя. (Не исключено, что он совмещал признаки эрзянского и мокшанского типов.) Кроилась одежда из одного прямого центрального (36 - 38 см.) полотнища, к которому пришивали рукава и клинья, слегка расширяющиеся с двух сторон. Центральное полотнище впереди разрезали посередине. Говоря о возможности совмещения в крое "рули" эрзянского и мокшанского типов, мы имеем в виду прежде всего наличие швов по мокшанскому типу (соединяющих широкое полотно на спине с двумя боковыми) и - частично - по эрзянскому типу (соединяющих два боковых узких цельных клина друг с другом, идущих от рукава). Следует отметить, что подобный крой был распространен повсеместно на территории современных Атяшевского, Ардатовского, Дубенского, Чамзинского, Кочкуровского, Березниковского, Чамзинского и - отчасти - Ичал-ковского районов. Возможно, это является косвенным подтверждением версии о том, что здесь когда-то, в далеком прошлом, проживала мокша, а точнее, видимо, до переселения с более северных территорий в эти места эрзянского населения. Любопытно, что в основе некоторых географических наименований, связанных с упомянутой территорией, лежит именно мокшанская лексика. Так, например, название небольшой реки Штырма (Кппырма) восходит к мокшанскому слову "кштыр" (= низина; лог, заросший кустарником). Особенностью кроя "руци" был силуэт, слегка расклешенный за счет расширения боковых полотнищ: сверху от рукава ширина полотнища была 12 -13 см., а к подолу - 21 см.. Покрой рукава "руци" имел следующие варианты: в одних селах он был длинным, в других - более коротким и едва достигал локтя женщины. На материалах коллекции МРОКМ мы наблюдаем удлинение рукава распашной одежды в направлении с севера на юг и юго-запад. Так, традиционно короткий, чуть ниже локтя, рукав (42 см.) шили в селах Ардатовского уезда. В селе Подлесная Тавла Саранского уезда он был наиболее длинным (57 см.).
Ширина рукава также была не постоянна. Встречаются образцы как с прямым рукавом, так и с расширяющимся или сужающимся к кисти. При этом обнаруживается следующая закономерность: короткие рукава шились совершенно прямыми или сужающимися к краю, а удлиненные - обычно расширялись от 16 см. у плеча до 21 см. у кисти. Некоторые экземпляры распашной одежды позволяют проследить развитие подобной тенденции к расширению края рукава и его удлинению. В частности, "руця" из фондов МРОКМ, сшитая в Подлесной Тавле в начале XX в., дважды удлинялась полосами холста. Расширение рукава каждый раз достигалось за счет большей ширины используемого холста, но не при помощи пришивания клина, как это обычно практиковалось в мокшанских селах.
На распашной эрзянской одежде воротника не было. Ворот обрамлялся полосой вышивки до уровня груди, в некоторых селах Ардатовского уезда вышивка доходила до уровня талии. Подобный покрой распашной одежды сохранялся в XIX в. в таджикском и узбекском традиционном костюмах Ташкентской области и Ферганы [Ло-бачева, 1989:22].
Длина распашной одежды с течением времени и на разных территориях варьировала. Разные варианты ношения распашной одежды зарегистрированы на фотографиях и рисунках конца XIX -начала XX вв. В основном фиксируется манера ношения "руци" значительно ниже колен - до середины икры. Украшали руцю на данной территории вышивкой шерстяными нитями. К. Невоструев не позднее 1849 г. сообщал об эрзянках с. Папулево, отвечая на вопросы анкеты РГО: "В праздник сверх того надевают так называемый шушпан, который есть не что иное, как из белого холста сшитый халат, у которого по краям со всех сторон вышитые красной шерстью две узенькие полоски" [РГО, разр. 53, оп. 1, д. 40, л. 3]. В другом месте: "Такие же халаты шьют сами мордовки из первосортного холста и украшают узкими красного цвета полосами: по две вместе полосы тянутся с плеча до пят и несколько полос вдоль рукавов и краев пол" [РГО, разр. 53, оп. 1, д. 31, л. 9]. Известно, что в качестве свадебной здесь невеста использовала совершенно белую руцю без вышивки.
Обращает на себя внимание и такая особенность украшения "руци": вышивка выполнялась на отдельных полосах холста и затем пришивалась к двум центральным полотнищам переда по линии груди и по плечу, а к рукавам - к их краю. Подобное отмечалось и у те-рюшевской эрзи, где невеста заготавливала к свадьбе для подарка родственницам жениха широкие вышитые обшлага шушпана [Бели-цер, 1973:85].
Роль народной одежды в обычае "кладки"
Большую роль при заключении браков у всех народов Поволжья играли выкуп за невесту и приданое [Козлова, 1964: 112 - 123]. Семья жениха в лице невесты приобретала новую молодую здоровую работницу, продолжательницу рода, поэтому прежде всего при выборе невесты интересовали такие качества: работящая ли, здорова ли, не водятся ли за ней какие пороки, богата ли, какое приданое. Определенные преимущества создавали необходимость обязательного материального обеспечения женихом невесты, частично ее семьи, подарков родственниками жениха невесте, порой расходы на свадьбу полностью оплачивались семьей жениха.
Материальное обеспечение свадьбы семьей жениха - кладка в середине XIX века сохранялась в восточных русских губерниях европейской России и в Сибири, у карел, у народов Среднего Поволжья (чувашей, марийцев) и имела специальное название, например, у коми - "юр дон" (цена головы) [Белицер, 1958: 301]. Наиболее распространенными терминами для обозначения уплаты за невесту являются: у эрзи - "питне", "воявор", у мокши - "той", а также "калым" - обозначение, характерное для народов Среднего Поволжья: русских, татар, чувашей и др. По мнению Г. С. Масловой, этого явления не было в украинской и белорусской свадьбах, здесь встречаются лишь упоминания о деньгах со стороны жениха [Маслова, 1984: 22].
Переговоры о размере кладки ("питне теема" э) велись во время сватовства. Цена, назначенная за невесту, была различной. В конце 19 века она определялась в зависимости от здоровья, физического и материального состояния невесты, ее ловкости и красоты: "Раньше сватовство у мордвы было почти исключительно дело коммерческое. Отец жениха выбирал здоровую, сильную работницу, за которую, судя по ее физической добротности, и уплачивал выкуп" [Г. Вл., 1905: 190]. Девушка при этом причитала:
"Мною ты торгуешь, меня продаешь
За цену дряхлой клячи.
А я ведь не хромая, не убогая,
А я ведь не слепая, не калека.
Топни ногой-цену заломи... [УПТМН, 1972а: 180].
Часто цена была прямопропорциональна дарам, которые невеста должна была готовить родственникам жениха и одежде, которую отец невесты обещал справить своей дочери: в мокшанском селе Адашево Пензенской губернии ее определяли следующим образом "...если невестин отец принимает на себя обязанность покупать не 156 достающий наряд для невесты, то денег за нее берет побольше, а если эту обязанность принимает на себя женихов отец, то и денег дает поменьше" (РГО, разр. 28, оп. 1, д. 23, л. 1-3].
Соотношение приданого и кладки у мордвы по сумме затраченных средств было различным: в зависимости от места, времени, состоятельности семей невесты и жениха. Приведем примеры кладки у мокши и эрзи. В мокшанском селе Булдыгино цену за невесту "той" родители невесты просили продуктами, в редких случаях -деньгами. В 1913 г. родители жениха за невесту давали 60 рублей, 10 ведер вина, 2 пуда мяса, 3 пуда пшена, шелковую шаль, сапоги, кушак [УПТМН, 1972а: 142]. Архимандрит Макарий сообщал о нижегородской мокше, что "...в пользу самой невесты выговаривают обыкновенно новую овчинную шубу, черный суконный кафтан и сапоги" [Майнов, 1885: 53]. В селе Кишалы в начале 20 века за невесту просили 30 рублей денег, 4 ведра водки, новую сборчатую шубу, сборчатый зипун, валенки, муки и мяса" [УПТМН, 1972а: 27- 28]. В эрзянском селе отец невесты заказывал: " Привезете шубу со сборами, коты, руци, 40 аршин холста, лапти, онучи, вино, закуску и прочее" [Там же: 173]. По свидетельству П. И. Мельникова, у те-рюшевской мордвы на стол невесты платили 20-40 рублей, "но еще дополнительно существовала ряда на венец которая достигала 60 рублей ассигнациями" [Майнов, 1885: 56]. Парни из бедных семей, а так же не имеющие родителей, испытывали определенные затруднения в поиске подходящей невесты и поэтому вступали в брак значительно позднее остальных [Баранов, 1911:119].
В зависимости от состоятельности жениха в Симбирской губернии отец невесты получал от 8-20 до 30 рублей. Бывали случаи, когда крестьянин продавал лошадь или закладывал землю, чтобы справить свадьбу сыну [УПТМН, 1972а: 390]. Если отец жениха был беден, родственники приносили деньги для компенсации затрат на свадьбу [РГО, разр. 53, оп. 1, д. 31, оп. 1, л. 31].
Плата родителям за невесту в основном шла на свадебные расходы: на покупку недостающих вещей приданого, одежды невесты, подарков жениху и его родственникам. Исследуя значение выкупа при женитьбе у народов Поволжья в XIX - начале XX в., К. И. Козлова приходит к выводу о том, что никакого брака-покупки у них на этот период не было" [Козлова, 1964: 114]. Существовало различие между выкупом невесты у мордвы и собственно калымом, известным в прошлом у многих народов (в частности в Средней Азии). "Это не покупка жены - рабыни мужа, потому что в быту мордвы приходится - наблюдать, что жена частенько порабощает себе мужа и самостоятельно ведет хозяйство" [Г. Вл.,1905:190].
В. Н. Майнов в книге "Юридический быт мордвы" приводит различия осуществления процедуры выкупа. Так, например: "У мокши "питие" выдается невесте, из него она делает себе постель, шубу и более ценные вещи из носильного платья", "... у эрзи деньги эти вносятся всегда на руки отцу невесты, который и распоряжается ими по своему усмотрению; чаще всего он оставляет их у себя в виде вознаграждения за понесенные им расходы на снаряжение невесты, на ее приданое" рМайнов, 1885: 53]. В Поволжье в конце XIX в. по мнению К. Й. Козловой (устно), приданое чуть-чуть превышало калым. Только после согласования размеров выкупа "питне" и количества подарков с обеих сторон сватовство могло считаться состоявшимся. Переговоры заканчивались рукобитьем ("кетнень чавома" з.), при котором сваты надевали рукавицы и били по рукам, что означало: сделка завершена. Использование рукавиц предохраняло будущую семью от бедности.
Выплата "питне" у мокши и эрзи происходила в разное время в зависимости от места проживания. Чаще всего деньги на выкуп невесты уже брали с собой на предварительное сватовство [Евсевьев, 1966: 428]. В селе Мамолаево одаривание невесты происходило уже во время окончательного сговора. После рукобитья мать жениха "ава кудась" шла смотреть свою будущую сноху, девушки не пускали ее, требуя выкуп. Одаривая будущую сноху, она поучала: "Вот платок подарю - будь умницей" и т. д. [УГГГМН, 1972а: 55]. Иногда невесту шли смотреть в чулан будущие Свекор и свекровь, передавая деньги на сюлгам. М. Е. Евсевьев отмечал, что мокшанский зять в запое не участвовал, он отсылал невесте подарки. В селах Буддыгинского аймака мать жениха дарила невесте фату во время обряда "рьванань валонь содама" (м.) (узнавание последнего слова невесты), а на де вишник приходили жених и его близкие товарищи дарить подарки, которые были обещаны при сватовстве [УПТМН, 1972а: 177,159]. В селе Турдаки сундук с вещами привозили во время обряда "чить пу тума1 (э.) (определение дня свадьбы). Чаще всего привозили "той" или "питне" за 1 - 2 - 3 дня до свадьбы.
Сложные вопросы происхождения обычая "питне", "той", соотношение с подобным явлением у других народов Среднего Поволжья в разные исторические периоды требуют специального исследования. Для данной работы интерес представляет те аспекты проблемы, которые связаны с использованием в рассматриваемом обычае отдельных элементов одежды.
Использование традиционной одежды мокши и эрзи в погребальных обрядах
Погребальные мордовские обычаи, подразделявшиеся на три этапа: подготовка умершего к погребению, само погребение и поминки - в середине XIX - начале XX веков отражали языческие представления населения о смерти и загробной жизни. Несмотря на стремление царского правительства к обрусению и христианизации мордвы, ее похоронно-поминальные обряды (калмамо ила) продолжали сохранять древние языческие верования, давно забытые самими исполнителями этих обрядов или по-иному истолковываемые ими. В этнографических работах освещены разные стороны погребальной обрядности мордовского населения [Мокшин 1968; Федотович 1990; Корнишина 2000]. Однако вопрос об использовании разных элементов одежды в данном обрядовом процессе остался практически не затронутым. Одежда, как известно, выполняла здесь определенные магические функции. Исследование роли и значения народного костюма в погребальном обряде дает возможность выяснить происхождение и особенности бытования некоторых его форм, а в некоторых случаях помогает раскрыть и сущность самого обряда. В старину о покойниках ("кулозь-емизь" э.) рассказывали много страшных историй, стремились похоронить как можно быстрее: в этот же или на следующий день после смерти. По свидетельству М.Т. Маркелова, покойников не оставляли в избе на ночь [Марке-лов, 1929; 165]. Примечательно, что страх перед покойниками сохраняется до сих пор. Погребальные обычаи и обряды были направлены на то, чтобы, с одной стороны, задобрить умерших, оградить себя от действия смертоносной силы, а с другой - дать возможность участникам обряда - родственникам, соседям, односельчанам - выразить сложную гамму чувств (любовь к покойному, сожаление в связи с ч его кончиной, горе, печаль, тоску и т.п.). Как отмечал С. А. Токарев, смерть члена семьи являлась для коллектива в той или иной степени потрясением, нарушением равновесия. "И чем более социально ценным и полезным для общины был умерший, тем сильнее нарушение равновесия" [Токарев, 1985: 85]. Поэтому именно похоронный обряд служил для родственников, соседей односельчан своего рода попыткой нахождения некоего равновесия. Путем выражения сложной гаммы чувств надо было прийти к состоянию успокоенности, которое позволило бы вернуться к нормальному течению жизни, смириться с утратой близкого человека. Насколько глубокими и сильными были чувства мордовских женщин, говорят сохранившиеся плачи как образцы фольклора, сообщения о вопленицах с расцарапанными в кровь лицами. В них отражена, с одной стороны, мысль о том, что смерть человека - это всегда огромное горе, понимание невосполнимой утраты, невозможности вернуть близкого человека об 225 ратно, осознание трагичности "конца". С другой стороны, существовали представления о потустороннем мире, связанные с отрицательными эмоциями: как он устроен» какие испытания ожидают покойника (проходить темными лесами, переправляться через широкую воду, предстать перед страшным судом) [УПТМН, 1972 б: 271].
Характерно, что в мордовских причитаниях чувства к покойному выражались через обращение к конкретным примерам из его прежнего быта, человек оценивался по результатам своего труда, поэтому часты упоминания о0" участии его в изготовлении одежды.
У мордвы сразу же после смерти человека присутствующие старались побыстрее вынуть из-под умершего постель и вывесить ее на улицу. С покойного снимали всю одежду, которую иногда выбрасывали в мусор ("шукшпря", "чукш пря"). Так поступали другие народы Среднего Поволжья [Козлова, 1964: 155]. В древности эту одежду сжигали, поскольку сильна была боязнь вещей умершего [Мордва, 1995: 259].
В эрзянских селах Кузнецкого уезда Саратовской губернии покойника раздевали с "великой осторожностью", чтобы ничего не повредить из одежды. При этом все, начиная с рубахи и до лаптей, связывали кушаком, которым человек опоясывался при жизни, и подвешивали над тем самым местом, где должны были находиться ноги покойного, когда он будет уложен в передний угол [РГО, разр. 53, оп. 1, д. 31, л. 20]. На вопрос о том, почему именно сюда вешали одежду, можно найти ответ в причитаниях, записанных в 1927 году А. В. Орловой в селе Кечушево Ардатовского уезда:
Куда мне деваться теперь?
На какое место мне встать?
Родительница моя дорогая!
Родительница моя матушка!
У твоих ног встала бы,
Но рядом стоит душегубица-смерть... [УПТМН, 1972 б: 33].
Оказывается, по народным представлениям, именно здесь должна была находиться смерть. В ряде случаев белье, снятое с умершего и постиранное, тайно отдавали бедным, но с особыми предосторожностями, чтобы никто, кроме родственников покойного и нищих, об этом не знал.
Обмывать покойного приглашали не кого попало, а только уважаемого человека, в некоторых местах эту функцию выполняли родственники умершего. Соблюдалось правило: при обмывании мужчин не должны были присутствовать женщины, а при обмывании женщин - мужчины. В некоторых мокшанских селах, независимо от пола умершего, обмывали пожилые женщины [Балашов, 1975: 53].
Когда умирала девушка, обмывать ее приходили женщины, а одевали подружки. После выполнения всех обязанностей обмывавшие покойного умывались сами и меняли свою одежду. Это объяснялось страхом перед умершим и всем, что связано со смертью [Фе-дянович, 1990: 97]. Участникам данного ритуала дарили платок или полотенце.
Смертная одежда ("куломань одижа" э.) готовилась заранее. Данный обычай был широко распространен, сохраняясь до сих пор также у многих народов. Для мордвы было не безразлично, в чем уходить в небытие. Одежда готовилась тщательно, с соблюдением необходимых ритуалов. Она была предназначена для того, чтобы человек мог перейти в ней в иной, потусторонний, мир, в какую-то "новую" жизнь. Чаще всего в качестве смертной одежды использовали ее наиболее старинные на тот или иной момент времени формы. Доказательством этому может служить, например тот факт, что мордва-эрзя в первой половине XX века практически уже не носила традиционную белую рубаху, но продолжала, вместе с тем, сохранять ее в качестве смертной одежды, причем обязательно нестираной, объясняя эту свою приверженность стремлением не вызвать гнева предков "покштят-бабат".
Умершего стремились одеть как можно лучше. По свидетельству К. Миллера, в XVUI в. "покойников хоронят в самом лучшем платье [Миллер, 1776: 53]. По мнению мордовского населения, души умерших составляют пчельник Мастор-паза - бога земли. Если кто-нибудь явится к нему не так, как подобает, то он считает это за обиду, нанесенную ему лично, поэтому начинает мстить тем, кто не оказал ему почета [Майнов, 1885: 135 - 136]. Кроме того, покойники, похороненные без должного внимания, обязательно являются к виноватому, всячески мучают его и способны нанести даже материальный вред [Там же, 136].
Схожее отношение к одежде умершего сохранялось и в начале XX в.: "Чтоб не стыдно было от людей, чтоб не носила одежды плохой" [УПТМН, 19726: 34]. В причитаниях часто подчеркивается необходимость хорошего качества, добротности одежды покойного, причем как для него самого (в его будущей жизни), так и для участников похоронного обряда. На покойного - мужчину было принято надевать нижнюю и верхнюю летнюю одежду: порты, рубаху, распашную одежду, новые онучи и лапти.
Известно, что ритуальная одежда изготавливалась, как правило, в праздничные дни. По сообщению И. Лепехина, "мужской и женский пол снаряжают во гроб во все то платье, какое нашивали в праздничные дни" [Лепехин 1795: 85]. В начале XX в. в селах Новая Самаевка, Мамолаево и др. на мужчин обычно надевали рубашки и портки, приготовленные заранее из тех холстин, которые были сотканы его женой еще в первые годы замужества. Повсеместно в русских селах Казанского Поволжья также полагалось хоронить человека в светлых, белых одеждах, по возможности из домотканых материалов [Зорин, Лештаева, 1990:107].