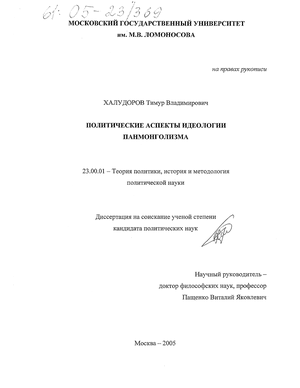Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретико-методологические аспекты изучения идеологии панмонголизма .
1.1. Понятие «идеология»: проблемы методологии 20
1.2. Феномен паннациональных идеологий и движений 37
1.3. Идеология панмонголизма: происхождение термина, кочевая тенденция к объединению, компоненты 55
Глава 2. Идеология панмонголизма в политическом процессе Центральной Азии.
2.1. Объединительные тенденции в средневековой истории Монголии 71
2.2. Движение за объединение Монголии в 1911-1915. гг 85
2.3. Панмонгольское движение 1919 г 100
2.4. Проблема панмонголизма в советский период 115
2.5. Идея монгольского единства в настоящее время 130
Заключение 140
Библиография 143
- Понятие «идеология»: проблемы методологии
- Феномен паннациональных идеологий и движений
- Объединительные тенденции в средневековой истории Монголии
- Движение за объединение Монголии в 1911-1915. гг
Введение к работе
Актуальность темы исследования. В современных условиях глобализации, а значит культурной нивелировки и активного распространения идеологии глобализма, которая использует тенденции мирового развития для обоснования политики лидерства и гегемонии Запада, все более возрастает роль локальных культур и идейных концепций, которые объективно противостоят утверждению «американской глобальной гегемонии» . В этом контексте актуальным представляется интерес к Монголии. Она находится в центре Евразийского материка, обладает важным геостратегическим положением, а также обширной территорией с запасами полезных ископаемых. Данные обстоятельства обусловливают рост многостороннего интереса к этой стране различных сил, претендующих на лидерство в современном мире. «Прагматичные европейцы и американцы прекрасно понимают все более возрастающую геополитическую роль Евразии», - отмечает В.Я. Пащенко [Пащенко, с. 357]. Улан-Батор поддерживает отношения с ведущими странами мира, участвует в региональной политике: в 2004 г. Монголия получила статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - одного из крупнейших и динамично развивающихся объединений в мире.
Монголия имеет долгую и богатую событиями историю. В 2006 г. исполняется 800 лет созданию государства, объединившего кочевые племена Центральной Азии . Эпоха Чингисхана является началом монгольской истории, культуры и государственности. В силу исторических обстоятельств пути монгольских народов в XVII-XVIII веках разошлись. Но самобытная культура, основанная на номадизме, совместный исторический опыт, а также религия способствовали возникновению в начале XX в. идейной концепции единства монгольских народов. Различные политические силы использовали
идею единства монгольских народов в своих целях. В отечественной общественно-политической мысли термин «панмонголизм» был в немалой степени дискредитирован, традиционно он связывается с деятельностью атамана Семенова и так называемого «Даурского правительства» в 1919 г. Но такой подход, по мнению современных исследователей, является несколько упрощенным: события 1919 г. являются лишь эпизодом всего многоаспектного интеграционного монгольского движения. Представляется справедливым применение определения «панмонголизм», «панмонгольская идеология» по отношению к идее единства монгольских народов. В настоящее время идея единства монгольских народов способствует сотрудничеству между монгольскими народами в деле сохранения монгольской традиционной культуры и национальной идентичности в целом.
В Советском Союзе панмонголизм оценивался однозначно как реакционная, буржуазно-националистическая идеология. Репрессии 1930-х гг. в Бурят-Монгольской АССР и Монгольской народной республике во многом прошли под предлогом борьбы с «панмонгольской организацией», якобы занимавшейся антисоветской повстанческой и шпионской деятельностью (позднее осужденные по «панмонгольскому делу» были полностью реабилитированы). Долгое время не только исследования феномена панмонголизма, но и сама тема интеграции монгольских народов в общественных науках СССР и МНР замалчивалась. Лишь с конца 1980-х гг. об этой проблеме стали говорить и писать открыто.
Представляется, что идея единства монгольских народов заслуживает более пристального внимания прежде всего политической науки, так как существующие исторические исследования, где данная тема рассматривается в комплексе с другими проблемами, недостаточно дополнены изучением политических аспектов этого вопроса. Все это определяет научную актуальность исследования идеологии панмонголизма в предметном поле отечественной политологии.
Степень изученности проблемы. Литература по вопросам теории идеологии очень обширна. Первые исследования появились в начале XIX века, одновременно с введением в научный оборот термина «идеология». Работы Антуана Дестют де Траси, Карла Маркса, Вильфредо Парето не теряют своей актуальности в социологической и политической мысли наших дней. Для раскрытия нашей проблемы ключевое значение имеют как классические произведения, заложившие общие теоретические и методологические основы изучения феномена идеологии: «Немецкая идеология» К. Маркса, «Идеология и утопия» К. Манхейма и др. так и современные исследования: «Социальное конструирование реальности» П. Бергера, Т. Лукмана, «Социодинамика идеологий» И.И. Антоновича, «Идеология евразийства» В.Я. Пащенко, «Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна» У. Матца, «Идеология партии будущего» А.А. Зиновьева, «Идеология: сущность, назначение, возможности» А. С. Майхровича и другие.
В нашем исследовании идеология консолидации монгольских народов (панмонголизм) рассматривается в ряду паннациональных идеологий (панславизм, пантюркизм, панарабизм и др.), ставивших своей целью политическое объединение народов (и/или стран) по тем или иным критериям. Вследствие чего возникает необходимость ознакомления с работами, анализирующими причины появления, динамику развития и степень влияния на политический процесс этих идеологий. Это работы: «Восток, Россия и Славянство» К. Леонтьева, «Очерки истории пангерманизма в Австрии в конце XIX века» Н.Д. Ратнера, «Светская концепция арабского национализма Саты аль-Хусри» Т.П. Тихоновой и др.
В дореволюционных работах обсуждались проблемы и пути развития монгольских народов. Бурятский ученый и общественный деятель Ц. Жамцарано, был убежденным сторонником идеи консолидации монголов, и в 1907 г. на страницах журнала «Сибирские вопросы» (№ 24. С. 15 - 20) впервые употребил термин «культурный панмонголизм», под которым
понималось сближение монгольских народов на основе, и для развития единой культуры.
Освящение проблемы панмонголизма как политического феномена началось с описания событий 1919 г. в Забайкалье и Монголии. В книге И.М. Майского «Современная Монголия» (Иркутск, 1921 г.) имеется статья под названием «Панмонгольское движение». Майский описывает конференцию в Чите, ее участников, провозглашение «Велико-Монгольского государства, долженствующего объединить всех монголов от Байкала до Тибета и от Маньчжурии до Восточного Туркестана» [Майский 1921, с. 261], создание правительства, отношения его с атаманом Г. М. Семеновым, японскими военными и правительством Богдо-гэгэна. Автор ссылается на сведения обнаруженного в Иркутске архива министерства иностранных дел правительства А.В. Колчака.
В 1922 г. в № 2 журнала «Новый Восток» вышла статья «Роль Японии.в панмонгольском движении», ее автор А.Ф. С-кий (Сперанский). Она написана, также как и работа И.М. Майского, по материалам Общего Архива Народного Комиссариата иностранных дел на основе документальных данных, добытых из архива Омского правительства. А.Ф. Сперанский особое внимание уделяет планам Японии «создать базис для установления владычества на азиатском материке» [Сперанский, с. 591]. В статье приводится донесение российского посланника в Китае министру иностранных дел омского правительства, о причинах возникновения «панмонгольского движения», посланник пишет: «мысль о создании Монгольского государства, объединяющего в себе все монгольские племена, давно уже зрела в умах монгольских и бурятских политических деятелей и волновала их в период заключения Тройного соглашения в Урге, когда и Внутренняя Монголия, Барга, и Западная Монголия ждали объединения их с Внешней Монголией и были разочарованы, когда ожидания их не исполнились...» [там же, с. 592].
Статья А.Ф. Сперанского впоследствии стала основным источником по панмонгольскому движению 1919 г. для историков советского периода, на основе данных представленных в этой работе сформировалась историография по проблеме панмонголизма. Именно с этой работы пошла традиция рассматривать панмонгольское движение 1919 г. исключительно как результат японских интриг. Нужно отметить, что в статьях И.М. Майского и А.Ф. Сперанского, несмотря на то, что они написаны на основе одного архива, имеются существенные расхождения.
Тезисы А.Ф. Сперанского повторял Г.Е. Грумм-Гржимайло в книге «Западная Монголия и Урянхайский край» (Л., 1926 Т. 2.), а также С. Шойжелов в статье «Национально-освободительное движение Монголии» (Новый Восток. № 6. М., 1924.). А. Каллиников, в работе «Революционная Монголия» ( М., 1925) констатировал, что в результате борьбы монголов «к осени 1913 г. Монголия от Алтая до Хингана с запада на восток и до Ордоса на юге оказалась фактически независимой от Китая и объединенной под властью ургинского Богдо-гэгэна» [Каллиников 1925, с. 66].
Бурятский политический деятель начала XX в. Элбек-Доржи Ринчино был активным участником панмонгольского движения 1919 г. В газете «Наш путь» (г. Чита) он выпустил статью «Великие державы и независимость Монголии», в которой утверждал, что государства - члены парижской мирной конференции 1919 г. поддержат стремление монголов к государственному суверенитету Монголии. Позднее, в советское время, им был написан очерк «К истории панмонгольского движения и роли в нем Э.-Д. Ринчино». В этой работе Ринчино определяясь с терминами, пишет: «употребляя термин «панмонголизм», мы не смешиваем его с «паназиатизмом», а имеем в виду исключительно стремление некоторых бурято-монгольских групп объединить в одно политическое целое всю этнографическую Монголию» [Ринчино 1998, с. 213]. Автор отмечал, что в работе А.Ф. Сперанского имеются неточности.
Ринчино в начале 1920-х гг. работал в МНР. В одной из работ этого периода он определял панмонголизм как на общемонгольскую национальную идею, ставящую своей целью «эмансипацию монгольских племен от гнета китайских, японских и других милитаристов» [там же, с. 104].
В 1927-1928 гг. на страницах журнала «Революционный Восток», вышли две работы, в «дискуссионном порядке» обсуждавшие международное положение МНР. Э.-Д. Ринчино в статье «К вопросу о национальном самоопределении Монголии в связи с задачами китайской революции», выдвинул тезис об «этнографической» Монголии: как страны, «лежащей между СССР, китайским Туркестаном, собственным Китаем и Маньчжурией». Автор утверждал, что все необходимые условия для «постановки вопроса о восстановлении прежнего монгольского государства в его национальных (курсив - Ринчино) рамках» созрели [Ринчино 1927, с. 70]. Ринчино напоминал, что в борьбе монголов против маньчжурской династии, а затем против республиканского Китая, уже существовало «общемонгольское («пан-монгольское») правительство в Урге в которое вошли представители всех частей Монголии» [там же, с. 71].
В пику статье Э.-Д. Ринчино, в 1928 г. вышла работа Д. Жамболона «Как не следует ставить вопрос о национальном самоопределении Монголии». Подвергая критике Э.-Д. Ринчино за тезис об «этнографической Монголии» и за вопрос о границах Монголии, Жамболон утверждал, что «лозунг национального объединения является не непосредственным лозунгом, и не есть конечная цель, а есть лозунг агитационный, подталкивающий на известной стадии развития национально-революционного движения массы на борьбу» [Жамболон, с. 236]. Комментарии излишни.
В 1930-е гг. нарастает напряженность на Дальнем Востоке в связи с экспансией Японии в северо-восточном Китае. В этот период идея консолидации монголов подвергается в советской печати особенно острой критике. В статьях наркома просвещения Б-М. АССР О. Дашидондобэ «Об
одной вреднейшей антимарксистской теории (о панмонголизме)» (1931 г.), Д. Иванова «За развернутую борьбу с бурятской кондратьевщиной - против гнилого либерализма», М.Н. Ербанова (первого секретаря Бурят-Монгольского обкома партии) «10 лет социалистического строительства Б-М АССР», Манжигинэ «Против пропаганды националистической идеологии в Бурято-Монголии и гнилого либерализма по отношению к ней» («Революционный Восток», 1932 г. № 1 - 2), И. Николаева «Период колчаковщины и семеновщины в Бурятии» (сборник «От царской колонии до советской республики», Иркутск, 1933 г.).
Манжигинэ утверждал, что «последовательный бурятский национализм есть по существу панмонголизм», и «националистический уклон бурятской организации идейно смыкался с местным контрреволюционным национал- шовинизмом (т.е. открытым панмонголизмом)» [Манжигинэ, с. 251]. Николаев характеризовал панмонголизм как реакционное,
контрреволюционное движение, и утверждал, что «было бы ошибочно думать, что панмонголизм привнесен извне в общественную жизнь Бурятии... как определенное политическое течение, с ярко выраженной националистической окраской продолжает быть историческим и логическим завершением бурятского национал-демократизма» [Николаев, с. 67]. Забегая вперед отметим, что этот вывод не подтверждается данными современных исследователей, историк-монголовед Института Востоковедения РАН Е.А. Белов по поводу происхождения панмонголизма как идеи объединения монгольских народов утверждает, что «эта фундаментальная идея принадлежала самим монголам... ее выдвинули в 1911 г. халхаские князья и ламы. Они провозгласили создание Великой Монголии» [Белов 1995, с. 177].
Таким образом, в 1930-х гг. в Советском Союзе окончательно утвердилась точка зрения на панмонголизм как на реакционную буржуазную националистическую идеологию. В ближайшее время после арестов «панмонголистов» в 1937-1938 гг. никаких работ касающихся темы
интеграции монгольских народов не было. По всей видимости, считалось, что с «панмонголизмом» в Бурят-Монгольской АССР покончено.
Вышедшие после Великой отечественной войны работы, такие как: Б.Д. Цибиков Разгром унгерновщины. Улан-Удэ, 1947; История Бурят-Монгольской АССР, под ред. А.П. Окладникова. Улан-Удэ, 1951; 1-й том Истории Бурят-Монгольской АССР, Улан-Удэ, 1954; 2-й том Истории Бурят-Монгольской АССР, под ред. П.Т. Хаптаева, Улан-Удэ. 1959; Б. Ширендыб, Народная революция и образование МНР (1921 - 1924), М., 1956; И.Я. Златкин Очерки новой и новейшей истории Монголии. М., 1957; П.Т. Хаптаев Бурятия в годы гражданской войны. Улан-Удэ, 1967; Очерки истории Бурятской организации КПСС. Улан-Удэ, 1970; Бадмаев Ж. Деятельность Бурятской организации КПСС по идейному разгрому буржуазного национализма и интернациональному воспитанию трудящихся в период строительства социализма (1923-1937 гг.). Автореф. канд. наук. Иркутск, 1971; История МНР. М., 1983; и др., воспроизводили традиционные для советской историографии тезисы о японском инспирировании панмонгольского движения 1919 г., о «японском наймите» атамане Семенове и «буржуазной националистической интеллигенции», «давно носившейся с идеями панмонголизма». Эти исследования страдают тенденциозностью и вряд ли могут считаться наиболее полно и беспристрастно описывающими данный политический феномен.
Монголовед А.В. Бурдуков, который был современником переломных событий в истории Монголии первой четверти XX в., был сторонником активной политики России в Центральной Азии. Он считал, что в период 1911-1915 гг. нерешительные действия России и усиливающийся нажим Китая на Монголию подрывали веру монголов в идею объединения и создания независимого от власти Китая монгольского государства. «Правительство Богдо-гэгэна искало пути для воссоединения с Внутренней Монголией вплоть до трехстороннего Кяхтинского соглашения 1915 г. Оно пыталось убедить царскую дипломатию согласиться на объединение, но
каждый раз наталкивалось на отказ и настоятельные рекомендации воздержаться от военных действий», отмечал А.В. Бурдуков [Бурдуков, с. 92].
До конца 80-х гг. прошлого века негативный взгляд на идею панмонголизма - объединения монгольских народов в советской историографии оставался неизменным. Идея объединения Монголии, пишет Л.П. Попова имеет патриотический характер, однако ее не нужно смешивать с «во многом инспирированным и поддержанным Японией движением панмонголизма...» [Попова, с. 133]. Попова отмечает, что идея национального объединения и создания независимого государств была доминирующей среди монгольских феодалов вплоть до подписания Кяхтинского соглашения. После 1915 г. «поскольку идею национального объединения не удалось претворить в жизнь, в феодальных кругах вновь усилились сепаратистские тенденции, сочетавшиеся в ряде случаев с антинациональными прокитайскими позициями» [там же, с. 60].
Качественно новый период в изучении проблемы консолидации монголов наступил на рубеже 1980-90-х гг. прошлого века. Возрос интерес к проблеме панмонгольского движения, исследователи Б.В. Базаров, Е.А. Белов, Л.Б. Жабаева, А.С. Железняков, Ю.В. Кузьмин, Л.В. Курас, Е.И. Лиштованный, С.Г. Лузянин, С.К. Рощин, Ш.Б. Чимитдоржиев, И.Н. Шагдурова, Ю.П. Шагдуров, Л.А. Юзефович и др. выпустили ряд работ, которые позволили по-новому взглянуть на события политической жизни XX века в Центральной Азии. Можно констатировать, что объективное научное исследование проблемы панмонголизма началось только с 1990-х гг.
Монголовед Ш.Б. Чимитдоржиев считает, что панмонгольское движение было патриотическим, национально-освободительным движением монголов. Панмонголизм он определяет как «движение за национальное самоопределение, возрождение монгольских народов (и политическое и культурно-этническое) и за образование самостоятельного государственного
объединения» [Базар Барадин, с. 32]. В настоящее время о политическом объединении монгольских народов речь не идет, основную задачу Ш.Б. Чимитдоржиев видит в «восстановлении истинной многовековой истории, возрождении традиционной культуры, активизации связей между народами монгольского мира, прежде всего культурно-языковых, религиозных, экономических...» [Чимитдоржиев, Бурят-монголы..., C.90].
И.Н. Шагдурова отмечает, что панмонгольская идея в своем развитии прошла два этапа: первый - «культурный панмонголизм» и второй - переход из панмонголизма сферы культуры в политическую в 1919 г. выразившийся в панмонгольском движении [Шагдурова, с. 114].
Идеи панмонголизма, как пишут исследователи из Иркутска Ю.В. Кузьмин и В.В. Свинин в своей статье «Панмонголизм» как национальная идея консолидации народов Центральной Азии в XX веке», активизировались в ситуации политических кризисов в России и Китае, но не имели массовой поддержки, вследствие чего «концепция «Великой Монголии» во многом носила умозрительный характер, дальше дискуссий и печатных выступлений дело не пошло» [Кузьмин, Свинин, с. 154]. С этим утверждением трудно согласиться, т.к. государственное образование, в правительство которого входили представители Внешней Монголии, Барги, Внутренней Монголии в 1912-1915 гг. было, об этом факте писали А. Калинников и Э.-Д. Ринчино в 1920-х гг. Панмонголизм в настоящее время, утверждают Ю.В. Кузьмин и В.В. Свинин, представляет собой сложное и неоднородное общественно-политическое течение: «для одних оно является способом остановить процесс денационализации монгольского этноса... Для других - это активизация процесса культурного взаимодействия народов монгольского этноса, заимствование культурных и научных достижений. Для третьих - наиболее радикальных - предполагается создание в перспективе единого государства всех монгольских народов» [там же, с. 155].
Справедливым представляется мнение Б.В. Базарова - «идея панмонголизма, несмотря на ее патриотическую привлекательность и
попытку применения в разные периоды и в разных субъектах центральноазиатского сообщества, обнаружила слабость, излишнюю мифологизацию политических мотивов, утопизм в определении перспектив политического устройства, встретила динамичное противодействие России и Китая, за короткое время восстановивших свои мировые позиции» [Базаров 2000, с. 5].
Утопичность и иллюзорность идеи создания объединенного монгольского государства в 1919 г. отмечает исследователь Л.Б. Жабаева. Но тем не менее, «панмонгольские конференции {1919 г. - Х.Т.) в немалой степени активизировали борьбу за независимость, в какой-то мере сыграли прогрессивную роль, ибо подняли на новую ступень национальное сознание монгольских народов» [Жабаева 2001, с. 144].
Исследователь Л.А. Юзефович указывает на терминологическую проблему: «понятие «панмонгольское движение» на некую обобщенность и в этом качестве ложится в разного рода идеологические конструкции» [Юзефович 1996, с. 179]. Идея создания «Великой Монголии», по мнению Юзефовича, принадлежала японцам, однако «послушным орудием в руках японских политиков Семенов никогда не был» [там же, с. 180]. Юзефович отмечает, что даже когда японцы отказались от поддержки панмонгольского движения, атаман Г.М. Семенов продолжал действовать самостоятельно.
В своих мемуарах Г.М. Семенов практически не касается событий 1919 г., связанных с панмонгольским движением. Зато оставил замечание по поводу данных архивов правительства А.В. Колчака - он жалуется на представителей старой царской дипломатии, которые писали «доносы в Омск с усилиями очернить мои действия и придать им характер полной безответственности» [Семенов, с. 247]. Возможно, в материалах архивов имеются какие-либо неточности или/и искажения, а между тем, они являются основными источниками по истории панмонгольского движения 1919 г. Отмечая этот факт, Семенов пишет: «... большевики, составляя историю гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке, использовали факты
так, как им было выгодно, и, не ограничиваясь этим, не остановились даже перед явными подлогами и передержками» [там же, с. 156]. По версии Семенова, его деятельность по созданию монгольского государства на самом деле имела своей целью организацию антибольшевистского плацдарма: «Монголия должна была приобрести полную политическую самостоятельность и искать союза с Китайской империей для совместной с нами борьбы с коминтерном» [там же, с. 250].
Исследования Е.А. Белова затрагивают малоизвестные стороны борьбы за независимость Монголии и историю движения за монгольскую консолидацию до 1919 г. Две волны панмонгольского движения (в 1911-1915 гг. и 1919 г.) потерпели поражение, по его мнению, из-за того, что добиться успеха объединительное движение могло в двух случаях: «когда оно могло бы получить мощную поддержку извне, или когда оно вылилось бы во всенародную борьбу снизу» [Белов 1995, с. 179], ни первого, ни второго, как он считает, не произошло. Автор отмечает, что панмонгольское движение 1911-1915 гг. не носило реакционного характера, т. к. «разделенный народ, находившийся под властью другого государства, естественно стремился к объединению и созданию своего собственного независимого государства» [Белов 2003, с. 199]. Исследователь международных отношений в «треугольнике» Россия - Монголия - Китай С.Г. Лузянин определяет панмонголизм как «религиозно-политическое движение за объединение всех монголоязычных племен, создание Великой Монголии и возрождение традиций империи Чингисхана» [Лузянин 2003, с. 93].
Статья, написанная совместно Е.А. Беловым и С.Г. Лузяниным под названием «О концепции «монгольского вопроса» в «Истории Монгольской народной республики», привлекает внимание к новому видению проблемы панмонголизма. Панмонголизм, по Белову и Лузянину, это «исторически закономерное движение монгольских народов, оформившееся в начале XX в., направленное на объединение и создание единой, независимой Монголии из частей Внутренней, Внешней Монголии, Барги, Кобдоского, Алтайского
округов, Тувы и Бурятии» [Белов, Лузянин, с. 47]. Главной целью панмонголизма была консолидация Внешней и Внутренней Монголии. Было предпринято несколько попыток объединить Монголию: в 1912-1915 гг.; в 1919 г.; в 1921 г.; и в 1925-1927 гг.
С.К. Рощин отмечает, что в 1920-30-х гг. официальная линия Коминтерна «исходила из нереальности объединения (Монголии - Х.Т.) и заключалась в неприятии панмонголизма» [Рощин, с. 152]. Е.И. Лиштованный считает читинскую конференцию 1919 г. кульминацией панмонголизма: «своеобразным апогеем панмонгольской идеи в ее практическом отношении явилась общемонгольская конференция...» [Лиштованный, с. 80]. Такой взгляд отражает сложившееся и, по нашему мнению, не совсем верное представление: традицию видеть в преувеличенном масштабе события 1919 г., хотя они несоизмеримы с интеграционным движением монголов в 1912-1915 гг.
Исследователь Г.С. Яскина, касаясь вопросов геополитики современной Монголии отмечает : «Монголия взяла на себя обязательство уважать суверенитет Российской Федерации и Китайской Народной Республики и не вмешиваться в их внутренние дела, т.е. продемонстрировала отказ от заинтересованности или намерения разыгрывать «монгольскую националистическую карту», дабы не подстрекать Китай и Россию к конфликту» [Яскина, с. 69].
Проблема панмонголизма затрагивается в работах «Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации» (Иркутск 2003, Улан-Удэ 2004). Исследователь П.К. Варнавский отмечает, что в Советском Союзе «панмонголизм был превращен в главный символ враждебного (курсив - Варнавский)..., маркируя этим термином тех или иных социальных агентов, официальная власть получала возможность беспрепятственно их преследовать вплоть до физического уничтожения» [Бурятская этничность, 2004, с. 64].
Как и в советском монголоведении в монгольских общественных науках проблема панмонголизма не ставилась [Лузянин 2003, с. 27]. Переосмысление некоторых положений, которые в советскую эпоху были традиционными, началось в 1990-х гг. Историк С. Дамдинсурэн отмечает, что в результате давления России и Китая на монгольское руководство Кяхтинские соглашения 1915 г. юридически закрепили сложившее разделение страны [Дамдинсурэн, с. 44].
Роль Японии в панмонгольском движении 1919 г., ее политику в отношении МНР и Внутренней Монголии в 1920-30-х гг. описывает монгольский историк Ц. Батбаяр в монографии «Монголия и Япония в первой половине XX века». Исследователи Ц. Гурбадам и Л. Бат-Очир призывают разработать концепцию монгольского единства: «идея панмонголизма преследует стратегическую и долгосрочную цель осуществления неотъемлемого права всех монголов на создание общемонгольского дома» [Гурбадам, Бат-Очир, с. 166].
В США в послевоенный период были изданы работы Роберта Рупена касающиеся многих вопросов политической истории Монголии в XX в. Составной частью панмонголизма Р. Рупен видит «пан-буддизм», в этом проекте Тибет должен был объединиться с Монголией во главе с Далай-ламой. Панмонголизм по Р. Рупену - чувство (sentiment) общемонгольской солидарности. По его мнению, появление монгольского национального движения в начале XX в. было обусловлено изменением политики России и империи Цин по отношению к своим подданным - монголам: от поддержки буддийской религии и возможности самоуправления монголов к усилению административного контроля, заселения колонистами земель, принадлежащим коренным жителям [Rupen 1964, р. 105].
Можно констатировать, что отношение научной и публицистической мысли к идее консолидации монголов эволюционировало вместе с политической ситуацией в стране и мире. В публицистических работах 1920-30-х гг. складывается представление об идее консолидации монголов как о
реакционной, буржуазной и националистической идеологии; в исследованиях послевоенного периода повторялась сложившаяся ранее точка зрения. Коренные изменения в подходах к изучению проблемы панмонголизма наблюдается в исследованиях постсоветского периода: восстанавливаются имена и события вычеркнутые из советской истории, оценки панмонголизма различны, от апологетики до неприятия и критики.
Объектом исследования является идеология единства монгольских народов - панмонголизм как паннациональная идеология.
Предметом исследования являются политические аспекты идеологии панмонголизма, рассмотренные в их историческом измерении.
Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования заключается в анализе теории и практики идеологии единства монгольских народов (панмонголизма).
Достижение данной цели предполагает постановку следующих исследовательских задач:
• рассмотреть теории идеологии, разработанные отечественными и зарубежными исследователями;
• выделить характерные черты паннациональных идеологий, их генезис и влияние на политический процесс;
• проанализировать фундаментальные основы идеологии единства монгольских народов, причины ее возникновения, динамику развития;
• рассмотреть эволюцию и влияние идеологии панмонголизма на политический процесс Центральной Азии; Теоретико-методологическая основа. Цель и задачи исследования
потребовали рассмотрения явлений, связанных с проблемой формирования и развития данного феномена в его последовательном хронологическом развитии и обусловили применение исторического метода. Также были использованы сравнительный, систематический, структурно функциональный, институциональный, общие методы политической науки и смежных наук.
Научная новизна исследования. В работе проведен комплексный анализ политических аспектов идеологии единства монгольских народов с использованием новых материалов, введенных в научный оборот исследователями-монголоведами с начала 1990-х гг.
Основные результаты исследования могут быть зафиксированы в следующих положениях, выносимых на защиту:
• Неоднозначное влияние на политический процесс различных регионов мира оказывают паннациональные интеграционные идеологии. Период особенно сильного влияния этих идейных концепций наблюдался с сер. XIX по сер. XX вв. Идеология панмонголизма во многом идентична этим идеологическим концепциям, но имеет, естественно, свою специфику.
• Под панмонгольской идеологией следует понимать идеологию единства общностей, отождествляющих себя с монгольской историей и культурой, объединенных под термином «монгольские народы». Фундаментом этой идеологии служит история Монголии, язык, письменность, буддийская религия, этнографические особенности монгольских народов, а также такой немаловажный фактор как номадизм -кочевой образ жизни.
• В Центральной Азии с древности существовала объединительная тенденция, которая приводила к возникновению государственных объединений кочевников. В начале XX в. тенденция к объединению кочевников вновь проявляется в форме движения за объединение Монголии или так называемого «панмонгольского движения», идейной основой которого является идеология единства монгольских народов.
• Панмонгольская идеология возникла в начале XX века в Монголии, когда она входила в состав маньчжурской империи. Ее составными компонентами являлись идеи возрождения монгольской государственности и объединения монгольских народов - подданных династии Цин во главе с высшим иерархом монгольской буддийской церкви Богдо-гэгэном. С момента возникновения панмонгольская идеология неизбежно включилась в
контекст различных политических и социальных процессов, проходивших в Центральной Азии, вследствие чего возникали неоднозначные коллизии, так или иначе связанные с идеей единства монгольских народов.
• В настоящее время монгольские народы, пути которых с XVII-XVIII вв. разошлись, утратили многое из традиционной и самобытной культуры. Сегодня идея монгольского единства нацелена в первую очередь на сотрудничество монгольских народов в национально-культурной сфере, в этом контексте идеология панмонголизма способствует сохранению монгольской национальной идентичности.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретические положения, концептуальные разработки данной работы могут использоваться при подготовке семинаров, лекций, специальных и факультативных курсов по политической истории, политическому процессу и международным отношениям в Центральной Азии. Отдельные выводы настоящего исследования были бы полезны для дальнейшего изучения проблемы интеграции монгольских народов.
Апробация диссертационной работы. Отдельные положения и выводы диссертации нашли отражение в альманахе «Школа молодого автора», подготовленном Образовательно-исследовательским и издательским центром (ОИИЦ) «Вестник Евразии» в 2002 г.; в докладе на научно-практической конференции «Чингисхан и судьбы народов Евразии», проводившейся в Улан-Удэ в 2003 г.; в сборнике «Цивилизационные процессы на Дальнем Востоке: Монголия и ее окружение», подготовленном Институтом сравнительной политологии в 2005 г.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.
Понятие «идеология»: проблемы методологии
В статье 13 Конституции Российской Федерации провозглашается, что в ней признается «идеологическое многообразие» (пункт 1) и «никакая идеология не может быть устанавливаться в качестве государственной и обязательной» (пункт 2). Распад Советского Союза породил представление, будто эпоха идеологии уходит в прошлое. Использование термина «идеология» в негативном и даже пренебрежительном смысле было характерно для нашей страны в эпоху перестройки и крушения марксизма-ленинизма - критика советской идеологии переросла в критику идеологии как феномена общественной жизни. Идеология считалась неотъемлемой частью советской системы и отождествлялась с догматизмом, зашоренностью мышления и сознательным искажением действительности.
Однако в то же время Фрэнсис Фукуяма в своей работе под названием «Конец истории?» в начале 90-хгг. прошлого века провозгласил победу «идеи (курсив мой — Х.Т.) экономического и политического либерализма» над советским строем. В настоящее время видно, как поспешил Ф. Фукуяма заявить об абсолютном триумфе западной идеи (курсив мой — Х.Т.) потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив». Как известно, все человеческое существование - это борьба идей, и, по-видимому, время идеологий не прошло. С древних времен существовало великое множество разнообразных идейных концепций - идеологий. Вместе со своими создателями: различными цивилизациями, народами, отдельными людьми, идеи зарождались, переживали расцвет и приходили в упадок. Некоторые идеи переживали своих творцов и в переработанном, трансформированном виде продолжали оказывать влияние на различные общества. Представляется справедливым мнение исследователя международных отношений Н.А. Косолапова: «Конкретная идеология может утрачивать свое значение, отступать на задний план и даже уходить в политическое небытие; но идеология как явление в ближайшем будущем неустранима» [Богатуров, с. 224].
Попытки дать определение термину «идеология» предпринимались многими исследователями много раз, и разброс мнений очень велик. Четкий и однозначный ответ на вопрос «что такое идеология?» дать очень трудно. В данной части нашего исследования приводятся различные концепции идеологии, и предпринимается попытка сформировать собственную точку зрения на этот вопрос.
В самом общем виде идеологию можно определить как совокупность идей, суждений, понятий, концепций, учений, с помощью которых человек понимает общество, самого себя в этом обществе, природное и социальное окружение. Политическая же идеология, или по Макиавелли «оружие духовного княжения» отличается тем, как справедливо отмечает белорусский исследователь А.С. Майхрович, что воздействует на содержание властных отношений - упорядочение отношений власти и общества, отношений разнообразных групп интересов целостного социального организма и выполняет важную функцию достижения общего единства и стабильности [Майхрович, с. 13].
Термин «идеология» появился на рубеже XVIII-XIX вв. во Франции. В оборот его ввел французский мыслитель Антуан Дестют де Траси в 1796 г. в своем труде «Этюд о способности мыслить». Несмотря на дворянское происхождение Дестют де Траси встал на сторону революции, он работал в Национальном Институте. Дестют де Траси и его соратники пытались создать «науку о мыслях людей».
Де Траси определил центральную проблему идеологии, которая по мнению Косолапова, заключается в поисках причины интеллектуально-психологической притягательности для современников одних идей, равнодушия к иным, и отторжения третьих [Богатуров, с. 230]. Идеология, согласно Дестют де Траси, это теоретическая дисциплина, призванная заниматься изучением генезиса и функционирования идей, т.е. этот термин первоначально обозначал «науку об идеях» в буквальном смысле. Как видно, данное понимание идеологии отличается от современного.
Вот что писал Дестют де Траси о новом способе познания: «Эту науку можно назвать идеологией, если исходить только из ее предмета, общей грамматикой, если обращать внимание только на ее средства, и логикой, если рассматривать только ее цель. Однако как бы ее не именовать, она обязательно охватывает эти три аспекта, ибо невозможно заниматься серьезно одним из них, не занимаясь двумя другими. Идеология представляется мне родовым термином, так как наука об идеях включает в себя и науку об их выражении, и науку о допускаемых ими дедукциях» [цит. по: Пащенко, с. 38].
Национальный Институт выступил с критикой правления Наполеона, обвинив его в измене идеалам революции и диктаторских тенденциях. В ответ, в одной из центральных газет была опубликована статья с острой критикой Института. Несмотря на анонимность статьи, все догадывались, что автором статьи был сам император. Именно тогда Наполеон впервые употребил термин «идеология» в уничижительном смысле. Конфликт Дюстют де Траси и его школы с императором получил широкий общественный резонанс, и таким образом, с легкой руки Наполеона было дано начало традиции негативного восприятия феномена идеологии как ложных, искажающих реальность представлений. Дестют де Траси и «идеологи» определялись императором как представителями оторванной от реальности туманной метафизики и абстрактной умозрительности, пытающиеся на такой зыбкой основе устанавливать начала общественной жизни и законодательства народов [Майхрович, с. 15].
Феномен паннациональных идеологий и движений
В 1902 г. в Одессе вышла книга под названием «Панславизм, пангерманизм и панроманизм» написанная неким И.В. Каменским. Он утверждал, что XIX век был веком расцвета «идеи национализма», но в новом веке, национализм уступит место более широкой «культурно-исторической идее». Этой, «более жизнеспособной» идеей, по мнению Каменского, являлась «племенная идея»: «...она выражается у европейцев в виде панславизма, пангерманизма, панроманизма; в параллели... можно поставить древний и современный панэллинизм, панмонголизм (вспомним о Чингисхане, о Тамерлане, и примем во внимание современное положение вещей в Японии, Корее, Китае и Индо-Китае, которое может закончиться панмонгольской федерацией), паниндианизм, панамериканизм северный, уже осуществленный в виде Соединенных Штатов, и южный, еще стоящий на очереди; панславизм и сионизм имеют не столько племенную, сколько культурно-религиозную подкладку» [Каменский, с. 11]. Сегодня прогнозы Каменского выглядят несколько забавными, однако данная книга и конкретно данная цитата отражают те бурные процессы, проходившие в мире сто лет назад, причиной которых был национализм.
Тема национализма не утратила своей актуальности и в настоящее время, национализм является силой, имеющей существенное влияние на политическую ситуацию в мире. Назначение национальной идеологии состоит в формировании связей солидарности между индивидами и социальными классами, мобилизации с этой целью общих ценностей и культурных традиций. Национальные доктрины производят мифы, символы, апеллирующие к рациональности идеологии, призванные служить оправданию и укреплению государства [Цыганков, с. 234].
По мнению Э. Геллнера, «накал национализма в XIX-XX столетиях есть отражение и следствие индустриализма - способа производства, возникшего и распространившегося именно в этот период» [Геллнер, с. 6]. Движение за независимость от Китая, объединение и создание монгольского государства было прежде всего национальным движением. Однако никакого индустриализма в Монголии в конце XIX - начале XX века конечно не было. Представляется, что на формирование монгольского национального движения большое влияние оказывало соответствующее движение в Китае. Влияние в том смысле, что деятельность националистической партии Гоминьдан, пришедшей к власти в Китае после Синьхайской революции, и учитывающей интересы только ханьцев, наносила урон кочевому населению, что естественно вызывало ответную реакцию: стремление жить отдельно от Китая.
Цель идеологии панмонголизма - объединение Монголии и создание независимого государства не была умозрительным «изобретением». Представляется справедливым мнение исследователя проблем национализма Э. Смита, который выступает против социального конструктивизма и изобретения как надежных объяснительных категорий возникновения современных наций. Однако он и не отрицает множественные попытки «конструирования» и «изобретения» наций «культурными инженерами» -элитой. Но такие попытки, «должны основываться на важных социальных и культурных связях, существовавших ранее» [Смит, с. 243].
Ситуация в Монголии в начале XX в. в некоторых чертах тождественна польскому примеру, который приводит Э. Смит. По его мнению, польское национальное государство, добившееся независимости в 1918 г., не было ни простым «возрождением», ни «изобретением». «Польша, которая стала независимым государством, - пишет Э. Смит, заметно отличалось от государства польской знати, духовенства и дворянства, которое утратило свою независимость во время его разделов в конце XVIII века. Но оно и не было совершенно новым образованием. Генетически оно было связано с прежним польским государством и не в последнюю очередь общими кодами, мифами и символами которые объединяли поляков...» [там же, с. 244]. То же самое можно наблюдать в Монголии: выражаясь терминологией Смита «генетически» проект создания государства, в состав которого входили бы все народы «монгольского корня» уходил в средневековую историю Центральной Азии.
Идеология объединения монгольских народов ставила своей целью создание монгольского национального государства. Сразу после провозглашения Внешней Монголией независимости в 1911 г. было обнародовано «Воззвание ханов, ванов, гунов, дзасаков, и равно хамбо, шанцзодбы и да-лам всех четырех халхаских аймаков к монголам». В нем говорилось: «Мы монголы, искони составляли особую народность, теперь, согласно древним порядкам, надлежит установить свое национальное независимое от других, новое государство...» [цит. по: Белов 1999, с. 49].
Население, входящее в состав нового государства, должно было, по всей видимости, обладать следующими основными признаками: исповедовать буддизм (в версии гелукпа) и осознавать себя частью «монгольского корня». Владение монгольского языка и знание письменности не было обязательным (например, это не мешало урянхайским добровольцам в 1912-1914 гг. сражаться с китайцами в составе монгольского войска). Итак, религиозная и этническая самоидентификации были основными в монгольском национальном движении.
Кроме панмонголизма известны также аналогичные идейные концепции и движения, ставивших своей целью создание политических объединений: панславизм, пантюркизм и т.д. Представляется важным вкратце рассмотреть их возникновение, эволюцию и степень влияния на политический процесс.
Приставка «пан» (от греч. pan — всё), является частью сложных слов, означающая «относящийся ко всему», «охватывающий все». По всей видимости расширенное понимание национализма - паннационализм ставил своей целью создание масштабных субъектов политики в основе которых лежало объединение по тем или иным признакам.
Объединительные тенденции в средневековой истории Монголии
Данный параграф представляет собой краткий очерк истории Монголии с XII по XVIII века. Представляется важным показать, что объединительные тенденции в Центральной Азии, о которых говорилось выше, существовали задолго до явления, названного панмонгольской идеологией и движением. Проявления кочевой объединительной тенденции до XIII в. - хуннское, сяньбийское и т.д. не будут рассматриваться, в силу ограниченности объема исследования. Однако, несомненно, предположение о существовании подобной тенденции требует более детального и подробного изучения, что не входит в задачу нашей работы.
Известно, что Богдо-гэгэн и политическая элита Монголии в начале XX в. обосновывали свое право на политическую независимость и единство существованием многовековой традиции государственности. Опираясь на исторические факты, монгольская элита ощущала себя правопреемницей средневековой монгольской государственности, и видела своей целью объединение всех монгольских народов в единое государство. В письме одного из влиятельных политических деятелей Халхи князя Ханддоржа говорилось: «...Монголия не только не находилась в подчинении Китая, но и наоборот... бо лее 1000 лет пограничные области Китая подчинялись Монголии. Вслед за тем, начиная от нашего предка Чингиса-Богдо более 10 государей в течение около 200 лет безраздельно владели всем Китаем, о чем знают все народы» [Попова, с. 58].
Возникновение монгольского государства. Как известно, монгольское государство возникло в начале XIII века в результате борьбы за гегемонию между кочевыми племенами, населявшими восточно-евразийские степные пространства. Образование кочевого объединения (а это явление часто повторялось в истории) по мнению российского востоковеда В.В. Бартольда возникало «вследствие условий кочевой жизни, движение (за объединение -Х.Т.) вызванное разными причинами, главным образом экономического свойства, в короткое время могло охватить целый ряд народов и распространиться на много тысяч верст, останавливаясь только перед непреодолимым препятствием. Успех борьбы с встречными преградами и вместе с тем границы кочевой империи в каждом отдельном случае определялись количеством военных сил кочевников, степенью энергии и дарований их предводителей и степенью могущества тех политических организаций, которые им приходилось встретить на своем пути» [Бартольд, с. 253].
Центральную Азию в XII в. населяли различные племена: между Хангайским и Хэнтэйским хребтами в долинах рек Орхона и Толы жили кэрэиты, многочисленное и влиятельное в степи племя. Существует предположение, что кэрэитская знать могла исповедовать христианство, исследователь Е.И. Кычанов приводит, возможно, христианские имена из «Сокровенного сказания»: Хори-Шилемун (Соломон), Таргутай-Кирилтух (Кирилл), Ширгету-Евген (Евгений). [Кычанов 1997, с. 192].
К западу от кэрэитов, между Хангайским и Алтайским хребтами располагались кочевья найманов. Они были знакомы с письменностью, делопроизводство в их объединении велось на основе уйгурского вертикального письма. Племя меркитов обитало в среднем течении реки Селенги, а также по долинам рек Хилок и Чикой и граничило с «лесными» племенами. «Лесные» племена: булагачин, кэрэмучин, хори, баргут, тумэт и другие населяли область Баргуджин-Токум, которая находилась по обеим сторонам оз. Байкал, у истоков Енисея в Восьмиречье кочевали ойраты.
В XII в. в степях Центральной Азии нарастающие центростремительные процессы толкали кочевые племена к ожесточенной борьбе за гегемонию. В это время возникло первое государственное объединение монголов - «Хамаг Монгол Улс», первым ханом которого стал дед Чингисхана Хабул.
По поводу точного года рождения Чингисхана - Тэмучина существуют расхождения. Бартольд считал приемлемой дату 1155 г. [Бартольд, с. 256]. Одним из эпизодов межплеменной вражды стала гибель отца Тэмучина Есугей-багатура. Оставшись без предводителя, улус-владение Есугея распался. Вдова и дети знатного человека оказались в положении изгнанников. Повзрослевший Тэмучин установил союз с побратимом отца, ханом племени кэрэитов Тогорилом, и со своим другом детства и названным братом Джамухой. Вместе с ними Тэмучин разгромил своих обидчиков -меркитов и образовал свой улус. Союз Джамухи и Тэмучина продержался недолго. Властолюбивый характер Тэмучина подтолкнул Джамуху к откочевке - пути побратимов разошлись навсегда. Более того, нарастающие противоречия привели их к столкновению, в котором войска Тэмучина были разбиты Джамухой. Однако Тэмучин сумел быстро оправиться от поражения и привлечь на свою сторону большинство племен, подвластных Джамухе и в 1190 г. «нойоны и багатуры Ононо-Керуленской земли» избрали его своим предводителем и нарекли Чингисханом.
Джамуха собрал новый союз и возобновил борьбу с Тэмучином, но был разбит им. В жестокой межплеменной войне Тэмучина сопровождала удача и к 1204-1205 гг. покорив племена найманов, меркитов и остатки объединения Джамухи, он объединил кочевые племена от Хингана до владений найманов под своей властью.
Оставался независимым Таян-хан найманский, о монголах Чингисхана он был невысокого мнения: «Сказывают, что в северной стороне есть какие-то там монголишки и что они будто бы напугали своими сайдаками древлеславного великого государя Ван-хана и своим возмущением довели его до смерти. Уж не вздумал ли он, Монгол, стать ханом? Разве для того существуют солнце и луна, чтобы и солнце и луна светили и сияли на небе разом? Также и на земле. Как может быть на земле разом два хана?» [Сокровенное сказание, с. 83]. Глава племени найман, Таян-хан был побежден Чингисханом.
Движение за объединение Монголии в 1911-1915. гг
Движение за независимость и объединение Монголии в 1911-1915 гг. с момента возникновения вызывало настороженность в Санкт-Петербурге, раздражение в Пекине и определенный интерес в Токио. Царское правительство стремилось использовать стремление монголов к отделению от Китая для создания автономии, которая послужила бы в качестве «буфера» между Россией и Китаем. Поэтому Россия поддерживала и стремилась контролировать борьбу монголов. Китай не признавал никакой самостоятельности монгольских земель в принципе. Япония, поддерживая повстанцев во Внутренней Монголии, использовала освободительное движение монголов как средство нажима на Китай.
Правление династии Цин в Монголии. В маньчжурской империи земли, населенные монгольскими народностями, административно входили во Внутреннюю и Внешнюю Монголии, Тарбагатайский и Илийский округа Синьцзяна, а также в хошуны Южной Монголии, Чахара, Тумэта и провинции Хэйлуцзян. Монголы были освобождены от уплаты сборов в казну страны, однако несли расходы по охране границ, уртонную (ямскую) обязанность и воинскую повинность. Власти до конца XIX в. препятствовали образованию китайских поселений в Монголии, ханьцам запрещалось появляться за Великой стеной и распахивать степи. Лишь ограниченное количество чиновников, военнослужащих и торговцев из Китая имели право находиться в степи.
Монголы в начале XX в., несмотря на громкую военную историю, а также всеобщую воинскую обязанность, не имели боеспособных воинских формирований. Потомки грозных завоевателей исповедовали буддизм, пропитанный пацифизмом. К тому же, к началу XX в. монголы не воевали почти два столетия. Во многом из-за отсутствия современных боеспособных вооруженных сил Монголия не могла противостоять давлению соседних стран.
Треть мужского населения Внешней Монголии в начале XX в. состояло в духовном сословии. Монахи были связаны обетом безбрачия, они не несли повинностей, не призывались на военную службу. Недостаток молодых, здоровых мужчин отрицательно сказывался в воспроизводстве населения, экономике и обороноспособности страны.
В целом правление цинской династии дало Монголии политическую стабильность, что особенно ощущалось после эпохи ожесточенных междоусобных войн XVII-XVIII вв. Монголия долгое время оставалась вполне лояльной маньчжурской династии.
«Симбиоз» маньчжурской династии и монголов закончился на рубеже XIX-XX вв. Пекин опасался, что возрастающая политическая и экономическая активность России у границ империи к потере Монголии. Этим опасениям способствовали также падающий престиж династии в среде монголов и их особое расположение к России. Тому свидетельство — популярная в то время легенда об ойратском князе Амарсане. Идеализированный образ борца с маньчжурами стал символом национального освобождения. Российский представитель в Монголии граф Беннингсен утверждал, что «нет ни одного монгола, который бы не знал легенды о Амурсане. И кто бы не появился под именем Амурсаны... монголы все последуют за ним и начнут избиение китайцев» [цит. по: Ломакина 1993, с. 16]. Реальный Амарсана после поражения от маньчжурских войск ушел в Россию, оттуда же по легенде он должен был придти, чтобы поднять монголов на борьбу за независимость. В начале XX в. в Монголии нашлись авантюристы, использовавшие образ народного героя в корыстных целях.
Ханьцы (кит. чжунго-жэнь) в начале XX в. составляли подавляющее большинство населения Цинской империи. Аграрный кризис - нехватка пахотных земель способствовал тому, что в 1887 г. правительство империи Цин разрешило ханьцам переходить через Великую Стену. Крестьяне распахивали земли, реквизированные у кочевников. Колонизации подверглась в первую очередь Внутренняя Монголия. Ее коренное население лишалось источников существования, люмпенизировалось и попадало в кабалу китайских ростовщических фирм. Кочевники, по причине наивности и простодушия не могли противостоять хищнической деятельности китайских предпринимателей. Угроза колонизации всей Монголии, потери самобытности и ассимиляция кочевников становилась все отчетливей.
В ответ на такие действия во Внутренней Монголии вспыхнуло восстание. Предводителем отряда повстанцев стал князь Тогтохо. Отряд Тогтохо не выдвигал политических требований, его целью была месть -восставшие грабили и уничтожали китайских поселенцев. Движение вызывало большое сочувствие во всей Монголии, несмотря на известное миролюбие монголов. Российские власти поддерживали восставших монголов: «Царское правительство в это время уже взяло твердый курс на превращение Внешней Монголии в свою сферу влияния» [Белов 2003, с. 73]. Под давлением правительственных войск повстанцы отступили в Россию. После того как Урга провозгласила независимость, отряд Тогтохо поступил на службу правительства Джебцзун-Дамбы-хутухты. В дальнейшем восстания во Внутренней Монголии против китайской власти будут больше по масштабу и количеству участников.
В июле 1912 г. был подписан русско-японский договор, в которым обе стороны договорились разделить Внутреннюю Монголию на две части по Пекинскому меридиану и включить восточную часть в сферу влияния Японии, а западную - России, уважать «особые интересы» друг друга [Батбаяр, с. 1.7]. Русско-японские договоренности четко обозначили приоритетные «зоны»: Внешнюю Монголию и Северную Маньчжурию за Россией; Внутреннюю Монголию, Южную Маньчжурию и Корею за Японией. Это соглашение стало определяющим фактором в политической жизни Центральной Азии до 1917 г. С этого момента все попытки монголов добиться независимости и объединения страны наталкивались не только на противодействие Китая, но и России и Японии.