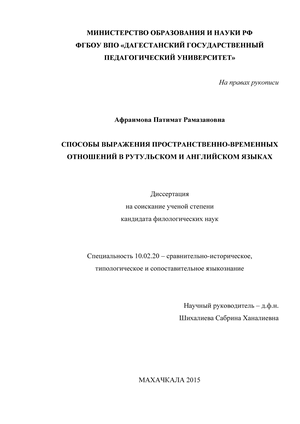Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Пространственно-временные отношения как комбинаторные единицы мышления 20
1.1. Пространственно-временные комбинанты и их отражение в языке 20
1.2. Пространственно-временные комбинаторные единицы: первичный формальный аппарат 25
ГЛАВА 2. Части речи, интегрирующие пространственно-временные лексемы в рутульском и английском языках 27
2.1. Роль существительных в выражении пространственно-временных комбинант 27
2.2. Роль прилагательных в выражении пространственно-временных комбинант 38
2.3. Роль местоименных актуализаторов в пространственно-временном прагматическом представлении 43
2.4. Роль числительных в выражении пространственно-временных комбинант
2.5. Роль глаголов в выражении пространственно-временных комбинант 51
2.6. Выражение пространственно-временных комбинант наречиями 61
ГЛАВА III. Пространственно-временная номинация и номинативная семантика предложения 69
3.1. Виды пространственно-временных номинативных единиц речи 69
3.2. Денотативная область вербального информирования и особенности ее отражения в рутульском и английском языках 88
3.3. Стилистическая и эстетическая характеристика десемантизированных имен 94
Заключение 114
Список использованной литературы 126
Список использованных словарей и цитированной художественой литературы 141
- Пространственно-временные комбинаторные единицы: первичный формальный аппарат
- Роль прилагательных в выражении пространственно-временных комбинант
- Роль глаголов в выражении пространственно-временных комбинант
- Стилистическая и эстетическая характеристика десемантизированных имен
Пространственно-временные комбинаторные единицы: первичный формальный аппарат
Лингвокультурологи и лингвокогнитологи понятия «пространство» относят к числу основных универсальных категорий культуры, без которой культура не существует во всех своих творениях. Это «определяющие категории человеческого сознания» [Гуревич 1972: 15]. Время, прошедшее с тех пор, продолжает подтверждать, что вышеуказанное предположение может подвергаться изменению и заменяться другими соответствующими изменениями речевой деятельности. Стало очевидным, что изменения определяют термин «пространственно-временного» содержания и затрагивают вопрос старой и новой информации. Пытаясь глубже проникнуть в явления речи, семантическая база выявляет некую платформу, выходящую за рамки чувственных форм «Человека=говорящего» [Степанов 1981:12].
Описывая план «пространственно-временное» содержания следует оп ределить то, что вмещает человека, то, что он осознаёт вокруг себя, то, что он видит простирающимся перед ним. Оно представляет среду всего сущего, окружение, в котором всё происходит, случается, некая заполненная людьми и объектами «пустота». Такое понимание определяет «исходную концепту альную структуру, соответствующую образу пространственно-временного в сознании архаичного человека. Это величина, включающая ряд концептов и подводимая под некое нестандартизированное описание, в котором высвечи вается протяженное присутствие «пространство-время» [Хайдеггер 1993:339].
Значение и структура нестандартного описания позволяет обобщить представление о целостном пространственно-временном образовании между небом и землёй, наблюдаемом, видимом и осязаемом, имеющем чувственную основу говорящего. Уже априори можно заключить, что семантические изменения при описании пространственно-временного характера превращаются в систему постсемантических элементов [Чейф 1975: 53]. Человек-говорящий ощущает себя частью пространства и времени, внутри которого он сам «относительно свободно перемещается или перемещает подчинённые ему объекты; это расстилающаяся во все стороны протяженность, сквозь которую скользит его взгляд и которая доступна ему при панорамном охвате» [Кубрякова 1997: 26]. Само понятие пространственно-временного представления в первоначальной, архаической модели мира, по В.Н. Топорову, сводится к его «собиранию», «обживанию», «освоению» [Топоров 1983: 47]. В архаической модели мира пространство оживлено, одухотворено и качественно разнородно. Оно не является идеальным, абстрактным, пустым, не предшествует вещам, его заполняющим, а наоборот, конституируется временем. Оно всегда заполнено и всегда вещно; вне вещей его не существует. Мифопоэтическое пространственно-временное содержание организовано, расчленено, состоит из частей, и, следовательно, предполагает две противоположные по смыслу операции, удостоверяющие единое содержание [Топоров 1983: 30-31].
Анализ исследования и употребления устоявших пространственно-временных единиц позволяет продемонстрировать факты единства языка с понятиями оборота речи. До сих пор шла речь об отдельных семантических единицах, рассматривавшихся в виде изолированных сущностей – пространства и времени. В действительности же мы никогда не встречаем семантические единицы в изолированном виде. Способы их комбинирования будут рассмотрены нами в работе. Носителями языка воспринимается пространство как неоднородное, которое нельзя считать не совокупным. Пространство-время подразумевает не отставание между двумя пунктирами, а просвет взаимопротяженного наступающего, осуществившегося и настоящего. Пространство не является простым вместилищем объектов, а скорее наоборот – конструируется говорящим и в этом смысле оно вторично по отношению к объектам. По 22 скольку оно (пространство) часто воспринимается именно через эманацию вещей, его заполняющих, для описания пространственно-временных отношений существенны такие признаки, как «положение наблюдателя», «характер и условия восприятия», «протяжение времени, отсчет времени». По мнению Е.С. Яковлевой, фундаментальным для описания пространства является человеческое измерение. «Окрестность говорящего» – это результат освоения собирания пространства [Яковлева 1994: 20-21]. Подчеркнутая смысловая тема – исходный пункт сообщения пространственно-временного содержания. Выбор компонентов этого содержания полностью задается линейно-интонационной структурой предложения или высказывания.
Таким образом, «зарождением основ преднаучной картины мира ознаменовалась появлением тенденции трактовать пространство как нечто относительно однородное и равное самому себе в своих частях, как то, что измеряется и в чём ориентируется время» [Топоров 1983: 41]. Очевидно, что описание пространственно-временных актуализаторов, требует обращение к структуре высказывания. Ж. Вандриес считает, что целью речевого процесса являются волевые импульсы, эмоции говорящего [Вандриес 1967:71].
Наибольшее внимание исследователей привлекают (наряду с архаической) две сформировавшиеся в Новое время модели – Ньютона и Лейбница [Топоров 1983; Яковлева 1994; Кубрякова 2000 и др.]. Ньютон под понятием «пространство» видит независимое от тел и существующее прежде них, оно вечно и неизменно по природе. Лейбниц, напротив, утверждает, что «пространство не существует само по себе, отдельно от тел» [НФЭ 2001: 371-372].
В современной научной картине мира, по замечанию И. М. Кобозевой, снимается противопоставленность подходов Ньютона и Лейбница [Кобозева 2000: 153]. Пространство трактуется как всеобщая форма бытия материи и её важнейший атрибут [ФЭС 1983: 541-542]; как (1) форма созерцания, восприятия, представления вещей, основной фактор высшего, эмпирического опыта; (2) способ существования объективного мира, неразрывно связанный со временем
Роль прилагательных в выражении пространственно-временных комбинант
Описание пространственно-временной семантики прилагательных, ус ловно говоря, носит психолингвистический характер. Естественно, ожидать, что устройство рассматриваемого фрагмента связано с закономерностями восприятия пространственно-временных комбинант в структуре диалогиче ского текста, с устройством окружающей действительности «Я/говорящий=сейчас=Ты/слушающий». С другой стороны, не раз отмеча лась связь между семантическими параметрами и теми актами выбора, кото рые производит говорящий. Общая характеристика прилагательных с про странственно-временной номинацией носит очевидный характер, тем не ме нее, раскрытие их особенностей для дальнейшего анализа необходимо. Пространственно-временная номинация прилагательного хуляхды «высокий» характеризует вертикальный размер предмета. Это правило на самом деле требует уточнения, так как не любой вертикально направленный длинный предмет можно назвать высоким. Такая семантическая дифференциация соответствует эквиваленту изолированности предмета: о человеке говорят хуляхды «высокий», а не хъаIшды «длинный»,
В приведенных данных можно выявить вполне определенную интерпретацию. Можно утверждать, что высокий говорят 1) скорее о самостоятельных предметах, чем о предметах, входящих в состав другого предмета; 2) скорее о крупных предметах, чем о мелких; 3) скорее о предметах, чья вертикальная ориентация принадлежит им самим, чем о предметах, которым придал вертикальное положение человек:
По данным словаря Фаулера, wide характеризует «расстояние, отделяющее границы предмета», a broad «размах того, что их соединяет». Соответственно этому пространственно-временная характеристика выявляется в предложениях, когда говорят о спине, груди, плечах broad. Преимущественно пространственно-временные прилагательные употребляются со словами – брови, лба, земли, полей шляпы. Напротив, о рукавах, брюках, глазах, рте, промежутках и в других случаях, когда «резко выражена идея разделения или удаленности границ», говорят wide, а не broad [Фаулер 1965: 66]. Это различие, в общем, близко к следующему: широкий (о полых предметах) – широкий (о сплошных предметах).
Как видим, прилагательные со значением места образуются в рутуль-ском языке от наречий. Возможны и композитные прилагательные из нескольких наречий: аалахъуъды «тот, который идет снизу» + (аила «снизу» + хьуъ «вперед» + ды); аалалаъды «тот, который идет снизу вверх» (аала «снизу»+ лаъ «вверх» + ды); ууласаьды «тот, который идет сверху вниз» (уула «сверху» + саь «вниз» + ды) и т.д. Форманты прилагательного, выделяющие признак один из нескольких подобных предметов, различаются аффиксами -бый: кьухьды-бый-ды «тот, который большой» и т.д.
В английском языке Г. Фатер к пространственно-временным прилагательным относит long, short, wide, high, low, small, deep, thin, thick, broad, little, large, имеющие признак протяженности. Именно протяженность в пространстве и составляет, по мнению Г. Фатера, основной семантический компонент первой группы пространственно-временных прилагательных, которые характеризуются им как дименсиональные дейктики. Кроме того, Г. Фатер выделяет пространственно-временные прилагательные, имеющие отношение к размеру, измерению и количественному выражению. Таковыми являются far, near, front, back, close, left, right, middle, central, next, last. Данную группу пространственно-временных прилагательных Г. Фатер квалифицирует как локативные единицы, которые могут иметь имплицитную форму, если говорящий исходит из того, что отношения к месту говорения для адресата и без того принимается во внимание [Vater 1996: 49-40].
Роль глаголов в выражении пространственно-временных комбинант
Семантика пространственно-временных комбинант проявляется не только между именными членами предложения (местоимения, прилагательного, числительного, существительного), но и между большим количеством слов, находящихся в отношениях с глаголами. При этом необходимо учитывать семантические отношения в области переходных и непереходных глаголов, способных образовать фразовые конструкции [Уфимцева 1968:122]. Таким образом, иерархические формы отражения мира рассматриваются как фиксированные единицы речи. Префиксальные и суффиксальные элементы глагола являются морфологическим средством выражения семантической структуры предложения. Наряду с семантикой пространственно-временных комбинант предиката, эмоции говорящего также участвуют в формировании парадигм понимания психических состояний, отражая оценочное отношение говорящего к действительности. Своеобразные формы познания говорящего и отражение действительности связывают границы пространственно-временной номинации и эмоционального содержания в высказываниях типа: гагъус «подложить, подпустить» = гаагъус «выпустить», «освободить»; каьчIус «войти, влезть, вмещаться»= каьаьчIус «выйти, вылезти, отойти», хъаIчIус «цепляться» = хъааIчIус «отстать» и т. д.. В специальной литературе, а также в привлеченном нами материале отмечены префиксальные (превербы) элементы, демонстрирующие пространственно-временную семантику в глагольной системе рутульского языка. В современном рутульском языке, по мнению С. М. Махмудовой насчитывается до 70 глагольных корней, образующих глагольные словообразовательные гнезда с помощью различных превербов [Махмудова 2001: 165]. При этом различаются поливариантные сочетания препозитивных элементов глагола. Как указывает А. С. Алисултанов, «при такой раскладке словообразующих единиц в структуре глагольных новообразований становится реальной реализация всевозможных оттенков и уточненных вариантов пространственного характера» [Алисултанов 1986: 10]. Значимость данной модели глагольного словообразования в лексико-семантической системе ру-тульского языка еще более возрастает, если учесть способность глаголов передавать как прямые, так и переносные значения, например: хьуъ лийчин «прыгнуть вперед», хъуъ сыхыIн «отступить, «подавать назад, задержаться, отвернуться, назад вернуться», лаъ кеетIин «поднять, возвысить, обсуждать» и т. д..
Чтобы продемонстрировать словообразовательные возможности английских глаголов, обратим внимание на то, что в рутульском языке значительная часть смысловых пар представлена не однокоренными образованиями, а такими парами, в которых английскому глаголу, соответствует словосочетания типа: аьчIв «входи во внутрь» // come in; ихь «клади» // put in; аьдахъваъ «копай во внутрь» // dig into.
Для этих и ряда других английских и рутульских глаголов эмотивной лексики выделяются разнообразные классификации типизированных психических состояний человека. Выявить и классифицировать все отношения не представляется возможным, но можно описать наиболее типичные и рас 53 пространенные случаи. При установлении характера семантических переходов различных глаголов с пространственно-временными комбинантами можно определить схему переходов, исходя из значения существительных и предполагаемых глаголов. Например, выделив из общей массы существительных слова со значением «инструмент, орудие», можно предположить, что такие существительные способны образовывать глаголы, означающие действия, выполняемые при помощи данных инструментов. Другими такими возможными переходами могут быть: лицо-действовать. Например: screw n. (винт) – screw v. (завинчивать, привинчивать, укреплять винтами); whip n. (кнут) – whip v. (хлестать, бить, погонять кнутом); machine n. (станок) – machine v. (обрабатывать на станке).
В глагольном словообразовании рутульского языка, в отличие от английского, префиксация занимает особое место. Более того, синтетизм, в отличие от аналитизма, обеспечивает полное слияние как вещественных, так и формальных частей пространственно-временных комбинант [Ибрагимов и др. 2007:124]. Пралезгинские префиксы, восстанавливаемые М. Е. Алексеевым, представляют аналоги современного рутульского языка [Алексеев 1985:34]. ал - «на, над» л - лихьис «класть на», ъ - «внутри» -ихьис «вкладывать», лъI - «под» г - гихьис «подкладывать», к - «в соприкосновении с» к - кихьис «добавить, окунуть», с - «внизу» с - сихьис «положить» хъ - «сзади» хъ - хъихьис «положить за чем - л.» Эмоциональное сопровождение говорящего=сейчас=здесь характеризует пространственно-временную лексику как метатекстовую функцию диалога рутульского языка: и-хьис «класть (вовнутрь)», си-хьис «класть (на что то)», хъи-тIес «привязать сзади», гь-агъус «полить» и т. д.. В английском языке посредством существительного образуются глаголы с пространственно-временной семантикой, обозначающих действия, выполняемых при помощи инструментов или вещей. В данном случае возможны следующие формы, которые образуются в парах с исходным существительным, означающим вещество, например: water n. (вода) – water v. (поливать); soap n. (мыло) – soap v. (намыливать). Кроме того, глаголы с пространственно-временной семантикой образуются в парах с исходным существительным, означающим лицо. В них производный глагол наиболее часто имеет значение «выполнять функции данного лица», например:
Стилистическая и эстетическая характеристика десемантизированных имен
Структурная организация имен собственных и нарицательных происходит по специфичным законам грамматики с формулировкой «десемантизи-рованные речевые формулы». Причиной их десемантизации является лексический указатель «субъект действия» с определенным сдвигом речи: говорящий с акцента семантики мотивирующих слов переводит аспект номинации на структурно-образовательный тип пропозициональных имен. Естественный путь создания имен, представляя собой сочетания речевых единиц говорящего, полностью включаться в контекст апеллятива субъекта и отождествляется с человеком. Элемент =ай не придает именам какого-либо оттенка, но создает разновидности личных имен дагестанского и тюркского происхождения: Ай-гум, Ай-бек, Ай-демир, Ай-ханум, Ай-бала, Ай-бике, Ай-джамал, Ай-мисе. С логической точки зрения тюркские и дагестанские имена обрастают разнородными принципами элемента =ай: Ма-зай, Тамам-ай, Ших-ай, Уст-ай и др. Стремление человека отразить в языке дух эпохи, принадлежность к роду, тухуму испытывает на себе влияние многовековой истории народов. Имен-ник любого народа Дагестана отражает закономерные процессы социального фактора, истории, верований и культуры. Ощущая себя неотъемлемой частью природы, человек создавал микромир повседневной жизни. В давние времена у рутульцев существовал своеобразный обычай наречения детей. Считалось, что козни злых духов приносили несчастье родителям, и для того чтобы обезопасить ребенка, родители нарекали особыми именами. Эти имена хранят в себе символику чувств и эмоций различных неречевых действий [Ши-халиева 2013:265]. Среди женских имен встречается имя Кюн-бике, которое содержит скрытое речевое высказывание кюн «солнце», бике «госпожа», т.е. «Госпожа Солнце»; Ай-бике букв. «Госпожа Луна». Имя символизировало материальную душу древних табуированных метафор, и тем самым являлось табуированной речью. Следует отметить и тот факт, в народе сохранились названия планет и звезд: название Венеры – Зура хIадий; Марса – Еквод хаIдий; звездное скопление – тIырыкыйбыр/Хылибыр (в переводе означает – «крылья»; шесть звезд, расположенные прямолинейно по три в виде крыльев птицы); млечный путь – мисийды хьаIл. Чисто внешнее сочетание различных слов, не имеющих между собой ничего, но табуирующие значения космогонической лексики способствовало впоследствии образованию теонимов. Антропоморфная теонимическая метафора в языках лезгинской подгруппы изобилует божествами покровителями природных объектов – горных вершин, рек, лесов, полей, дождей, озер. К древним богам цахуров, лезгин, табасаранцев, агульцев, арчинцев, рутульцев, хиналугцев, будухцев относится бог «Эр», который восседал на самой высокой горной вершине и оттуда управлял миром [Ибрагимов 2009:114]. В Его честь молодые (мужчины, женщины) устраивали боевые игры. Тысячелетиями сложившийся обычай получил название «Сейран», т.е. восхождение. Богиня охоты рутульцев Сифи-Хавалый табуирует метафору имен бога [Сефербеков 2011: 239]. Определенное место в мифологических представлениях народов Южного Дагестана занимал образ Кушкафтар/Ведьма. Источником для реконструкции этого мифологического персонажа служат мифы, былички, лексика и фразеология (формулы запугивания и обмана женщин, проклятия) [Ибрагимов 1988:129]. Зооморфный код культуры отражает монологическую лексему, представленную во фразеологических единицах рутульского языка: тылые-д на1клувхуд «наглый, жестокий человек» (букв. вскормленный молоком собаки). Таким образом, мифы, легенды, сказки, фразеологизмы начинали жить в установленном порядке человека. Образы покровителей охоты, зверей, демонические персонажи и особенности их функционирования в рутульском фольклоре выявляют речевые формулы микрополя «мифонимов». В мифологических рассказах рутульцев белая змея Каж выступает не только покровительницей и хранительницей домашнего очага, но и олицетворяет символ жизни [Ильдарова 2010:26]. Образ покровительницы пахоты и ковроткачества Туше-д рышба1 трансформировался в сказочный персонаж и получил широкое развитие многих народов Дагестана. Общелитературные слова рутульского языка актуализируются в сказочных терминах. Так, в бытовой сказке Зурбад къеденбыр гъаъа-д хьыл-ды «Искусная ткачиха» повествуются события об одной рукодельнице, которая всем раздавала шерсть для ковров.
Микромир повседневной жизни настолько глубоко вписывается в обычный для рутульцев контекст, что трудно выявить смысл скрытых формул-высказываний и их прагматико-коммуникативные следы. Различные иллокутивные сигналы позволяют выявить речевые номинации в компоненте топонимических названий: Хьач гъа-д хин «Черника, растущая на северной стороне», (с. Кала), Яцбыр лубзу-д майдан «Поляна, где останавливаются быки», Селим йыхыI-д майдан «Поляна, где убили Селима» (с. Кина). Средство выражения пространственно-временных номинаций обусловлены признаками активного и пассивного субъекта. Между различными пластами разговорной речи рутульского языка, где отражаются наименования топонимических единиц, осуществляется процесс обмена номинациями растительный миром. Например: Лысырды кьаIхь «Ложбина щавеля», Шыдкьыд вах «Канава мяты», ЫкIмыда «Около облепихи», ТебиргIанмыд мири «Долина мать-и-мачехи», ЦIынтарбыр гъад кьвакь «Чабрец растущий выступ», Кекудбыр гьаъад джига «Чабрец собирающее место» (с. Рутул), Хукада «Пастбище около дерева», ЫкIада фар «Облепиховая яма», Макьа чIуб «Астрагала лощина», ГIарашды кьуIджел «Альпийские луга змей», Харвакьахьдед харвакь – съедобное корневище, букв. «Место, где растет харвак», БычIбыр гъад майдан «Цветочная поляна» (с. Хнюх), Пашиере хыIр кывхьыIд джига «Место, где Паша посадил дерево груши» (с. Кина), ХыIр гъады «Груша растущая» (с. Куфа); МаIхв кид баIл «Обрыв, где растет осина», ХыIрийды хук кид выс «Склон, где растет дерево груши» (с. Шиназ) [Исмаилова 2009: 11]. Для названия пчелы в рутульском языке используется различные термины. Понятие «трутень» передается простой лексемой быз [Хайдаков 1973: 26]. Термин гъубагъ одинаково звучит во всех диалектах рутульского языка. С названием пчелы связаны следующие наименования: чIирыды гъубагъ (мух., мюхр.), букв. «земляная/ дикий пчела». Первая часть – прилагательное, вторая – существительное,; цIаркIымакь (мух.) =первый компонент цIаркIы цIаркIыд «пёстрый», второй компонент макь «астрагал». Сочетание «горький астрагал» связан с понятием яд, который несёт оса; чиритай (вуруш.) «оса», букв. «зеленовато-синие глаза» (мух.); ит гьаъад гъубагъ (мух.. мюхр.) «мёд делающая пчела»; ит вылцIад гъубагъ (мух., мюхр.) «мёд дающая пчел»; гвалах ваъад гъубагъ, букв. «работящая пчела»; гъубгъуд дарс «жало пчелы», букв. «пчелы урок». Матка пчелы обозначается самостоятельной лексемой гъубгъ-уд нин букв. «пчелы мама». Название жука в рутульском языке обозначается лексемой чIибкIантIый «твердый», в исходе лексемы представлена застывшая словообразовательная морфема тIый; встречается и другое название жука виргъинений букв. «солнца мама, маменька». Стилистический эффект нарушается при изменении валентного состава. Транспозиция создает дополнительную коннотацию в словарном составе рутульского языка: названия ту-хумов с. Борч – МаIхваIйер «Дубовые», Эллериер «Народные», БадукIар «Прозвище», Къалайер «Металл». Общая система субъязыка различает словарные пласты флористических и фаунистических речевых формул, связанных с видами разговорной речи. Применительно к общей системе пространственно-временной номинации, так называемая народная номенклатура, выявляет общеупотребительную лексику и научную терминологию. Многие слова из различных просторечных диалектов рутульского языка переходят в обиходно-разговорную речь, а оттуда в литературную норму, обретая, таким образом, межстилевой статус пространственно-временной номенклатуры. М.Н. Кожина в этой связи подчеркивает, что бывают и трудности случаи противоположного порядка, не различающие функциональные стили [Кожина 1983:69]. В частности, неоднородный анализ речевых видов выявляет гео 98 графические объекты, представляющих названия по именованию «животного». Многочисленные версии функций общения разграничивают процесс дальнейшей субклассификации функциональных стилей, далеких от беллетристических и художественных. С основой кьуIл образуются следующие названия: халды кьуIл во всех диалектах звучит одинаково, букв. «домашняя мышь»; чулдид кьуIл (мух., мюхр., ихр., шин.), чуIледы кьуIл (борч.-хнов.) «полевая мышь»; хукад кьуIл (мух., мюхр., ихр., шин., борч.-хнов.) букв. «дерева мышь», хьидид кьуIл (мух., шин.), хьийды кьуIл (мюхр., ихр., борч.-хнов.) букв. «водяная мышь».