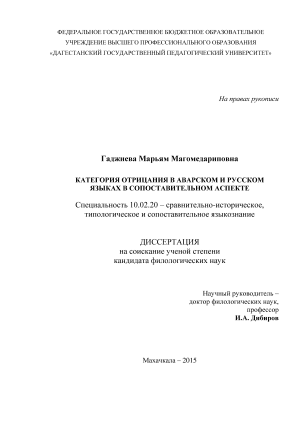Содержание к диссертации
Введение
Гл. 1. Теория отрицания и аспекты его сопоставительного исследования 18
1.1. Логико-философские концепции отрицания 18
1.2. Логико-грамматические концепции отрицания 40
1.3. Аспекты сопоставительного изучения отрицания 69
1.4. Выводы по первой главе 81
Гл. 2. Типы отрицания и их выражение в русском и аварском языках 84
2.1. Теория отрицания в описаниях русского и аварского языков 84
2.1.1. Средства выражения отрицания в русском языке 84
2.1.2. Степень изученности отрицания в аварском языке
2.2. Слово-предложение нет и его корреляты в аварском языке 102
2.3. Общее и частное отрицание в русском и аварском языках
2.3.1. Выражение отрицания при помощи глагола-связки гуро не есть, не-является кем-чем-каким-либо 114
2.3.2. Общее и частное отрицание, выражаемое аффиксальными морфемами глагола
2.4. Смещённое отрицание в русском и аварском языках 156
2.5. Кумулятивное отрицание в русском и аварском языках 163
2.6. Типы русского и аварского языков по характеру грамматического отрицания 174
2.7. Выводы по второй главе 179
Заключение 180
Список использованной литературы 188
- Логико-грамматические концепции отрицания
- Аспекты сопоставительного изучения отрицания
- Средства выражения отрицания в русском языке
- Выражение отрицания при помощи глагола-связки гуро не есть, не-является кем-чем-каким-либо
Введение к работе
Актуальность исследования. Описание отрицания в аварском языке проводилось до настоящего времени в традиционной формально-грамматической парадигме, без обращения к функционально-семантическим аспектам содержания предложения. Этому способствовала и сама специфика отрицания в аварском языке: система глагольных форм здесь состоит из параллельных рядов - ряда положительных форм времён, наклонений, деепричастий и причастий и "зеркального" ряда образуемых от них аффиксами отрицательных форм. В первом фундаментальном исследовании аварского языка - «Аварском языке» П. К. Услара говорится, что, зная формы положительные, можно составить все формы отрицательные, причём, без исключений [Услар 1889: 181]. В последующем отрицание в аварском языке также интерпретируется на уровне морфологических форм [Бокарёв 1949; Жирков 1924, 1948; Мадиева 1965; Саидов 1953, 1958; Атаев 1998; Нурмагомедов 2000; Маллаева 2002; Современный аварский язык 2012 и др.]. Опыт внутриязыковой либо межъязыковой интерпретации семантических и структурных типов отрицания аварского языка отсутствует. В то же время, сущность категории отрицания может быть адекватно описана именно на синтаксическом уровне как логико-грамматической категории, имеющей онтологические связи с суждением. С таких позиций оно описано в русском языке. Аварский язык тесно контактирует с русским во всех сферах коммуникации. Неисследованность этого сегмента грамматики аварского языка ведёт к ситуации, когда при изучении, например, общего, частного, кумулятивного и др. видов отрицания русского языка преподаватель не может предложить учащимся корреляты из аварского.
Цель исследования, исходя из изложенных выше обстоятельств, состоит в сопоставительном описании структурно-семантических типов отрицания русского и аварского языков для экспликации сходств и различий в его выражении и типологических характеристик отрицания аварского языка.
Цель исследования предполагает решение следующих задач:
1. Аналитический обзор и экспликация общелингвистических представлений
об отрицании как логико-грамматической категории, а также интерпретаций
отрицания в сопоставляемых языках;
2. Сопоставление отрицательных предложений аварского языка с их
эквивалентами в русском языке на базе содержательных признаков
отрицательных конструкций (общее, частное и др. типы отрицания);
-
Описание грамматических способов выражения содержательных типов отрицания в аварском языке на синтаксическом уровне, определение их основных признаков;
-
Установление типологического ряда, к которому можно отнести аварский язык по комбинируемым в нём грамматическим средствам построения отрицания (ряду языков одного, одного или двух, двух отрицаний);
-
Сравнение формально-структурных (морфологических, синтаксических) характеристик выражения отрицания в сопоставляемых языках.
Теоретической базой диссертации являются труды исследователей аварского и русского языков (ПК. Услар, Г.И. Мадиева, М.Д. Саидов, З.М. Маллаева, Б.М. Атаев, М.М. Нурмагомедов и др.; В.В. Виноградов, A.M. Пешковский, А.А. Шахматов, Ш. Балли, О. Есперсен и др.), а также труды по теории логико-грамматической категории отрицания (И.Н. Бродский, Н.А. Васильев, С.А. Васильева, X. Зигварт, Н.О. Лосский и др.), по сопоставительному и типологическому языкознанию (В.Н. Ярцева, Г.А. Климов, В.П. Нерознак и др.).
Метод и подходы, применяемые в работе, выработаны сопоставительной (контрастивной) лингвистикой, которая имеет «дело с попарным сопоставлением языковых систем (структур) ... с целью выявления их структурных и функциональных особенностей, сходств и различий (контрастов)» (В.П. Нерознак). В такой интерпретации этот метод применяется в ставших хрестоматийными книгах В. Д. Аракина, В.Г. Гака, в работе Э.М. Шейхова и др. и обозначается авторами дефиницией сравнительная типология. Для типологических изысканий более значимы получаемые при сопоставлении различия между языками (Б. Уорф, А.А. Реформатский, В.Н. Ярцева). В таком понимании этот метод обозначается термином контрастивный. В диссертации термины сопоставительный и контрастивный используются как синонимичные. Фундаментальное теоретическое обобщение сопоставительный метод получил в книге В.Н. Ярцевой «Контрастивная грамматика». В ней рассматриваются и два подхода к анализу материала: «от формы к значению» и «от содержания к форме». О преимуществах опоры на семантику говорят теоретики сопоставительного и типологического методов В.Н. Ярцева, В.П. Нерознак, С.Д. Кацнельсон, и др. Г.А. Климов подчёркивает, что «именно семантический фактор позволяет найти <...> основания для сопоставления формальных средств самых разных языков». С опорой на эти теоретические положения за основание сопоставления в диссертации приняты содержательные и структурные типы отрицания: общее, частное, кумулятивное, смещённое, морфологическое и синтаксическое и др. В направлении «от содержания к форме» выявляются в
аварском и русском языках корреляты по отношению к логико-информативным разновидностям отрицания, имеющим межъязыковую природу.
Материалом исследования послужили около 2000 фразовых примеров на аварском и русском языках из текстов художественной, публицистической литературы, фольклора, СМИ и устной речи. Использовались также материалы из "Аварско-русского словаря" (2006) и "Современного аварского языка" (2012), а также учебной литературы по сопоставляемым языкам. При интерпретации аварских отрицательных форм используются дословные переводы, некорректные с точки зрения русской речи. Это делается для демонстрации семантического содержания анализируемых единиц. Например, в "Современном аварском языке" предложение Шудадал дидехун бугеб божилъи дица хвезабиларо переводится как «Доверие дедушки ко мне я постараюсь оправдать». Словами постараюсь оправдать переведена отрицательная форма глагола хвезабиларо. Для понимания грамматического отрицания в аварском языке это мало что даёт, хвезабиларо (< хвёзаб/изе 'портить, разрушать') полезнее перевести как "разрушать не буду, разрушая не есть".
Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые в аварском языкознании рассматриваются вопросы теории отрицания, внутриязыковой и межъязыковой типологии грамматических способов его выражения в парадигме логико-грамматических концепций отрицания. Сопоставительное описание отрицания аварского и русского языков также проводится впервые.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные наблюдения помогут написать более современные и полные учебные и теоретические грамматики аварского языка, а также расширят общелингвистические представления о способах языкового выражения категории отрицания.
Практическая ценность полученных в исследовании результатов состоит в том, что они могут быть использованы в преподавании русского языка в дагестанских школах и вузах, курсах по типологическому языкознанию и переводу, сопоставительным грамматикам русского и аварского языков, в составлении учебников и теоретических грамматик аварского языка.
Гипотеза исследования. Семантические типы отрицания могут различно структурироваться в языках разных типологических классов и в пределах групп родственных языков. Конструкции общего, частного, кумулятивного и др. типов отрицания аварского языка отличаются, с одной стороны, от соответствующих конструкций русского языка и, с другой стороны, от грамматических конструкций отрицания, например, в родственном лезгинском языке.
Положения, выносимые на защиту:
- основным грамматическим средством отрицания в аварском языке являются аффиксы, образующие отрицательные формы финитных и нефинитных предикатов. Финитные формы выражают фразовое общее отрицание, но могут выражать и семантически частное отрицание. Нефинитные отрицательные формы образуют структурно присловное, а семантически частное отрицание;
- специализированные грамматические средства, закреплённые за общим
либо частным отрицанием в аварском языке, как и в русском, отсутствуют.
Отрицательные глаголы-связки гуро и гьечіо также могут формировать как
общее, так и частное отрицание;
- имеется типологическое сходство между русскими и аварскими
конструкциями, в которых фразовое отрицание является семантически частным. В
таких конструкциях компоненты обстоятельственной семантики перетягивают
отрицание на себя, они похожи на конструкции со смещённым отрицанием (рус.
Он далеко не ушёл (= он не далеко ушёл); авар. Пов жакъад кватіун еачіинчіо
'Он сегодня поздно не пришёл (= не поздно пришёл)');
возможности смещения отрицания обусловлены позиционной мобильностью самого форманта отрицания. Он может быть привязанным к глагольной форме как его аффикс, а может обладать мобильностью, как русская частица не или связки аварского языка гуро и гьечіо. Возможности смещения отрицания в конструкциях с вспомогательными глаголами гуро и гьечіо шире;
- в аварском языке имеется и кумулятивное (усиленное), но отсутствует
множественное отрицание, когда для построения одного отрицания требуется
более одного грамматического средства (типа не и ни в русском, пе и pas во
французском). По характеру комбинирования таких средств аварский язык
относится к языкам одного отрицания;
- в аварском языке отсутствует абсолютное отрицание. В нём нет
равнозначного русскому слову-предложению Нет универсального отрицания.
Поэтому аварский язык можно отнести к языкам без абсолютного отрицания;
- с точки зрения формально-структурных характеристик в аварском языке
преобладает синтетический, аффиксальный способ выражения отрицания, в
русском языке преобладает аналитический способ.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры общего языкознания ДГПУ (2011-2014), нашли отражение в докладах и сообщениях на международных научных конференциях «Лингвистика: традиции и перспективы» (Махачкала, 2012), «Теоретические и прикладные вопросы науки и образования» (Тамбов, 2015), «Актуальные направления научных исследований: от теории к практике» (Чебоксары, 2015) и «Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия» (Новосибирск, 2015), на итоговых научно-теоретических конференциях аспирантов и преподавателей Дагестанского государственного педагогического университета (2011-2014). Они отражены в 12 публикациях автора по теме исследования, из которых 4 статьи опубликованы в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Объём и структура диссертации. Общий объем работы составляет 208 страниц (из них 187 страниц основного текста). Работа состоит из введения, двух глав, заключения, а также списков использованной литературы и применяемых сокращений. Библиографический список включает 250 наименований работ.
Логико-грамматические концепции отрицания
Философские, логические и лингвистические концепции по-разному трактуют суть категории отрицания. Вернее, эти концепции интерпретируют отрицание с разных точек зрения. Категория отрицания сама по себе многоаспектна и поэтому является предметом научного обсуждения в философии, формальной логике, психологии, грамматике, семантике, в современных направлениях лингвистики, таких как психилингвистика, когнитивистика, прагматика.
Наличие большого числа концепций отрицания объясняется и тем, что оно как языковая категория может выражаться единицами различных уровней языковой системы. Причём, как в различных языках, так и в пределах одного какого-либо языка. Это обстоятельство делает целесообразным описывать категорию отрицания в виде функционально-семантического поля (ФСП). Такое описание отрицания предлагается, например, Н.В. Борзенок в диссертации «Отрицание в системе языка и текстовой деятельности» [1998: 61-125]. Отрицание может содержаться также имплицитно, в самом лексическом значении слов {отказаться = не согласиться) либо выражаться при помощи интонации в соответствующей речевой ситуации {Стану я пса кормить... пёс - животное умное, сам найдет себе пропитанье (Тургенев), = Не стану я пса кормить...), т.е. без участия собственно отрицательной формы. Для построения ФСП отрицания, достаточно эксплицитно отражающего средства его выражения на всех ярусах языковой системы, надо располагать подробным описанием единиц всех уровней, выражающих эту семантику. Для аварского языка, как представляется, это задача довольно масштабная, не одной диссертации. В данной работе основное внимание уделяется именно грамматическим средствам построения отрицательных высказываний, составляющих ядро ФСП отрицания аварского языка.
Многочисленные концепции категории отрицания группируют на разных основаниях. Например, лингвистические и формально-логические концепции выделяются в [Бондаренко 1983; Борзенок 1998]. Концепции отрицания подразделяются и на онтологические, гносеологические и психологические, а в [Пилатова 2002] трактовки отрицания рассматриваются в рамках определённых направлений языкознания, таких как логико-грамматическое, психологическое, прагматическое и когнитивное. А В.Н. Бондаренко в диссертации «Отрицание как логико-грамматическая категория» [1983] психологическую концепцию выделяет как для формально-логического направления, так и для лингвистического.
Проводить разграничение между различными концепциями достаточно сложно, т.к. они во многом переплетаются, затрагивают одни и те же характеристики обсуждаемого явления. Мы считаем возможным делить все концепции отрицания на две группы в зависимости от того, на чём концентрируются в них исследовательские усилия. Считаем, что центральным объектом научного интереса, присутствующим во всех концепциях отрицания, является отрицательное суждение. Одна группа концепций сосредоточивает усилия на установлении референта отрицательного суждения в реальной действительности, в них больше обсуждаются онтологические основания отрицания. Мысль иследователя движется от отрицательного суждения (в его логической форме) к его корням в реальной действительности, что является, видимо, задачей философского плана. Эту группу концепций считаем возможным обозначить дефиницией логико-философские концепции отрицания. В другой группе концепций устанавливаются связи суждения с лингвистическими, прагматическими, психологическими аспектами репрезентации логической структуры суждения в грамматической структуре языка. Здесь исследовательская мысль движется от суждения к языку и обратно, от языка к суждению. Эту группу концепций мы считаем возможным обозначить дефиницией логико-грамматические концепции отрицания. Как видим, в центре внимания, в качестве как бы исходного пункта научного анализа, и тех и других концепций оказывается логика, т.е. суждение как предмет логической науки, и тем самым - язык, языковые структуры, являющиеся реальными формами, в которых материализуются логические суждения. Обсуждение логического суждения, естественным образом, не обходится без обсуждения связей суждения и форм его языкового выражения. Впрочем, без обращения к языковым структурам не обходится ни одна концепция. И это не удивительно, известно, что именно от строя естественного языка отталкивались даже логико-математические теории общей семиотики.
Группируя в нашей работе представленные в научной литературе концепции отрицания именно таким образом, при их обсуждении мы, разумеется, используем закрепившиеся за ними традиционные обозначения.
В центре внимания формально-логических концепций находится вопрос о реальном референте отрицания, иначе говоря, об отражаемом в содержании отрицательного предложения факте реальной действительности. Например, равноценны ли по своему смыслу высказывания Дождя не будет на этой неделе и Дождь будет не на этой неделе, или же их смысловое содержание различно. В высказывании Дождь будет не на этой неделе не отрицается, что дождь, всё-таки, будет. В этом смысле это предложение можно считать и утвердительным. Но это частноотрицательное предложение, так как отрицание относится не к сказуемому. Таким образом, единых формальных критериев различения отрицательных и утвердительных высказываний нет. С проблемой реального референта отрицательного высказывания связана и интерпретация отрицания как выражения идеи отсутствия.
Аспекты сопоставительного изучения отрицания
Проводить резкую разделительную линию между грамматическими и логическими категориями, между предложением и суждением, по-видимому, невозможно, потому что такой границы между ними, видимо, и нет. Логические понятия, законы формулировались в неразрывной связи с наблюдением над свойствами языковых единиц - слов, предложений. Логика и грамматика были поэтому на протяжении длительного исторического развития синкретичными. Этот синкретизм наиболее ярко проявляется при обсуждении характеристик логического суждения и грамматического предложения, при обсуждении отрицания в логике и грамматике. Наука преодолевает синкретизм логического и грамматического только после философских грамматик 16-17 вв. Объясняется это просто - логика и грамматика имеют общую онтологическую базу - мышление. Что касается категории отрицания, то в её понимании грамматическая наука не может обоходиться без логики, а логика без обращения к грамматике. Естественным является поэтому определение отрицания и в наше время как логико-грамматической категории, хотя внутри её проводится подразделение на формально-логические и собственно лингвистические концепции, напр., в [Бондаренко 1983]. Однако, иногда напротив - логико-грамматическое направление в трактовке отрицания включают в число лингвистических направлений, напр., в [Пилатова 2002]. Мы же группируем в диссертации концепции отрицания на логико-философские и логико-грамматические по следующим соображениям. Во всех рассматриваемых концепциях отрицания логический аспект оказывается ведущим. Даже лингвистическая содержательная типология отрицания тесно сопряжена с отрицательным суждением. При этом, отталкиваясь от логического содержания отрицательного суждения, ряд концепций обсуждает онтологические отношения отрицания с объективной действительностью. Эти концепции мы и объединили в логико-философские. В других концепциях обсуждаются отношения логического отрицания с конкретными языковыми структурами, в которых отрицание репрезентируется. Их мы объединяем в логико-грамматические концепции и обсуждаем в данном параграфе.
В таком понимании взгляды на отрицания объединяются в логико-грамматическое направление, но логико-грамматическая концепция отрицания выделяется также в качестве самостоятельной, например, в [Пилатова 2002: 10-15]. Она возникла первой по времени и является самой теоретически разработанной и распространённой. Для остальных концепций она является базовой, потому что, несмотря на иногда весьма существенные различия даже в понимании самого отрицания, каждую из них можно рассматривать как углубленную разработку лишь отдельных аспектов теории отрицания. В каком-то смысле логико-грамматическая концепция отрицания может считаться родовой по отношению к остальным как видовым. Ряд положений этой концепции уже обсуждались выше в связи различиями между логическим и грамматическим отрицанием. Здесь же вернёмся к тезису о том, что логико-грамматическая концепция считает отрицание выраженным языковыми средствами элементом смысла суждения, имеющим объективное основание в действительности.
Утверждение и отрицание трактуются как что-то существующее и несуществующее соотвественно, как присущее и неприсущее объекту мысли в реальности. В этом заключается объективность отрицания в логико-грамматической интерпретации. Кроме того, отрицание, как и суждение в целом, характеризуется как истинное или ложное [Айзенштадт 1949; Гетманова 1972; Трунова 1978 и др.]. При этом следует различать отрицание как выражение идеи несуществования и отрицание как опровержение ложного суждения. В последнем случае отрицание является только лишь мыслительной операцией, которая с объектами реальной действительности никак не соотносится. Такое отрицание вторично относительно утверждения и применяется именно для опровержения высказанного либо подразумеваемого утверждения. Следовательно, такое отрицательное суждение является суждением о другом суждении, а не о реальности. Оно является лишь способом выражения знания о ложности какой-либо мысли. Поэтому некоторые исследователи [Лосский 1912; Минкин 1963; Падучева 1974 и др.] сводят смысл такого высказывания к формуле «Неверно, что ...».
Другие теоретики отрицания считают, что сферой действия отрицания является логическая связка. Как считает Н.Д. Арутюнова [1998: 832], отрицание аннулирует отнесённость предиката к субъекту, снимает связь между ними. Аристотель [1976] рассуждал схожим образом - он делил суждения на утвердительные и отрицательные в зависимости от качества логической связки и считал, что отрицание относится именно к связке. Связке и её функциям отводили основную роль в формировании отрицания также A.M. Пешковский и Г.Г. Почепцов. По мнению A.M. Пешковского отрицание является элементом значения предложения, указывающим на отсутствие связи между его компонентами. Суть отрицания, как он писал, «...с синтаксической точки зрения сводится к тому, что связь между теми или иными двумя представлениями при помощи этой категории сознается отрицательно, т.е. сознается, что такая-то связь, выраженная такими-то формами слов и словосочетаний, реально не существует» [Пешковский 1956: 386]. А по мнению Г.Г. Почепцова категория отрицания есть отрицание предикативной связи между подлежащим и сказуемым [Почепцов 1998: 181].
Средства выражения отрицания в русском языке
Такое союзное слово не относится ни к сказуемому главной части предложения, ни к какому-либо иному члену главного или придаточного предложения, оно относится ко всей ситуации придаточной конструкции и имеет значение, близкое русскому не то {не {стало то) если): Пали, мун вуціціа, гурони дица мун классалдаса кьватіиве гъезе вуго Али, ты молчи, не то (не будет того, т.е. твоего молчания, если) я тебя выгоню из класса . Собственно отрицания в таких конструкциях нет, грамматическое средство отрицания используется в них для усиления утвердительной семантики. Но в контексте отрицательного сказуемого главной части предложения такое союзное отрицание выступает как отрицание отрицания, аннулируя отрицательный смысл сказуемого, как это происходит в предложении 5: Дун сон кутакалда унтун вукіана, {\)гурееани рокъов {2)ч1елароан Я вчера сильно болел, (1)а то бы (не будь того) (2)не остался бы дома (т.е. не болел бы если, не остался бы; на самом деле остался). На наш взгляд, и такое, союзное, отрицание может быть интерпретировано как частное отрицание, поскольку оно относится к ситуации придаточной конструкции, а не к главному предикату высказывания.
Для понимания семантики и функций связки гуро и производных от неё единиц интересно перевести дословно и рассмотреть примеры их употребления, приводимые в [АРС 2006: 311-312]: Гъаб нижер гіака гуро Это наша корова не-есть ; Гъаб чу гуро, гіорціен буго Это не лошадь, а мул (лошадь не-есть, мул есть) ; Гъадав чи дур гъоболищ? - Гуро, дир гъудул вуго дов Этот человек твой кунак? - Нет, он мой друг (не-есть (кунак), мой друг есть он) ; Гъеб анціго гуро, ичіго буго Это не десять (десять не-есть), а девять ; Гъеб гуро due кьваригіараб Не это мне нужно (это не-есть мне нужное) ; ТІоцебесеб нухалъ гуро дос нилъ гуккулел ругел Не первый раз он нас дурит (первый раз не-есть нас он обманывает) ; А махсара гуро Кроме шуток (шутка не-есть) .
Производная от гуро единица гуродаи квалифицируется в словаре как послелог не... ли на том, видимо, основании, что она следует после слова, к которому относится. Но постпозиция - это обычное место для связки в аварском языке. В данном случае мы имеем одну из модальных форм связки гуро, что видно и из приводимого в словаре примера: Дур эмен гуродаи вачіунев вугев? Не твой отец ли приближается (доел.: твой отец не-есть-ли приближающийся)? ; Тукатіа гуродаи дов хіалтіулев вугев? Не в магазине ли он работает (в магазине не-есть-ли он работающий)? Как видим, послелогом можно считать эту единицу только лишь исходя из её позиции в речевой цепи, но по функции и семантике это форма глагола-связки, образующая соответствующие грамматические формы именного сказуемого или какого-либо другого члена предложения, в Дур эмен гуродаи вачіунев вугев? подлежащим является вачіунев вугев приближающийся; тот, кто подходит , а сказуемым эмен гуродаи отец не-есть-ли . Поэтому считать эту единицу послелогом не совсем логично. Форма связки гуро гурони переводится в словаре словами кроме, только, всего, также, видимо исходя из русского смыслового перевода, но фактически это тоже форма глагола-связки. Рассмотрим данные в словаре же примеры: Бугеб гурони къезе кколаро, кьураб гурони квине кколаро (погов.) Подари только то, что имеешь, покушай только то, что предлагают . Это смысловой перевод, но для анализа грамматических отношений предпочтительнее, видимо, более близкие по семантике переводы, например, Чего не имеешь, того не подаришь, чего не предлагают, того не съешь , а дословно Имеющееся не-есть-если, дать не сможешь, предлагаемое не-есть-если, съесть не смождешь ; Вац гурони, кумекалъе чи еачіинчіо Кроме брата, никто не пришёл на помощь . По смыслу здесь слово кроме для перевода вполне подходящее, но доел. перевод: Брат не-есть-если (не стало если, не будь), для-помощи кто-либо не пришёл .
Во всех этих примерах, связка гуро и производные от неё единицы гуродай, гурони грамматически оформляют сказуемое предложения или форму зависимого предиката, т.е. выполняют функции отрицательной связки, а не послелогов. При этом форма гуро в этих примерах оформляет фразовое (при сказуемом) отрицание, как общее (Гъаб нижер гіака гуро Это наша корова не-есть и др.), так и частное (Гьеб гуро due кьваригіараб Не это мне нужно (это не-есть мне нужное) и др.). Кроме того, как видим, отрицательная конструкция с гуро не обязательно должна содержать противопоставление (ср.: [Алексеев, Атаев 1997: 78-81], а также [Шейхов 2004: 155-158]). Производные от гуро единицы гуродай, гурони оформляют присловное отрицание, которое является в этих примерах и частным отрицанием.
Форма связки гуреб (рурев, гурел) является единицей адъективной семантики, это видно уже по конечным классно-числовым показателям {-б, -в, -л). Такую структуру имеют отглагольные прилагательные - причастия. Эта единица даётся в словаре как частица не. В русских смысловых переводах льикіаб гуреб нехороший , микки гуреб, батіияб хіинчі не голубь (голубь не-есть), а другая птица не- или не, разумеется, отрицательная частица, но морфологическое содержание льикіаб гуреб несколько иное: хороший-Ш кл. не-есть-Ш кл. (т.е. хорошим не являющийся; тот, что хороший не есть) . Здесь мы имеем причастную форму отрицательной связки гуро не-есть , и именно она в сочетании с прилагательным льикіаб хороший аналитически образует то значение, которое в русском языке передаётся прилагательным нехороший. Но такие смысловые корреляции вряд ли дают основания считать связку гуреб частицей не или послелогом кроме в льим гуреб жо гьекъоларо кроме воды, ничего не пьёт (а доел.: вода не-есть-Ш (не-есть-которую) вещь не-пьёт) . Та же адъективная (причастная) форма связки функционирует и в примерах, переводимых при помощи русских слов ничтожный, пустячный, чушь. Такие переводы мало дают для грамматической итерпретации обсуждаемых единиц. Представление о семантической структуре этих единиц дают дословные переводы: гуреб жо не-есть-что (III кл.) вещь, т.е. не являющаяся чем-то существенным вещь, ничтожная вещь ; гурел жал рицунге не-есть-что(мн.ч) вещь говори-не, т.е. не являющиеся чем-то существенным вещи, чушь не говори . Таким образом, и здесь мы имеем не частицы не или ни, или же послелог кроме, а словоизменительные формы отрицательной связки гуро не-есть, не-является кем-чем-каким-либо .
Выражение отрицания при помощи глагола-связки гуро не есть, не-является кем-чем-каким-либо
В аварском языке средства отрицания находятся в составе глагольной формы, синтетической либо аналитической, независимо от того, к какому члену предложения они относятся по смыслу. Отрицательные глаголы-связки гуро и гьечіо допускают инверсию. В общем случае они находятся в постпозиции к отрицаемому компоненту, но, как и русское отрицание не, относительно мобильны, хотя грамматически связки всегда относятся к сказуемому. Рассмотрим и сравним ещё примеры:
Дун эбелалъе яс абизе гуро дуде аскіове вачіун вугев, диего абизе вачіун вуго (Ф.П.Къ., 56) Я пришел к вам сватать невесту для себя, а не для матери (доел.: Я для матери девушку просить не-есть к вам близко пришедший, для себя просить пришедший есть) . Отрицание в этом высказывании находится в составе сказуемого {вачіун вугев гуро не пришёл (пришедший не-есть) ), сферой его действия является косвенный объект {эбелалъе для матери ), от которого отрицание перетягивает сказуемое. Отрицание является здесь фразовым (структурный тип), но частным (семантический тип). Как видим, при смещении отрицания соотношение его структурного и семантического типов не соответствуют правилу: в общем случае фразовое отрицание является одновременно и общим отрицанием. В этом предложении связка гуро могла бы находиться и после отрицаемого компонента {эбелалъе гуро), и в конце сказуемого {вачіун вугев гуро) без изменения смысла;
Гъезул я гіурус гуреб, я магіарул гуреб, гъурун бараб рохъалда релъараб маці буго (Р.XI. Дир Дагъистан, 76) У них и не аварский, и не русский, похожий на поваленный лес язык (доел.: У них ни русский не-есть, ни аварский не-есть, на порубленный лес похожий язык есть) . В этом предложении связка гуреб не есть / не является (кем-чем-каким-л.) формирует частное отрицание - отрицается определение: язык у них не русский и не аварский. Отрицание это является одновременно и присловным - не при сказуемом (релъараб маці буго). Однако смещённым это отрицание не является, так как оно находится при компоненте, к которому и относится. Обычная позиция отрицательных связок в аварском языке - непосредственно за отрицаемым словом, хотя допускается и инверсия, как в примере (5);
Амма хъазал я ччугіби гуро, я булбул гуро, я ціумал гуро (Р.XI. Дир Дагъистан, 77) Туей, они и не рыбы, они и не соловьи, и не орлы (доел.: Однако гуси ни рыбы не есть, ни соловьи не есть, ни орлы не есть) . Позиционно и семантически отрицание в этом примере, на первый взгляд, похоже на отрицание в предыдущем примере (6). Однако здесь, на наш взгляд, перетягивания отрицания нет. Здесь глагол гуро ипользуется для выражения ситуации идентификации или отождествления {что является / не является чем). Т.е. гусь не есть рыба - это общее отрицание, а их язык есть не русский язык {но язык) в примере (6) - это частное отрицание, т.к. отрицается не то, что он язык, а его определённый признак, что он русский или аварский.
Дир ракі географиялъул карта гуро, ялъуни дун Дагъистаналъул карта бахъулеб гьечіо (Р.ХІ. Дир Дагъистан, 33) Мое сердце не географическая карта, разве же я не рисую (в своих стихах) карту Дагестана (доел.: Мое сердце географическая карта не есть, ...). Здесь, как и в примере (7) отрицается тождество чего-то чему-то: хъазал булбул гуро гуси соловьи не- есть (= гуси не соловьи есть) , ракі карта гуро сердце карта не-есть (= сердце не карта есть) . Выражаются логические смыслы: гуси есть гуси, а не соловьи; сердце есть сердце, а не карта, - но отрицание в аварском языке находится при связке, управляющей отрицаемым словом. Следовательно, при широком понимании смещения такие случаи можно интерпретировать как перетягивание отрицания к связке от управляемого ею компонента.
Дица лъиданиги релълъун вукіине, ялъуни щив вугониги тамашалъизавизе гуро сочетал хъеарал (ГІ.Д. Падамазе рохел бикьулев, 192) Я сонеты написал не для того, чтобы подражать кому-либо или чтобы удивить кого-то (доел.: Я на кого-нибудь похожим быть чтобы, или же кого-нибудь развлекать чтобы не-есть сонеты написал) . Здесь отрицание фразовое, при сказуемом (не написал = написал не есть), но частное -отрицается цель действия (не для того, чтобы подражать или удивить). Следовательно, отрицание здесь смещённое, перетянутое к сказуемому от отрицаемого компонента.
Инсуца гуро дида гъеб хабар бицараб, дирго гъудул ХІамзатица бицана Не отец рассказал мне эту весть, а мой же друг Гамзат (доел.: Отец не есть мне эту новость рассказазавший, а ...) . Сказуемое здесь бицараб гуро не рассказал (рассказавши не есть) , значит, отрицание фразовое, но семантически оно частное, т.к. сама ситуация рассказал не отрицается. Поскольку направлено отрицание не на сказуемое, но грамматически связано с ним, то можно считать такое отрицание фразовым, частным, смещённым.
Как видно из примеров, обычно смещенное отрицание - это отрицание при сказуемом, которое перетягивает его на себя. Но к явлению смещения отрицания относят и случаи его перетягивания на предлог. Напр., Не в свои сани не садись = В не свои сани не садись ; Не за своё дело не берись = За не своё дело не берись . Отрицание по смыслу относится здесь к местоимению свой, а синтаксически связано с предлогами в, за, которые подчиняют это местоимение. Т.е., под смещением отрицания понимается не только его «подъем» (перенос из придаточного оборота в сказуемое), но также от подчиненного инфинитива к подчиняющему глаголу или модальному слову, или же от местоимения к управляющему им предлогу, как в этих примерах. При таком широком понимании смещения отрицания как его "перетягивание" можно интерпретировать и примеры типа (7) и (8), обсуждаемые выше.
Наблюдение над аварским материалом и его сравнение с русским показывает, что возможность смещения отрицания обусловлена, в первую очередь, позиционной мобильность самого форманта отрицания. Он может быть жёстко привязанным к глагольной форме как его словоизменительный аффикс, а может обладать относительной позиционной мобильностью, как русская отрицательная частица не или отрицательные связки аварского языка гуро и гьечіо. Исходя из этого, чтобы оценить возможности перетягивания отрицания в аварском языке, кратко прокомментируем в этом аспекте его грамматические средства построения отрицательных конструкций.
Как уже отмечалось выше, основным грамматическим средством построения отрицательных конструкций в аварском языке являются аффиксы -ро, -ро-, -р-; -чіо, -ч1о-, -ч1-; -ге, -ге-. С их помощью образуются синтетические отрицательные формы финитных (модально-временные формы наклонений и времён) и нефинитных (причастий, деепричастий, мае даров) предикатов. Финитные отрицательные формы выступают в роли фразового и, в общем случае, общего отрицания, но могут выражать и семантически частное отрицание. Например: Гъеб ханждал дица бахъухъ гьабуларо (Ф. П.) Из этой муки я халву не делаю (= Я халву делаю не из такой муки) . Отрицание здесь фразовое, но сферой его действия является косвенный объект {не из этой муки). Сказуемое перетягивает на себя формант грамматического отрицания {гьабуларо не делаю ), т.е. это смещённое отрицание.