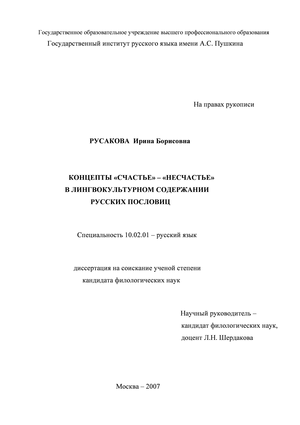Содержание к диссертации
Введение
Глава I. О проблеме дефиниции концептов «счастье» - «несчастье» 10
1.1. Понятие концепта и аспекты его изучения 10
1.1.1. К определению термина «концепт» 10
1.1.2. Структура концепта и способы его вербализации 19
1.1.3. Типология концептов 26
1.1.4. Вопрос о методике когнитивного анализа 33
1.2. Концепты «счастье» - «несчастье» как объекты изучения гуманитарных наук 39
1.2.1. Представление о счастье и несчастье в философских учениях 39
1.2.2.Проблема счастья и несчастья в психологических исследованиях 57
1.2.3. Представление о счастье и несчастье в русской национальной традиции 64
Выводы по главе 72
Глава П. Лексико-семантический уровень репрезентации концептов «счастье» - «несчастье» 73
2.1. Внутренняя форма и развитие семантики лексем «счастье» - «несчастье» 74
2.2. Семантическая сеть концептов «счастье» - «несчастье» (по данным толковых словарей) 90
2.3. Синонимические ряды лексем «счастье» - «несчастье» 98
2.4. Словообразовательные дериваты лексем «счастье» - «несчастье» 104
2.5. Значимые семантические признаки лексем «счастье» - «несчастье в представлениях языковой личности 109
2.6. Содержание концептов «счастье» - «несчастье» по данным ассоциативного эксперимента 112
Выводы по главе 122
Глава III. Репрезентация концептов «счастье» - «несчастье» в синтаксических структурах пословиц 125
3.1. Пословица как объект лингвистического анализа 126
3.2. Репрезентация концептов «счастье» - «несчастье» в русских пословицах 130
3.3. Счастье и несчастье: сочетаемость и употребление 139
3.4. Особенности синтаксических структур пословиц с концептами «счастье» - «несчастье» 143
3.5. Показатели информативно-ситуативного членения как способ выявления концептуально значимых характеристик счастья и несчастья 152
Выводы по главе 155
Заключение 158
Библиография 167
- Типология концептов
- Внутренняя форма и развитие семантики лексем «счастье» - «несчастье»
- Пословица как объект лингвистического анализа
Введение к работе
Современное языкознание характеризуется возрастанием роли антропоцентрического, культурологического и когнитивного подходов к изучению языка, который выступает источником сведений о концептуальных структурах сознания.
Концепты могут получать различное формально-материальное выражение в языке при помощи слова, высказывания, текста. Изучение национально детерминированных концептов традиционно осуществляется на базе слов с глубоким семантическим потенциалом, прежде всего, абстрактных имен.
Одна из стратегий описания базовых концептов культурно-языкового сознания заключается в описании отдельных концептов на конкретно избранном языковом материале. Паремиологический фонд языка является одним из продуктивных источников исследования лингвокультурных концептов. Пословицы и поговорки представляют собой структурно - семантически организованную систему. Они фиксируют константы сознания и культуры, значимые для всех носителей данного языка, определяют систему оценок окружающего мира, являются единицами, позволяющими выделить и проанализировать базовые концепты.
Актуальность настоящей диссертационной работы определяется
значимостью проблемы взаимосвязи языка и культуры, паремиологии и культуры в частности, сложностью субъективно-объективной природы ключевых концептов «счастье» - «несчастье», а также значимостью исследований в области лингвоконцептологии при обучении русскому языку, в том числе русскому как иностранному.
Объект исследования - пословицы, в которых представлены концепты «счастье» - «несчастье».
Предмет исследования - анализ лингвокультурных характеристик концептов «счастье» - «несчастье» на материале пословиц.
Цель диссертационного исследования - описание концептов «счастье» -«несчастье» с учетом формальной и семантической организации русских пословиц, репрезентирующих данные концепты.
Задачи исследования:
определить теоретическую базу исследования;
проследить историю становления понятий «счастье» - «несчастье» в философских исследованиях, определить психологические основы данных концептов;
выявить содержание концептов «счастье» - «несчастье» на материале русских пословиц;
установить специфику концептов «счастье» - «несчастье» в русской национально-культурной традиции;
дать структурно-семантическую характеристику пословиц, репрезентирующих концепты «счастье» - «несчастье»;
произвести лексикографический анализ лексем, репрезентирующих концепты «счастье» - «несчастье» с целью выявления концептуально значимых признаков счастья и несчастья;
эксплицировать содержание концептов «счастье» - «несчастье» по результатам экспериментальных методик исследования;
установить неоднозначность оппозиции «счастье - несчастье», выявить взаимообуславливающую природу данных концептов.
Методологические основами исследования являются: общефилософский подход, способствующий пониманию онтологии объекта; когнитивный подход, представляющий язык как средство познания; антропоцентрический подход, помогающий выявить «человеческий фактор» в языке; системный подход, позволяющий рассматривать смысловую сферу, репрезентирующую изучаемые концепты в целостности составляющих ее элементов; аксиологический подход, позволяющий установить посредством данных концептов ценностное отношение человека к окружающему миру. При рассмотрении репрезентации концептов «счастье» - «несчастье» на разных уровнях языка нами применяются
6 методы этимологической и словообразовательной реконструкции, компонентный и сравнительный анализ, анализ словарных дефиниций, психолингвистические методы исследования: метод прямого толкования слова, свободный и направленный ассоциативный эксперименты.
Материалом исследования послужили пословицы. Анализ
паремиологической репрезентации концептов «счастье» - «несчастье» проводился на материале более 30 сборников пословиц и поговорок (всего 435 пословичных единиц). Привлекались данные различных словарей (толковых, этимологических, синонимических, антонимических, словообразовательных, фразеологических, мифологических, функционально- когнитивных, словарей сочетаемости, ассоциативных и энциклопедических словарей), а также данные используемых нами экспериментальных методик исследования.
Теоретическими основами исследования являются идеи, заложенные в работах по когнитивной лингвистике (труды А.П. Бабушкина, Н.Н. Болдырева, А. Вежбицкой, З.Д. Поповой, И.А. Стернина, В.З. Демьянкова, Н.Ф. Алефиренко, Ю.С. Степанова и др.), психолингвистике (работы А.А. Леонтьева, А.А. Залевской, P.M. Фрумкиной и др.), философии языка и семантике (работы Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апресяна, Л.О. Чернейко и др.), лингвокультурологии (работы В.В. Красных, В.И. Карасика, Г.Г. Слышкина, Ю.Н. Караулова, В.В. Колесова, В.Г. Костомарова, Ю.Е. Прохорова, В.М. Мокиенко и др.), мифологии и культурологии (исследования А.А. Потебни, В.Н. Топорова, А.Н. Афанасьева и др.).
Научная новизна настоящей работы заключается в получении комплексных характеристик концептов «счастье» - «несчастье», представляющих собой оппозицию, компоненты которой могут соотноситься друг с другом по принципу взаимообусловленности: исследование концептов проводится с учетом их включения в широкий контекст философских, психологических, национально-культурных исследований. Приводится описание лексико-семантического уровня репрезентации концептов «счастье» -«несчастье», устанавливается этимология и история развития содержания
7 соответствующих лексем. Исследование концептов «счастье» - «несчастье» проводится на материале пословиц, структурно-семантический анализ которых также позволяет выявить особенности понимания концептов, установить неоднозначность и взаимообусловленность компонентов оппозиции «счастье» -«несчастье», определить их межконцептуальные связи.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования, результаты комплексного описания концептов могут представлять интерес для дальнейших научных поисков в области когнитологии и лингвокультурологии, способствовать более глубокому пониманию природы ментальных сущностей. Комплексный подход, реализуемый нами при исследовании концептов «счастье» - «несчастье», позволяет проследить закономерности формирования обобщенной семантики ключевых лексем, которая во многом обусловлена аксиологической направленностью и антропоцентричностью исследуемых концептов.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы и основные положения работы могут использоваться в лексикографической практике при составлении функционально-когнитивных, синонимических и толковых словарей; в курсе лекций по когнитивной лингвистике, лексикологии и паремиологии русского языка; в практике преподавания русского языка, а также русского языка как иностранного.
Положения, выносимые на защиту:
Концепты «счастье» - «несчастье» представляют собой оппозицию, компоненты которой могут относиться друг к другу по принципу взаимообусловленности;
Характеристика концептов «счастье» - «несчастье» во многом обусловлена их представленностью определенными лексемами и их семантическими признаками. Изучение лексико-семантической репрезентации данных концептов позволяет определить концептуально значимые характеристики счастья и несчастья;
Структурно-семантический анализ пословиц позволяет более полно представить содержание концептов «счастье» - «несчастье» и раскрыть их концептуальные связи;
Использование экспериментальных методов исследования позволяет
установить индивидуальную, субъективно обусловленную наполненность
лексем, репрезентирующих концепты «счастье» - «несчастье», установить
степень осознания носителями языка внутренней формы представляемых для
толкования слов, определить сходство ассоциатов - синонимов и
семантических компонентов языкового значения лексем «счастье», «несчастье». Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (сентябрь 2006). По теме диссертации делались доклады на межвузовских научно-практических конференциях в Московском гуманитарном педагогическом институте (декабрь 2004, 2005), на VI и VII Кирилло-мефодиевских чтениях (Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, май 2005, 2006). Основные положения диссертации изложены в шести статьях.
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. В первой главе обобщаются теоретические сведения по концептуальной лингвистике, анализируются основные понятия, в рамках которых проводится анализ концептов «счастье» - «несчастье», рассматривается история становления понятий «счастье» - «несчастье» в философских исследованиях, а также психологические основы данных концептов; определяется специфика концептов «счастье» - «несчастье» в русской национально-культурной традиции. Во второй главе проводится лексико-семантический анализ единиц, репрезентирующих данные концепты, в том числе, с применением экспериментальных методик исследования, выявляются основные когнитивные признаки концептов. В третьей главе представлен структурно-семантический анализ пословиц, репрезентирующих концепты «счастье» - «несчастье». В
9 заключении отражаются основные результаты исследования. Приложения включают в себя перечень словообразовательных дериватов лексем «счастье» -«несчастье», сочетаемость лексем «счастье» - «несчастье», данные экспериментов, схемы, в которых представлены основные сходные и различные концептуально значимые признаки исследуемых нами концептов.
Типология концептов
Существующие классификации отражают разные аспекты изучения концептов.
По степени интеграции семантических структур концепты подразделяются на суперконцепты, макроконцепты, базовые концепты и микроконцепты (Убийко 2001, 118-119).
Самую высокую степень интеграции семантических структур отражает суперконцепт - глобальная семантическая категория, которая лежит в основе функционально-семантических сфер языка. Он представляет собой семантический потенциал единицы до ее реализации в речи и получает то сжатое, то развернутое представление в разных языковых единицах. Суперконцепт обобщает значения всех слов определенного смыслового пространства и выступает в качестве семантической категории наибольшей степени абстракции (Гафарова, Кильдибекова 1998, 85). Суперконцепты распадаются на частные концепты, представляющие собой иерархические ментальные образования разной степени сложности.
По типам ментальных структур представления знаний (Бабушкин 1996) и степени их абстракции ( Болдырев 2001) в когнитивной лингвистике выделяют следующие типы концептов:
Мыслительные картинки (представления) - дискретные единицы, «галереи образов» в коллективном сознании людей. Они объективируются в так называемых образных семах, которые актуализируются в процессе восприятия «реальных» предметов окружающего нас мира.
Схемы - концепты, представленные обобщенными пространственно-графическими образами («река» как голубая лента).
Гиперонимы - очень обобщенные образы. Гипонимия предполагает отношения подчинения между словарными единицами разного уровня обобщения. Семантика гиперонимов-схем (концептов, содержащих картинку, например: «обувь» - схема, повторяющая форму ноги человека) и гиперонимов - логически конструируемых концептов (концептуальная основа обозначающих их слов сводится к вербальному определению, не содержит аллюзий к чувственному образу, а апеллирует лишь к логическим компонентам) представляется архисемой. Так, архисема «мебель» объединяет семантические признаки класса предметов комнатной обстановки: столы, стулья - гипонимы.
Фрейм - совокупность хранимых в памяти ассоциаций. Концепт-фрейм имплицирует комплексную ситуацию; его можно сопоставить с «кадром», в рамки которого попадает все, что типично и существенно для данной совокупности обстоятельств.
Теория фреймов была разработана М. Минским. Структура фрейма содержит два уровня: в первый верхний уровень включаются постоянные данные, всегда справедливые для анализируемой ситуации, в нижний - «слоты», т.е. переменные конкретные данные той или иной практической ситуации. С точки зрения теории фреймов, человек, сталкиваясь с той или иной ситуацией, извлекает из памяти «готовый» фрейм, который позволяет ему действовать определенным образом (например, фрейм «торговля»). Фрейм служит базой для формирования контекстных ожиданий в плане дальнейшего хода событий. С другой стороны, он задает рамки допустимых интерпретаций. Механизм фрейма выступает в роли когнитивного ограничителя на процесс понимания естественного языка.
Кроме схемы сцен (фреймов) различают схемы событий (скрипты или сценарии). Сценарий отличается от фрейма фактором временного измерения. Сценарий заключает в себе знания о сюжетном развитии событий, которые помогают человеку ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях: например, ситуация «посещение ресторана».
Инсайт - знания об устройстве и функциональной предназначенности предмета (например, «зонтик»).
Концепты абстрактных имен (калейдоскопические концепты) представлены в виде мыслительных картинок, фреймов, схем, сценариев, связанных с переживанием и чувствами. Данные концепты отличаются «текучестью», за ними не закреплен постоянный ментальный образ. Каждый раз этот образ способен «калейдоскопически» меняться (Бабушкин 1996, 38).
Понятие - концепт, содержащий наиболее общие, существенные признаки предмета или явления, его объективные, логически конструируемые характеристики. Понятия репрезентируются значениями тех слов, которые передают лишь словесные определения обозначаемых предметов. Концептуальные признаки понятийного характера могут также репрезентироваться именами собственными, ставшими нарицательными (Дон Кихот, Робин Гуд, Цицерон).
Прототип - категориальный концепт, дающий представление о типичном члене определенной категории: например, представления об идеальной хозяйке, о типичном автомобиле. Данные концепты служат опорными точками, с помощью которых человек членит свои знания об объектах и явлениях окружающего мира на определенные категории и выносит свои суждения о них.
Пропозициональная структура или пропозиция - модель определенной области нашего опыта, в которой вычленяются элементы (аргументы и связи между ними), даются их характеристики. Семантические отношения между аргументами представляются в виде определенных семантических функций: агенс, пациенс, экспериенцер и др. Осознавая собственный опыт в терминах пропозиции, человек налагает на него определенную концептуальную структуру - модель в виде базового предиката и его аргументов (Болдырев 2001, 37). Гештальт - концептуальная структура, целостный образ, который совмещает в себе чувственный и рациональный компоненты в их единстве и целостности, результат целостного, нерасчлененного восприятия ситуации, высший уровень абстракции. Гештальт может рассматриваться как начальная ступень процесса познания: самые общие нерасчлененные знания о чем-либо. С другой стороны, гештальт может пониматься как наивысшая ступень познания, когда человек обладает исчерпывающими знаниями об объекте, владеет всеми типами концептов. Гештальт в таком понимании трактуется как концептуальная система, объединяющая все перечисленные типы концептов, а концепт мыслится как родовой термин по отношению ко всем остальным, выступающим в качестве его видовых уточнений.
Концепт, фрейм, гештальт имеют ментальную природу, но характеризуют единицу хранящейся в памяти информации с разных сторон. Гештальт подчеркивает целостность хранимого образа, его несводимость к сумме признаков. Фрейм акцентирует подход к изучению хранимой в памяти информации, выделяет части, т.е. структурирует информацию, конкретизируя ее по мере разворачивания фрейма, это гештальт в его динамике, строении и связи с другими гештальтами. Концепт - это хранящаяся в индивидуальной либо коллективной памяти значимая информация, обладающая определенной ценностью, это переживаемая информация. С позиций психологии наиболее адекватным понятием для обозначения ментальных репрезентаций является гештальт, с позиций когнитивной науки, занимающейся анализом типовых ситуаций, которые повторяются в ежедневном поведении людей и закрепляются в памяти как обобщенные представления с определенными ожиданиями и реакциями, таким понятием является фрейм, с позиций культурологии и лингвокультурологии, где на первый план выходит значимость явления для культуры, его ценность, таким понятием становится концепт. В этом ряду термин «понятие» представляет собой сгусток рациональной части концепта, т.е. содержание, которое включает только существующие характеристики объекта и рационально мыслится, а не переживается (Карасик 2004а, 128 - 129).
По сложности структуры можно выделить три типа концептов (Стернин 2001, 60 - 61). Одноуровневый концепт включает только чувственное ядро. Такая структура характерна для концептов - предметных образов и некоторых концептов - представлений. Многоуровневый концепт включает несколько когнитивных слоев, различающихся по уровню абстракции. Концепт может быть сегментным: он состоит из базового чувственного слоя, окруженного несколькими сегментами, равноправными по степени абстрактности.
Внутренняя форма и развитие семантики лексем «счастье» - «несчастье»
Изучение любого концепта невозможно без обращения к этимологии его лексемы. Этимологическая реконструкция позволяет вскрыть первоначальную образную картину мира. Данные этимологических и исторических словарей помогают раскрыть историю развития значения у слов, репрезентирующих концепт, позволяют наметить возможные направления его дальнейшего смыслового варьирования.
Анализ значений лексемы в разных языках позволяет нам говорить об этимологической связи слова с синонимами, омонимами. Этимология раскрывает многие ассоциативные связи, закрепившиеся в сознании людей. Она связана с мифологией, поскольку отражает представления людей, их нравы, обычаи, верования.
Согласно данным этимологических словарей, праславянское Sb-c stbje (белор. щастя , др.-чеш. scestie , чеш. stesti - «счастье», sfastny -«счастливый», слвц. sfastie , sfastny , польск. szcz scie ) восходит к sb\ др.-инд. su- «хороший» + cqstb «часть», т.е. «хороший удел», «хорошая часть». По мнению Бернекера, слово «счастье» - первоначально «доля, совместное участие». Эта этимология несомненна для позднецерковнославянского съчжстънъ - «причастный» (Фасмер 1987 т. III, 816). У И.И. Срезневского счастіе употребляется в новом значении - «удача», съчастльвыи -«благополучный» (Срезневский 1989, т. III, 864).
Судя по данным этимологических источников, гиперонимом имен «счастье» - «несчастье» и семантическим архетипом соответствующих концептов является судьба «как путь человека, предназначенного ему богами, как часть, доля, которой наделяется человек при рождении» (Воркачев 2003, 126). Таким образом, обозначение судьбы как участи, удела связано с представлением о том, что человек получает в результате решения высшей силы. Идея распределения связывает судьбу с делением на части. Акт изначального распределения благ, который происходит в момент появления каждого человека, отражается в словах «доля, недоля, участь, удел, счастье, несчастье, удача», в некоторой степени в слове «бог». Доля человека может не соответствовать задаткам и достоинствам человека, и в этом смысле она случайна: доля выпадает, ею наделяют лишь однажды (См.: Никитина 1994, 131).
Как отмечают В.В. Иванов и В.Н. Топоров (Иванов, Топоров 1965, 67 - 68), разновидности первого члена оппозиции «счастье - несчастье» может быть представлена бессуфиксальной формой, ср.: ст.-польск. czqsc , в частности, «доля», «судьба»; с.-хорв. счест (в том же значении); второй член противопоставления может выражаться сложными словами типа: болг. хзлачест - «несчастье», с.-хорв. сзлочест , «плохой, несчастный» (ср. честит «счастливый»), ср. также злосчастие в известном памятнике русской литературы; с этим же корнем связано другое обозначение судьбы - участь: Бойся не бойся, а от части (участи) своей не уйдешь. Существительные с префиксом у- в русском языке обозначают количество предмета, полученного в результате действия, названного мотивирующим словом (РГ 1970, 158), приставка - сообщает корню значение окончания действия (Потебня 1914, 190).
А.А. Потебня в работе «О доле и сродных с нею существах» отмечает, что корень счжстъ (в скр. чішсі ) - нечто отрезанное, в старославянском, сербском, украинском, русском - «счастье, доля» в хорошем смысле: Сидень сидит, а часть его растет.
По данным Н.М.Шанского и Т.А.Бобровой, счжстъ - производное от той же основы kend , что и лат. scindere - «отделять, отрезать», лит. kandu -«кусаю». Исходное kendtb часть после изменения к в ч перед гласными переднего ряда en е_ и далее a, dt tt ст (Шанский, Боброва 1994, 360). Таким образом, «часть» восходит к корню со значением конкретного физического действия «кус» (Толстая 1994, 143 - 147).
Лексема доля также по происхождению связана с семантикой деления: др.инд. cdalam - «кусок, часть, половина», ср. также укр. сдоля\ польск. dola ст.-слав. одолЬти // родственно лит. cdalia, dalis - «часть, доля», лтш. dala, dalis , др-прусск. dellieis , ст.-чеш. dole , s dolV- «счастливо, успешно» (Срезневский, т. I, 697, Фасмер, т. I, 526). Доля - недоля могут соотноситься с противопоставлением счастье - несчастье. В пословицах недоля (бездолье) противопоставляется доле в значении счастья: Недоля пудами, доля золотниками. Вместе с тем, в других фольклорных текстах доля имеет уточнения (добрая, несчастная, лихая, злая доля), что говорит о нейтральном характере лексемы по признаку «оценка»: А долейка наперед до ее идэ, Коли добрая, то ходы зо мною, А коли злая-лихая, не становиса зо мною (Довнар-Запольский 1895, 335). Согласно славянским дохристианским воззрениям, счастливой или несчастливой долей человека наделяют божества - Род и Рожаницы. Род -божество славянского пантеона, с которым связана одна из особенных черт славянского менталитета - почитание предков, неотрывность от своих корней.
На это указывает этимология слова «род»: и.-е. корень uerdh- ( ur6dh-) «расти, разрастаться, подниматься. Др.-рус. (с XI в.) родъ - «происхождение, семья», «племя», «народ», «родина» (Черных 1993, т. II, 118). В основе этих значений лежит представление о природе как производящей силе (Афанасьев 1869, гл. 25, 390). С верой в Рода соединяется идея судьбы, предопределения. На связь рода с судьбой указывают пословицы: Такова наша доля: на то знать мы родились; Кому что народу написано.
В христианской традиции доля, полученная при рождении, дается человеку Богом: Господня воля - наша доля. Не родом старцы (т.е. нищие) ведутся, а кому Бог велит (приведет). У лексем «доля, часть, участь, удел» актуализируются семы «предопределенность», «невозможность что-л. изменить», «данность», «зависимость от божьей воли».
Возможны и отклонения от доли, однако большинство из них - результат проявления своеволия, которое не может привести к счастливому исходу, (Своя волюшка доводит до горькой долюшки), поскольку является неповиновением воле Бога. Последняя может быть воплощена в родительских наставлениях. Так, несчастья добра молодца из «Повести о Горе и Злосчастии» начинаются с того, что он хочет жить как ему «любо», хвалится своим счастьем, однако «всегда гнило слово похвальное, похвала живет человеку пагуба». К тому же, «кто родителей своих на добро учения не слушает», того выучит Горе злочастное (Сборник духовных стихов, составленный В. Баренцевым 1860). Отклонением от прирожденной доли является и воздействие чужой злой воли - порчи, колдовства. Оно связано с нечистой силой, которую можно отвести с помощью заговоров, т.е. также, с точки зрения христианства, нечистой силы. В любом случае отклонение от счастливой или несчастливой доли является нарушением правил, известных человеку (такими правилами могут быть ношение креста, совершение молитвы). С человека не снимается ответственность за происходящее (Никитина 1994, 133).
Пословица как объект лингвистического анализа
Пословица - устойчивое, ритмически и грамматически организованное изречение, имеющее форму высказывания, в котором зафиксирован опыт народа и его оценка определенных жизненных явлений (Русский язык: Энциклопедия 1979, 219).
В «Напутном» В.И. Даль определяет пословицу как «суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот». Полная пословица состоит из двух частей: из обиняка, картины, общего суждения и из приложения, толкования поучения (Даль 1984, 13).
Пословицы отражают жизнь народа, как современную, так и историческую, первобытную, знакомят нас с суевериями, нравственными правилами, представлениями об окружающем мире, людях, отношении к ним. В пословицах о счастье и несчастье можно проследить следы мифологического мировоззрения (Бойся не бойся, а от (у)части своей не уйдешь), исторических событий (Отогрелся в Москве, да замерз на Березине. 1812г.), церковно-христианского учения (Бог тому дает, кто правдою живет), народного творчества (У него счастье одноглазое - из сказки).
При исследовании картины мира, закрепленной в языке пословиц и поговорок, необходимо учитывать антропоцентрический характер паремийной семантики. В пословицах отражается действительность, непосредственно связанная с человеком, с его видением мира, с характеристикой психологических свойств его личности. Анализ пословиц позволяет также уточнить когнитивные признаки исследуемых концептов, «природу и характер» счастья и несчастья, определить их роль в жизни людей, выявить возможные противоречия, парадоксы, заключенные в интерпретационных слоях данных концептов.
Комплексный анализ структурно-семантической организации пословицы учитывает наличие у нее значения, соотносимого с одним или несколькими концептами, например: значение пословицы «После ненастья приходит и счастье» соотносимо при различном прочтении с концептами «надежда», «вера», «терпение», «судьба» (Зимин 1996, 154; Семененко 2000, 103).
Неразрывная связь формы и содержания пословицы обусловлена не только закрепленностью, но и обобщенностью ее значения, т.е. вселичностью и панхронической (всевременной) направленностью действий - состояний. Формальными средствами выражения обобщенности пословичной структуры выступают лексические группы, лишенные способности конкретизировать ее содержание.
Использование в пословицах средств художественной образности (сравнения, олицетворения, синекдохи, метафоры и др.) позволяет отнести пословицу к числу художественных произведений.
Важным представляется учет синтаксического строения пословицы, поскольку не «всякая форма способна выражать пословичное значение, но только та, которая позволяет обобщать представляемое содержание, и при этом отличается смысловыразительными возможностями» (Тарланов 1999, 58).
Пословица отличается ритмичностью, информационной насыщенностью, что обусловлено использованием как синтаксических, так и информативно актуализирующих средств, к которым относится фразовое ударение, интонация, порядок слов, частицы.
Итак, пословицы представляют собой объект исследования, который представляет определенную систему, организованную структурно и семантически: пословицы строятся по регулярно воспроизводимым моделям; фиксируют контакты сознания и культуры, значимые для всех носителей данного языка; имеют постоянное значение; воспроизводят наивное сознание с четко выраженными мифологическими элементами; определяют систему оценки окружающего мира, иерархию ценностей народа; определяют концепты, наиболее значимые для языкового сознания (См.: Жданова 2004, 152 - 153).
Нерешенным в языкознании остается вопрос о включении пословиц во фразеологическую систему языка, а также проблема признания пословиц единицами языка или речи
Пословицы и поговорки признаются фразеологизмами, отличительной чертой которых является устойчивость и воспроизводимость (Шанский 1964, 201 - 202; Архангельский 1964, 103 - 104; Виноградов 1977, 133 - 134). Другая позиция заключается в отрицании возможности отнесения пословиц и поговорок к кругу фразеологических единиц (А.И. Молотков, A.M. Бабкин). А.И. Молотков, определяя отличие пословиц от фразеологизмов, указывает на то, что пословица отличается синтаксической законченностью, представляет собой грамматически оформленное суждение.
Л.Б. Савенкова предлагает изучать пословицы и поговорки как самостоятельные языковые единицы, обладающие признаками устойчивости, воспроизводимости и анонимности, более сложные в своей логической основе, чем слово или фразеологическая единица. Кроме того, «в дискурсе для каждой пословицы и поговорки возможен контекст дидактического характера» (Савенкова 2002, 67).
Пословица характеризуется формально-синтаксическими и содержательными признаками, отличающими ее от фразеологических единиц. Она является знаком ситуации и отношений между явлениями, имеет форму предложения, выражает суждения, ее нельзя идентифицировать при помощи слов - синонимов. Пословица является эквивалентом целого рассказа, описания событий; она обобщает жизненный опыт в виде общепринятых правил (Верещагин, Костомаров 1990, 72 - 74; Фелицына 1964, 202; Тарланов 1999, 35 -36).
Если пословичное суждение имеет обобщающий синтезирующий смысл, то поговорка судит о конкретном случае, реализуя значение, не составляющее суждения. Поговорки служат оживлению речи, больше подходят для выражения чувств.
Дискуссионным остается вопрос о возможности включения пословиц и поговорок в число языковых знаков.
129 Функциональная самостоятельность пословицы обусловлена логической сущностью, что позволяет увидеть в пословице не номинативную, а предикативную единицу (Телия 1966, 44).
Ю.А.Гвоздарев отделяет пословицы от собственно фразеологизмов и указывает на особенности функционирования пословицы в тексте: «Широкий контекст конкретизирует суждение, заключенное в пословице, однако она не вступает в синтаксические связи с другими словами» (Гвоздарев 1977, 24).
Несмотря на то, что пословица способна выступать в речи в виде отдельного предложения, она может включаться в состав предложения на правах его компонента, выступать в качестве развернутой замены одного из его частей. Пословицы могут употребляться в тексте с выдвижением в центр одного из значимых элементов, варьирование пословиц может проявляться в виде эллипсиса. Также, пословица может вводиться в текст с помощью слов и конструкций, подчеркивающих ее распространенность и общеупотребительность. Таким образом, доказательством языкового характера конкретной пословицы служит ее массовая воспроизводимость (Верещагин, Костомаров 1990, 73; Русский язык: Энциклопедия 1979, 219).
Г.Л. Пермяков рассматривает пословично-поговорочные структуры как паремиологические знаки, близкие таким языковым знакам, как слово и фразеологизм (Пермяков 1977, 86).
Л.Б. Савенкова характеризует пословицу как микротекст, укладывающийся в рамки одного предложения. Это может быть текст - повествование, когда в паремии представлен имеющий развитие сюжет: Растопырил пальцы - счастье увязло: рот нараспашку - а оно и туда; текст - описание, позволяющий определить то или иное явление, отношение к нему: Счастью не во всем верь; текст, в котором устанавливаются логические связи между реалиями: Не бывать бы счастью, да несчастье повезло.
Пословица представляет собой единство формы и содержания, соотносится с отдельным фрагментом внеязыковой действительности. Используемые для обозначения ситуаций и отношения между ними пословицы выступают в качестве единиц языка и служат средством более яркого, образного выражения мыслей в процессе общения.
Мы полагаем, что устойчивость и воспроизводимость пословиц позволяет признать их частью фразеологии. При этом синтаксические и содержательные особенности пословичных выражений являются основанием их отнесения к отдельной группе фразеологизмов.